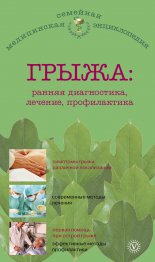Лёха Адлерберг Николай

Первым сообразил Жанаев, схватив стоявшие рядом с ним канистры. Немец кивнул поощрительно. Семенов тоже ухватился за те канистры, что волок. Глядя на них, и Лёха поднял свою. Тут же в зад ему прилетело что-то очень больное, такого ощущать раньше не приходилось, аж слезы брызнули. Камуфлированные весело заржали, добротным таким лошадиным ржачем. Оглянувшись, Лёха догадался, что ему отвесил пендаля веснушчатый приземистый автоматчик. В исполнении подкованным сапогом получилось очень больно.
– Dieser Schelm aus Schlaraffia! [6]– смеясь, выдал тот, у которого был игрушечный автоматик. Остальные опять захохотали.
– Хотят, чтобы мы все канитсры уволокли, – догадался вслух Семенов.
– Так если я еще одну возьму, все равно одна останется – жалобно возразил Лёха.
Тем временем веснушчатый поднял винтовки без затворов и свистнул, как собаке свистят. Взгляд у него был намекающий достаточно прозрачно.
– И хотят, чтобы винтовки мы тащили, – опять же, смекнул Семенов.
Хорошо, что догадался, потому как ждать немцы совсем не собирались, и, скорее всего, пленные получили бы еще пинков и затрещин, а так винтовки повесили на спину Лёхе, Семенов содрал со своего поясного ремня подсумки и захлестнул ремешком две канистры, не без труда подняв их себе на плечо, Жанаев сделал так же, использовав свой рюкзак, а Лёха получил на плечо свой ремень с теми же двумя канистрами.
– Кобуру подсунь под ремень, иначе спину надерешь, – успел подсказать боец. Себе он подсунул под ремень подхваченные с земли чуни, на которые немцы не обратили особого внимания. И пленных погнали по дороге совсем не туда, куда они шли.
От тяжести у Лёхи глаза на лоб полезли, пот полил струями, да еще и конвоиры – а их было двое: долговязый со штыком и веснушчатый с «обычным» автоматом – задали достаточно быстрый темп. Но он понимал, что ребятам, которые по очереди волокли седьмую канистру, еще тяжелее, чем ему. От натуги дороги он не видел, солнце светило вовсю и жарило по-летнему. Казалось, что вот сейчас он просто сдохнет, но ноги, хоть и подгибались, но несли его исправно, особенно когда Лёха убедился, что для пущего веселья конвоир колет штыком в задницу того, кто отстает. Оказалось, что пендаль все-таки был не таким болезненным, как постоянно повторяющиеся уколы.
– Сейчас упаду и сдохну, – обреченно думал Лёха, дергаясь вперед от очередного укола. Но не дох. Потом то ли немцу надоела развлекуха, то ли он на что-то отвлекся, и они с веснушчатым довольно мирно болтали, но ожидая очередного тычка в зад, пленные старались поспешать.
Сколько пришлось так идти – Лёха бы не сказал, но, видимо, все-таки не очень долго. Совершенно внезапно конвоир рыкнул безапелляционным приказным тоном:
– Halt![7]
Это было понятно всем троим, тем более что когда Лёха немного пришел в себя, сгрузив со спины канистры и немного отдышавшись, он увидел, что на обочинке дороги стоят два небольших серых грузовичка и большая легковушка, что ли. Или джип? Тоже, к слову, серый и с брезентовой крышей. Грузовички были под тентами и сильно напоминали и полуторку, и оставшиеся в прошлой жизни «Газели», только на их радиаторах были два угла остриями вверх – как у машин Ситроена, только большие. А вот на высоко стоящем вроде как джипе красовался знакомейший знак «Мерседеса». Ну, совершенно такой, как привычно. Лёха сам удивился тому, на какую ерунду уходит его внимание. Просто ему было не то что страшно – ему было жутко и, наверное, такими пустяками он старался как-то отвлечься.
Клинковый штык был совсем рядом, и он Лёху пугал почти до обморока. Вот как застрелили Петрова – не напугало совершенно, а представить, что начнут резать или колоть таким вот штыком, и теплое тело почувствует, кроме боли, еще и холод мертвого металла там, где этому металлу быть не должно… Что-то в этом было настолько неправильное, дикое, что Лёху ознобом прошибло.
Немцы тем временем переговорили с теми своими сослуживцами, что были при машинах, один из них понюхал бензин из канистр, кивнул, и в крайнюю машину по знаку конвоира пленные закинули канистры и винтовки. Встали, ожидая дальнейших приказов и чувствуя себя очень нехорошо. Но, к облегчению всех троих, конвоир кивнул на машину и сказал так же кратко:
– Los![8]
Сесть пришлось на пол, на скамейки у выхода сели оба конвоира, и машинка резво дернула по дороге, подняв шлейф пыли.
– Вот влипли, так влипли, – шепотом сказал Лёха.
– Du! Halt die Fresse![9] – рявкнул тот, что со штыком.
Что это значило, менеджер не знал, но решил, что лучше сидеть тихо и не привлекать к себе внимания. Сидеть, правда, было очень неуютно, зад и так болел от могучего пинка и уколов штыком, да еще и трясло немилосердно, так что на досках кузова ему было очень неприятно. Но идти с канистрами было еще хуже.
Боец Семенов
На душе было так паскудно, как давненько не бывало. Все рухнуло в момент, и от этого злоба душила. И на немцев, и на Петрова, а в первую голову – на себя самого. Не хотелось ведь идти обратно, как чуяло сердце. И когда пошли – хотел ведь взять всего пару этих самых канистр – опять же, как чуял, что не дело Петров предложил. Нельзя было такой груз хапать, не по силенкам вышло. И пока шли – не раз прикидывал, что надо нести только пару канистр, а остальные оставить и уже на танке этом приехать за ними.
Прикидывал, но понадеялся на «авось». А батя не раз говорил, что авось с небосем водились, да оба в яму свалились. Не факт, конечно, что он бы этих немцев раньше засек, если б шел впереди налегке и с одной винтовкой, не факт. Но могло и иначе выйти – и тогда бы разминулись: фрицы не цепью шли, не облава – видно, поисковая группа или как у них там называется. Да и шумные в лесу Петров с Жанаевым, по одной канистре неся, все ж таки тише были б. А с канистрами – загремели под фанфары, как говаривал в деревне один шелапутный мужичишко. Точно, германцы издаля услыхали – и удачно перехватили.
Теперь Петров валяется в лесу мертвее мертвого, бумажонки из его ранца германцы с собой забрали. Одна радость, что кровищи из пробитого пулями тела в ранец столько налилось, что не заметили немцы этой коробочки с цветными живыми окошечками, что у потомка забрали – побрезговали в нищем окровавленном солдатском имуществе рыться. И бензин чертов только немцам в радость. Сами принесли своими же ручками. Бежали-торопились. Знал бы такое дело – у той полуторки лег бы спать до следующего утра, лишь бы с этими пятнистыми разминуться. А так и часы покойного взводного забрали, и парашют, и все харчи.
Даже луковицы чертов Фриц нащупал и взял, ничего не оставил. Лучше б деревенским или даже танкистам отдал – не так досадно было бы. Так бы и врезал сам себе по морде, да только проку от этого нет совсем.
Так еще и потомок этот им же, Семеновым, доставлен вопреки приказу не к кому из наших командиров, а прямиком к германцам. Первый же допрос – и все, будет он птичкой певчей по глупости своей несмышленой выдавать все, что попало. И черт его знает, что выдаст. Это Петров считал, что ничего толкового от этого навязавшегося на шею дурня из будущего не вызнать. Считать-то считал, а когда попались – сам за винтовку схватился, хотя прекрасно видел, что ни черта не успеет – германцев и больше было, и к стрельбе уже готовы, и стояли грамотно – полукругом, стрелять они могли все и сразу, своих не цепляя. Никак не успеть было.
И не дурак был Петров – за прошедшее время он себя толковым бойцом показал, инициативным и смышленым. Была возможность у Семенова в этом наглядно убедиться. И потому казалось бойцу, что неспроста Петров так поступил, потому как если бы Жанаев не повалился с потомком вместе, а остались бы они стоять – все, что в Петрова летело, и по замыкающим пришлось бы неминуемо. Говорил же токарь до того, что надо потомка прикончить, пока хуже не вышло. Вот и постарался в последний миг германскими руками это сделать. Хитрый азиат как почуял что, больно уж упал вовремя и удачно, да еще не один, потому хоть и били по Петрову трое, а прошли все германские пули над лежащими.
И винтовки в плен попали – боевое оружие, которое терять никак было нельзя. Хотя с этим как раз не так паршиво, Петрову теперь все равно. Буряту тоже один черт – на нем ружье записано не было, а на Семенове был записан пулемет, не винтовка. Так что с этим претензий не будет, когда к своим выйдут. Вот с Лёхой этим может быть худо. Черт, так радовался Семенов, что удалось его приодеть, да еще и в летное, качественное обмундирование. Теперь германцы к нему цепляться будут – видно же, что не пехота, а воздушные силы. Одна радость, что покойник в болоте не командиром был, всего только старшиной, иначе бы точно серьезно занялись Лёхой сразу. Но раз везут куда-то, да еще и на машине, значит, еще могут заняться. И Семенов, наклонившись к уху Лёхи тихо, но внятно прошептал:
– Ты не вздумай, сукин кот, трепаться им, что из будующего, дескать!
Потомок мрачно кивнул, стараясь, чтобы это было незаметно. Проскочило: как раз конвоиры отвлеклись на что-то, их заинтересовавшее, и, глянув туда, куда они глядели, Семенов сразу и не понял, что это такое. С его положения сидящего на полу в машине дороги было не видно, а вот троих мужчин и женщину в гражданской одеже – городской, как он успел заметить – видно было достаточно хорошо. Потому что эти четверо не стояли на дороге, а были развешены на сучьях деревьев довольно высоко. Зрелище такое было в новинку Семенову, раньше ему повешенных видеть не доводилось ни разу в жизни, и теперь ему стало еще страшнее – тем более что конвоиры весело ржали, тыча пальцами в удаляющиеся тела с одинаково свернутыми набок головами. Боец еще успел порадоваться, что из-за пыли толком лиц у мертвецов видно не было. Лёха тоже глядел на это зрелище, открыв рот от удивления, только азиат безучастно сидел, опустив глаза в пол.
Конопатый конвоир горделиво посмотрел на пленных и что-то снисходительно пояснил, улыбаясь. Семенов ничего не понял из сказанного, но вроде слово «коммунистен» проскочило.
Машинка бодро перла дальше. На душе становилось все тоскливее и тревожнее. Потому как сначала еще было как-то не вполне понятно, что произошло. То есть понятно, но все же не совсем. Не вполне отчетливо, что ли. А вот теперь дошло. Проехали километров десять, дорога стала шире, правда, трясти меньше не стало. Наконец, остановились, конопатый достал те самые петровские бумажки, ловко спрыгнул на землю и заорал кому-то – видно, своему знакомому:
– Alter! Guck mal! Was ist das? [10]
Подошедший сбоку голый по пояс белобрысый парень в очках с интересом взял бумажонки, пролистал их, бурча под нос что – то вроде:
– …er hat wie einen Vogel geschriebt. Was ist das fur die Scheisse?[11]
– Ist das interessant, Gustav?[12] – поинтересовался другой конвоир, когда парень в очках прошустрил всю тощенькую стопку листов. Парень глянул на сидящих в полумраке кузова пленных и спросил почти без акцента:
– Ваши бумаги?
Семенов тут же отозвался, привстав:
– Так точно! На самокрутки взяли, на дороге валялись. Мягкая бумага, хорошая.
– Latrinenpapier[13], – уверенно резюмировал очкастый парень, махнув рукой в сторону.
Разочарованный конвоир тут же вызверился на все еще сидящего на корточках Семенова:
– Du schaebides Wesen! Setz dich auf dein funf Buchstaben! [14]
Сказанное было непонятно совершенно, но характерный жест и злое выражение конопатой хари сомнений не оставляли, и потому Семенов послушно сел как раньше, обалдело оценивая виденное только что. А конвоир грустно сказал напарнику с винтовкой:
– Sie ist total verfickte![15]
– Deines Blech wartet auf dich, Alte Hase! Mehr Mut zur Risiko![16] – пафосно, словно с трибуны, ораторским голосом заявил очкастый, лыбясь при этом во весь рот и поблескивая очками. Долговязый конвоир тоже ухмылялся. Но не так отчаянно, деликатно. Конопатый, брякнув о борт автоматом, залез обратно в кузов.
– Hau ab![17] – печально буркнул конопатый очкастому и рявкнул что-то в сторону кабины. Машинка тронулась и покатила дальше, а Семенов перевел дух. Одной бедой явно стало меньше, и чертовы бумаги все-таки оказались не секретными и не важными. Такой вывод позволял сделать тон, которым отозвался о бумагах этот ученый молодой человек, а также и то, что рукой он показал на странноватое, но не оставляющее сомнений сооружение рядом с дорогой. Сооружение это было из нескольких жердей и канавки, а на жердочке, словно птички, жопами к дороге как раз сидели трое голых немцев и недвусмысленно гадили в эту самую канавку. То есть бумаги этот смекающий в русском языке германец счел достойными только полевого сортира.
Вот и ладно. Боец припомнил все виденное, опять же удивился, потому как кроме сортира с голыми немцами он успел увидеть, что неподалеку там же был пруд, где голых германцев было полным-полно, причем расположились они по-хозяйски, совершенно беззаботно, словно дачники какие или как в санатории, о котором Семенов читал до войны в газете. И сам переводчик этот спокойно подошел голышом – это стало заметно, как только Семенов приподнялся на корточки, и борт кузова перестал загораживать переводчика. На нем только какие-то спортивные тапочки да очки были. Срамота какая!
Загорают они, значит. Как городские на пляже. И не стесняются совершенно – чуток подальше и в стороне от пруда, где разлеглись на своих подстилках германцы, боец успел еще заметить здоровенный танк, судя по привычной зеленой краске – наш. Так и на нем возились совершенно голые германцы. То есть совершенно никакого стыда у людей – а ведь дорога совсем рядом, мало ли кто пойдет или поедет. Дома, интересно, они тоже так себя ведут?
Нет, самому Семенову тоже доводилось купаться голышом, да и девки деревенские тоже не одетыми в речке плавали, но не так вот нагло. Совесть все-таки была, и места выбирали побезлюднее, а не прямо у дороги. Да и друг друга не стесняются германцы, вон прямо рядком лежали, один даже книжку какую-то читал в яркой обложке. Пожилой уже, седатый. А танк, видно, тот самый и есть, ворошиловский, о котором толковали с танкистами целую вечность тому назад, а на самом деле вчера еще. Хороший танк, здоровенный, и пушка мощная, сразу видно. И не битый вроде по первому взгляду, не горевший, а немцам достался. Видать, тоже бензина не было или поломалось что.
Семенову стало досадно, что такое чудо техники, повозка самобеглая, бронированная, да еще с пушкой и пулеметами из-за такого пустяка пропала. Денег-то она, наверное, стоит немерено – одного железа сколько ушло, да не просто железа, а особой дорогущей качественной стали. Сколько ж всего полезного можно было бы из нее сделать! А теперь на нем немцы разъезжать будут. И тут Семенову стало жалко, что танк не горелый и не разбитый в щепу стальную. Так оно было бы спокойнее.
Впрочем, очень скоро мнение его переменилось. Машина встала, долговязый с винтовкой не спеша вылез наружу, а конопатый нетерпеливо махнул рукой и велел:
– Raus! Weg! [18]
Затекшие от неудобного сидения ноги не очень хорошо слушались, но, в общем, под колючим взглядом автоматчика засиживаться не очень хотелось, потому все трое вылезли поспешно, как только могли. И немножко оторопели. Ветерок нес странный букет запахов – вроде как пережаренного мяса, подгоревшего до углей, и тухлятины с мертвечиной. И еще чего-то, и все вместе было отвратным донельзя. И, в общем, было понятно – откуда, потому как тут, на окраине малюсенькой деревушки в десяток домов, стояло несколько разбитых и сгоревших грузовиков и танков. Наших, похоже, потому как Семенов не шибко разбирался в технике – секретно же многое было. И прямо под ногами валялась с трудом узнаваемая канистра – будь они неладны, эти канистры, – только пухлая, вздутая изнутри взрывом, уже успевшая поржаветь и потому еще более странная.
Автоматчик из кузова протараторил что-то своему напарнику, так что боец ни слова не разобрал, тот кивнул в ответ, сказав:
– Jawohl! [19]
Конопатый кивнул, перебрался из кузова в тесную кабину.
Машинка уехала, а трое пленных остались как раз перед точно таким же громадным танком, как тот – у пруда. И воняло от этого танка сладковатым, приторным и липким запахом мертвечины. А чтобы не спутать запах этот – еще и мухи тут вились роями – веселые и радостные мухи, прилетевшие на пир.
Конвоир, сохраняя на своей белесой харе непреклонность и мужественность, старался держаться невозмутимо, но вроде как побледнел с лица, и вроде как его мутило. Он встал поодаль от вонючего танка и приказал:
– Abdecke Aas! Schnell! [20]
И сделал несколько копающих движений, словно держал не винтовку, а лопату.
– Хочет, чтобы мы наших упокойников прибрали, – догадался вслух Семенов.
– Nimm Schaufel aus Kampfwagen![21]
Глянув, куда ткнул пальцем германец, боец понял, что тот имеет в виду – на боку танка в зажимах была лопата. Нормальная такая, обычная большая саперная лопата, БСЛ. Из зажимов лопата выскочила легко, на минуту у Семенова был соблазн подобраться как-нибудь к этому долговязому и приголубить его с размаху лопаткой, благо была возможность раньше убедиться, что даже малая пехотная лопатка – хищное оружие, а большая – и тем более, вполне можно бы потягаться со штыком.
Но тут Жанаев как-то присвистнул, вроде бы оценивая объем работы, и оглянувшийся на него Семенов увидел рядом с крайним домиком пару велосипедов и вышедшего из избы немца, покуривающего короткую трубочку. И взгляд у Жанаева был весьма говорящий. Не один тут конвоир, еще немцы здесь есть – видно, потому и решили трупы схоронить. Надо думать, к этой деревушке интерес и на будущее у германцев есть.
Где копать, было понятно сразу: совсем неподалеку была здоровенная воронка – видно, били по этому большому танку и промазали. Мельком глянув на Лёху, который, как и конвоир, тоже был покрыт зеленоватой бледностью, Семенов передал ему лопату и велел идти углубить воронку. Потомок уцепился за черенок и живо побрел, прихрамывая, к яме.
Семенов хотел начать с большого танка, потому как увидел, что танк хоть и подбитый, но не горелый, к тому же ясно был виден ствол как минимум одного пулемета. Система у этих танковых пулеметов та же, что в его пехотном была, так что если удастся добраться до знакомой машинки – конвоир не порадуется.
А по всему судя, не хочет конвоир это все нюхать, значит, если аккуратно все сделать, то получится. Опять же, пистолеты этим танкистам положены, так что только бы в танк влезть, а там все выйдет как надо!
Распахнутый верхний люк встретил таким смрадом, что Семенова передернуло, хотя неженкой он никогда не был. Танк гудел от массы мух, которые роились в вонючей темноте. Приглядевшись, боец понял, что в самой башне нет никого – видны были пустые сиденья и массивный затвор орудия. Вздохнув поглубже, Семенов спустил в люк ноги и стал сползать потихоньку в танк.
Было непривычно и тесно, и как тут умещался экипаж – Семенов так и не понял. Сдувая садившихся на взмокшее лицо бодрых мух, он осмотрелся, благо теперь, когда глаза пообвыклись, получалось не так темно, как показалось, когда он заглядывал сверху в люк. Свет падал и сверху, и через всякие ранее не замеченные дырки. Если б не мухи и не вонь, было бы даже и сносно.
Мертвец оказался только один – он полусидел на месте с рычагами. Наверное, был водителем. Изуродован он был страшно, словно его стая собак рвала, живого места не было. Мельком глянув на него, Семенов сразу аккуратно приступил к осмотру пулемета, торчащего рядом с пушкой. Машинка вроде была исправна, и Семенов чуть было не стал ее ворочать, когда в голову пришла мысль глянуть диск. Вот тут-то боец и удивился – диск был пустой.
Несколько штук таких же вороненых колобашек, закрепленных внутри башни, тоже были без единого патрона, да к тому же они были словно посечены меленькими осколками. Снарядов тоже не было видно ни одного. Как ни осматривался боец – ничего пригодного в дело внутри танка не нашлось. Над погибшим видна была какая-то рукоять и, судя по всему, там же был люк. Покорячившись с этой рукояткой, Семенов сумел ее повернуть и распахнуть тяжеленную крышку, хоть и с трудом. С подсветкой зрелище стало еще более неприглядным, потому как надежда на личное оружие танкиста тоже провалилась: на полу, в луже кишащей опарышами жижи, валялся наган с выбитым из него барабаном.
Несколько странно знакомых длинных щепок дали понять, что тут произошло: раз все густо посечено осколками, да еще валяются поколотые ручки от немецких колотушек, значит, отжали немцы верхний люк и накидали своих гранат. А танкист, верно, пытался отстреливаться в смотровые щели, да не заладилось. Выпихнуть покойника в одиночку было совершенно невозможно, и Семенов вылез из бесполезной бронированной громадины. Сверху было видно, что Лёха возится в воронке, неумело тыкая лопатой, а Жанаев уже тащит от горелых грузовиков обугленное тело, не похожее на человеческое – всяко меньше нормального мужского, почти детское по виду. Почему-то Семенова покоробило, что азиат волочет труп, захлестнув его каким-то проводом за шею. Конвоир с любопытством наблюдал за этим, сидя в сторонке, на свежем воздухе.
– Ты б его за ногу, что ли, тянул, – проворчал негромко Семенов, подойдя к Жанаеву.
Тот хмуро глянул на него и буркнул:
– Я хотел. Нога отломилась.
Точно, у сгоревшего не было второй голени. Семенов тяжело и глубоко вздохнул, благо тут не так смердело, как внутри танка, и помог тащить тело.
– У них в танке пусто. Пулеметы есть, а патронов ни единого. Лёха, у тебя по карманам ничего не осталось? Ты же припрятал вроде пяток патронов-то? – тихо спросил боец, когда они подтащили труп к воронке.
– Не, все выгребли, – растерянно ответил потомок, дико глядя на обгоревшее лицо погибшего шофера, в котором и человеческого ничего не было, и спокойной аскетичности черепа. Жутко выглядело это лицо с блестящими, оскаленными вроде как в сардонической ухмылке ровными молодыми зубами и обугленными черными ошметьями обгоревшей кожи и мышц, без губ и без глаз.
– Там в танке еще хуже, – успокоил напуганного менеджера Семенов. Глянул на остовы грузовиков и подумал, что не нравится ему эта работа.
Вытаскивать тело мехвода пришлось всем втроем, намотав найденный Жанаевым провод на жердь и, как ни тошно было, прихватив погибшего петлей за шею. Под мышки не вышло, хотя и попытался Семенов по-человечески отнестись к мертвому товарищу.
Растопыривался труп, когда его тянули, застревал руками в люке. А за шею – вытянули. Лёху тут же стошнило, что и немудрено – вид был отвратительный: развороченное лицо с открытыми и уже обсохшими бельмастыми глазами, изодранное тело, капающая из ран мерзкая жижа, пропитавшая обмундирование. И этого вполне хватило бы, а еще и сыпавшиеся личинки мух подбавляли красок в картину. Семенов даже удивился, что они с Жанаевым не блюют – вполне было бы можно и даже не стыдно, хотя глядящий на них германец-конвоир явно получил от увиденного удовольствие – вишь, даже нос горделиво задрал. Но Семенов как-то отвердел душой. Еще после первого боя почувствовал, что изменилось в нем что-то. Он тогда действительно ужаснулся всему увиденному. Всерьез. Такой жути он не видел никогда, хотя, в отличие от городских сослуживцев, и поросят колол, и кур резал, да и драться приходилось не раз. Крови он не боялся.
Но вот то, что нормальные хорошие ребята не пойми зачем превращаются в рваные, грязные комки рубленного по-дурному мяса, теряют здоровые руки и ноги, воют нечеловечески от боли, потому что их молодые крепкие тела изодраны иззубренным железом осколков и вертячками пуль – было не понятно ему. Зачем все это? Одно дело – подраться на посиделках или на праздник с зашедшими именно с такой целью парнями из соседней деревни – честно, по правилам, чтобы себя показать и дурь молодецкую потешить. И совсем другое – когда приходят вроде бы такие же люди из другой страны, чтобы убить и искалечить просто так.
Деловито, профессионально и умело, заранее подготовив самую хитроумную технику, все тщательно рассчитав и запланировав. В армии многое удивляло Семенова, и особенно – как все было правильно организовано: и трехразовое питание, и занятия, и работы. И поначалу даже казалось, что все это, в общем, зря: столько усилий и вроде как без пользы – лучше бы всю эту технику и людей на что полезное направить, хоть бы то же сено косить. Но вот когда дело дошло до боя – тогда понял, зачем нужна вся эта мощь и зачем здоровых мужиков отрывают от полезной работы, и для чего оно все. Такая страшная мощь перла, что остановить ее можно было точно такой же мощью, никак иначе.
И как-то посерьезнел после первого же боя, нутром почувствовав, что эта Беда – надолго и всерьез. И его, Семенова, на эту долгую и страшную работу должно хватить. Может, потому и держался. И когда соскребали из выгоревшего до голого железа кузова грузовика черные спекшиеся останки, по которым толком было не понять, что это, и только ослепительно-белые отломки ребер показывали, что это было раньше человеческим телом. Да еще поржавевшее уже железо токаревской самозарядки с порванным вздутым магазином подтверждало, что в кузове погиб такой же боец, как и они трое. И когда тянули к воронке трупы обгоревших танкистов, лежавших у странноватого танка с двумя башнями. И потом, когда нашли по запаху в жидких кустах двух сильно забинтованных покойников, у которых были странные дырки в груди.
И когда собирали остальных. Как окостенел Семенов, закаменело все внутри. Лёха толком ничего не выкопал – видно было, что потомок лопаты в руках не держал, пришлось самому взяться. Мертвых притащили к воронке всего одиннадцать человек, и пришлось покорячиться, чтобы они туда поместились – не хотели они укладываться ровно, торчали окостеневшими руками и ногами в разные стороны, особенно те, которые обгорели. Они были словно деревянные по твердости.
– Странно. Мало их, – сказал Жанаев.
– Ну, видно другие ушли или в плен попали, – отозвался Лёха.
– Ага. И даже пулеметы не сняли. Мне-то кажется, что их тут самолеты накрыли. Только не все понятно. Грузовики все в дырках от пуль и видно, что сверху прилетело, а танкиста гранатами забросали. Не с самолета же. И с этими двумя, – кивнул Семенов в сторону двух глянцево вздутых голых, черных, словно негритянских тел, на которых, кроме ботинок, не осталось никакой одежи – не пойму. Танк не горелый, а они перед танком валялись и вон как сгорели.
– Может, зажигательной бомбой? – просто чтобы не молчать, сказал Лёха. Он как раз тянул в яму за ноги одного из найденных в кустах – у белобрысого паренька была замотана бинтами почти все верхняя половина тела, и лицо тоже было забинтовано, только вот волосья и торчали.
– Ранеты они были. Их кончили, – проворчал Жанаев.
– Думаешь?
Азиат хмуро глянул на Лёху и ткнул пальцем в дырки на забинтованной груди трупа.
– Штык вот.
Семенов молча согласился – очень было похоже, что лежавших в теньке забинтованных парней прикололи штыком. Точно таким же, клинковым, как тот, что поблескивал на винтовке их конвоира. От такого открытия стало еще тошнее на душе. Почему-то вспомнилось, что когда взводный отправлял с попуткой раненых из их роты, то отдал сержанту Овчаренко свой пистолет. Тогда помогавший загрузить своих сослуживцев Семенов не обратил на это особого внимания, но вот Овчаренко намек понял: он из десятка раненых был в лучшей форме – мог даже ходить, да и рука правая у него была в порядке, и пистолет этот он старательно припрятал в карман шаровар. Видно было, что оба они – и взводный, и раненый сержант – поняли что-то такое, что Семенов стал осознавать только сейчас.
Например, то, что с оружием жить веселее. Оружия тут было в избытке – две танковые пушки, да несколько пулеметов, только вот ни в одном из трех танков, что тут стояли, не было ни одного патрона, самого завалящего. То оружие, что было в четырех грузовиках, сгорело, да и была там пара винтовок Мосина и СВТ. Наган танкистский с выбитым барабаном тоже никуда не годился. Оставались лопата и голые руки, но это было явно не то. Тем более что ослабли руки-то. Не кормили немцы пленных пока ни разу. И тут даже не сказать – хорошо ли было то, что занимались они тошной в прямом смысле работой, отбивавшей аппетит напрочь, или нет.
– Маленькие они какие, – передернувшись всем телом, сказал Лёха, завороженно глядя на лежащих в воронке.
– Понятно, обгорели же, – буркнул в ответ Семенов.
Ему такое еще не попадалось, чтоб живой человек превращался в дурно пахнущее обгоревшее бревно. Даже не бревно, а суковатое бревнышко, становясь размером с подростка. Отмахиваясь от остервеневших мух, стали сгребать землю с краев, присыпая тела. Получилось убого, потому как земли оказалось маловато, только-только присыпать, а остальную взрыв раскидал вокруг так, что не собрать.
Потом Семенов, ради того, чтобы хоть как-то обозначить могилу, оглянулся и, подойдя к ближайшему грузовику, потянул оттуда остов сгоревшей винтовки. Конвоир, до того сидевший в расслабленной позе, вскочил как ужаленный и, вскинув угрожающе винтовку, недвусмысленно рявкнул так громко, что из домика неподалеку выскочило аж двое немцев, без кителей и фуражек, но с оружием – оба с пистолетами.
Они удивленно посмотрели на конвоира, испуганного Семенова, выронившего себе под ноги горелое железо так быстро, словно оно еще было раскалено, и вдруг слаженно захохотали. Можно бы даже сказать, что и заржали. Один из них – тот, что постарше – сунул привычным жестом пистолет в здоровенную желтую кобуру, подошел поближе, поднял остов винтовки и что-то иронично сказал напарнику. Тот так же отозвался, непонятно что сказав. Конвоир почему-то взбеленился и явно начал ругаться, на что оба выскочивших из избенки только поучительно что-то ему говорили, словно бы снисходя до его уровня – так, как с дурачком неразумным разговаривают взрослые дяди (а конвоир действительно этим двум мужикам в сыны годился).
– Зачьем бинтофк? – спросил Семенова немец.
– Могила наверх, – безграмотно, как обычно говорят наши люди с иностранцами, коверкая слова, словно иностранец лучше понимать от этого станет, ответил Семенов и показал руками, как воткнул бы винтовку в землю.
– Тафай, тафай! На зторофье! – подмигнул ему германец и опять что-то пояснил своему приятелю. Тот лениво отозвался, отчего конвоир, разозлившись не на шутку, разразился длинной стрекочущей фразой. Семенов опасливо потянул винтовку к могиле, ожидая от долговязого конвоира окрика или чего-то еще подобного, но тот всерьез орал на своих соотечественников, а они только посмеивались, отчего пацан с винтовкой бесился еще больше. Все это очень не понравилось Семенову, который уже и не рад был, что затеял всю эту панихиду. Видно, что сопляк ничего двум взрослым дядям сам сделать не может, даже в перебранке они его умыли – значит, отыграется на пленных, такие всегда после проигрыша на слабых отыгрываются. А отыграться он может сурово: перестреляет – и всех дел. Их же никто не регистрировал еще, как пленных. Так что всякое может быть с неучтенкой-то, это Семенов и по довоенной жизни знал.
Между тем германские мужики что-то углядели в петлицах потомка, и один, не спеша, пошел в избушку. Второй, не торопясь, встал между разъяренным конвоиром и старающимися усохнуть до минимального размера пленными. Опять оба закартавили, загорготали – конвоир злобно, а мужик с трубкой спокойно, снисходительно и убеждающим тоном. Между делом мужик еще что-то крикнул своему приятелю, и тот согласно отозвался из домишки.
Появился он довольно скоро, таща в руках какую-то круглую коробчонку синего цвета и пару пачек папирос, тоже каких-то серо-синих. На этот раз и конвоир поугомонился и стал спокойнее, и мужики тоже сбавили ехидства. Видно было, что разговор пошел сугубо деловой, потом один из них вручил конвоиру пачки с папиросками – таких Семенов раньше не видел, да и надпись была странная – «Беломорканал».
Долговязый, правда, вроде как опасался чего-то, но недолго – видно, доводы были убедительными. Германцы дружно закурили, отчего конвоир еще больше помягчел, поговорили о чем-то, но уже спокойно, а тем временем общительный германец пожужжал и спросил у потомка, ткнув пальцем ему в петлицу:
– Замольет? Летатель?
Потомок сообразил сам, показал рукой, словно пишет и ответил:
– Писать. Бумаги. Финансы.
Германец понял, поскучнел, но его приятель пренебрежительно отмахнулся и потянулся рукой в шее потомка. Тот испуганно дернулся назад, но мужик с трубкой фыркнул что-то типа «тпру», и потомок застыл. Немец довольно шустро свинтил с голубой петлицы эмблемку с крылышками и винтом, аккуратно открыл свою круглую жестяную коробочку и достал оттуда лоскут бордовой ткани, богатой на вид – вроде как бархатной, на которой были прикручены всякие незнакомые значки, среди которых были и серебряные, и позолоченные, и всякие звездочки: четырехугольные, пятиугольные и шестиугольные, какие-то орлы – один вроде как польский, – бомбы, скрещенные ружья и всякое в том же духе. Германец поместил на лоскут рядом с рубиновыми звездочкой с пилотки и треугольничком с кубарем эмблемку ВВС и от удовольствия прищелкнул языком. Вот шпалы у германца тут еще не было, зато была эмблема бронетанковых войск – танчик.
Германец, не торопясь, сложил лоскут с тихо брякнувшими значками в коробочку, и оба пожилых германца с деловым видом вернулись в домик. И практически тут же вышли из него, застегивая ремни, поправляя мундиры и кепи, полностью изменившись. До того, в подтяжках и майках, вида они были такого разгильдяйского, домашнего даже, а теперь были одеты по форме, собранны и целенаправленны. Семенов не очень понял, что от них хотят, но когда немцы поманили рукой, он глянул в последний раз на могилу, воткнул в нее лопату, кивнул своим спутникам, и все вместе они подошли к раскрытым немцами вороткам сараюшки.
Там, в полутьме стояла древнего вида телега. Вышедшая из домишки тетка молча смотрела на то, как эту телегу по знаку ее постояльцев трое пленных потянули из сарая. Семенов ожидал, что тут же где-то и коняшка найдется, но тот, что с трубкой, махнул им рукой повелительно, и вместо коняшки телегу потянули пленные. Хорошо, что телега была легкой и шла без затирки, свободно. Вот только идти пришлось как-то странно, да и немцы вели себя так, словно делали что-то не слишком приличное. Во всяком случае, сторожко посматривали по сторонам и оба пожилых, и молокосос-конвоир. Тянуть телегу пришлось километра три, причем по какой-то полузаросшей стежке. Вышли к железной дороге – насыпь ее боец сразу увидел и понял, что это такое. Вдоль насыпи прошли еще сколько-то, пока не уперлись в кирпичный забор. Тут телегу велено было оставить, и все гуськом по густому бурьяну двинули вдоль забора по каким-то буеракам, скрытым в густой траве. Передний немец мусолил незажженную трубку, конвоир тихо ругался сзади, когда путался сапогами в траве.
Семенов заметил за забором крыши каких-то не то бараков, не то пакгаузов, и тут передний ловко нырнул в пролом, открывшийся в заборе. Ну, точно, склады какие-то, причем вроде бы этот немец тут не впервые. Пролезли внутрь, причем конвоир скребанул штыком о кирпичи, двое других германцев укоризненно на него уставились, и он, сконфузясь, снял штык и, не глядя, сунул его одним движением в болтавшиеся ножны. Приземистые здания грубой кирпичной кладки – точно, склады, причем сделанные так, чтобы можно было сразу грузить в кузова машин, специальные возвышения сделаны. Прошли мимо нескольких ворот, причем ведущий строго посмотрел на всех, приложил палец к губам и тихо прошипел что-то вроде «Псст!» Наконец, у ворот с надписью «18» и табличкой «Не курить» он остановился, ловко снял висячий замок, который только казался целым, а на деле был ловко сломан, и скользнул в щель между приотворенными створками.
Следом просочились все остальные. В полумраке были видны штабеля разных ящиков, немец уверенно прошел в глубину и тихо посвистел оттуда. Глаза у Семенова уже пообвыклись к полумраку, а вот шедший за ним потомок долбанулся об угол штабеля и зашипел от боли. Мужик с трубкой невозмутимо стоял у небольшого штабелька картонных коробок.
– Тафай – тафай! – сказал он и подмигнул.
Оказалось, что коробки хоть и большие, но легкие. Все взяли по одной и двинули обратно. Но у свежего пролома пожилые мужики оставили свои коробки и вернулись назад в склад, а конвоир, дотащив свою, остался у телеги. Таскать пришлось пленникам, впрочем, эта работа была куда легче, чем прошлые похороны, да и пахло из коробок душисто – хорошим табаком, отчего у Жанаева глаза возбужденно заблестели.
– Давай мала-мала? – спросил он.
– Нет. Не стоит, – возразил Семенов. Он приметил, что у бурята появилась противогазная сумка после того, как он лазил в двухбашенный танк. Судя по виду, там был не противогаз. В принципе, можно было бы по пути вскрыть одну из коробок и потянуть что-нибудь, папиросы очень пригодились бы. Но стоит германцам после погрузки снова обыскать красноармейцев – и получится тухло. К тому же конвоир маячил с одной стороны забора, а германец – тот, что значки и эмблемки собирал – с другой. Семенов решил не рисковать. Весь штабелек выволокли за пять ходок, к тому же пожилые в последнюю ходку прихватили два небольших, но тяжелых ящика. Когда телегу нагрузили с горкой и оттащили от забора в лесок, конвоир и впрямь снова обхлопал им карманы и залез в противогазную торбу.
И даже удивился, найдя там только несколько армейских ржаных сухарей, а не украденные пачки папирос. После этого он опять примкнул штык, и телегу покатили дальше. Впрочем, она не слишком потяжелела. Дотащили до деревеньки, втиснули телегу в сараюшку, закрыли дверцы.
– Карашо! – удовлетворенно сказал тот, что с трубкой, и выдал каждому пленному по папироске. Как раз в помятой пачке этого самого «Беломора» три штуки осталось. После этого германцы потеряли к пленным всякий интерес, занявшись обсуждением насущной проблемы дележа. То, что разговор шел на немецком языке, нимало не мешало понять это.
Трое пленных сели на край придорожной канавы. Жанаев раздал каждому по сухарю, захрустели всухомятку. Задумались.
– Черт, даже спичек нет, – грустно сказал Семенов.
Жанаев просящими глазами посмотрел на него и кивнул в сторону разговаривающих немцев. Те как раз дымили, словно паровозы. Хорошо еще, дымок в сторону сносило.
– Ну, попробуй. Только аккуратно! – скрепя сердце, согласился Семенов.
В общем, все обошлось хорошо: тот, что с трубкой, дал азиату прикурить, правда, когда тот развернулся идти обратно, конвоир все же дал куряке пинка под зад, и обратно Жанаев пришел прихрамывая. Впрочем, счастья это ему не слишком умерило. Лёха сидел очумелый, уставший до крайности, а Семенову уставать было нельзя. Не у тещи на блинах, а совсем наоборот – в плену. Опыта, конечно, тут никакого, но думать надо, здесь старшины нету, чтобы присматривал. И надо обязательно водичкой разжиться. И сейчас попить. Колодец с воротом был недалеко, только ведра там не наблюдалось, а пить уже давно хотелось.
Присмотревшись, Семенов нашел неподалеку на обочине пустую бутылку и пару пустых консервных банок. Ведро нашлось на одной из сгоревших машин, закопченное и простреленное, но для того, чтобы воды набрать и попить – сгодится. В танк уже не полезешь – конвоир опять занервничает, а если с ведерком до колодца, наверное, и не возразит. Потому Семенов медленно побрел до машины, а когда снял ведро и поставил его на землю – совершенно неожиданно увидел рядом с остовом грузовика, в пыли дорожной, перочинный ножик, который не стоило оставлять тут.
Притворился, что поправляет обмотки, незаметно сунул находку за обмотку, так же добрел и подобрал пустую бутылку с роскошной этикеткой, да и банки пустые тоже. Конвоир на минутку оторвался от разговора, посмотрел, но никак больше не прореагировал. И Семенов не спеша, чтоб зря не нервировать конвой, пошел к колодцу.
Менеджер Лёха
В жизни Лёха так не уставал. Никогда раньше. Думал, что пробежка с канистрами будет полным пипцом, ан оказалось, что еще хуже быть может. Ноги подгибались, руки тряслись, страшно хотелось пить, да еще и во рту было паскуднее, чем после дегустации напитка «Ягуар». Лёха как-то отупел и смяк.
Возможность сесть на край канавы была просто счастьем, и менеджер повалился чуть не со стоном, как мешок набитый… Черт его знает, чем набитый, голова была пустой и тяжелой, думать не хотелось. После того как стошнило, зубы неприятно скрипели, а ощущения передать было невозможно. А если учесть, что зубы он не чистил с того самого похмельного пробуждения, то букет ощущений тоже был совершенно новым. Азиат тем временем толкнул Лёху в бок и сунул ему в руку квадратный темно-коричневый сухарь. Совершенно механически Лёха стал его грызть, не чувствуя вкуса. Он словно выключился, хотя и смотрел, и слушал. И сухарь грыз вполне вроде нормально. Только вот чувствовал он себя как-то странно – не человеком, что ли. Не вполне мог понять, как это, но ощущал себя именно так. Не человеком. Это не то, что пугало, а как-то вымораживало все мысли.
Отстраненно, словно бы кино смотрел неинтересное, Лёха глядел, как спорят между собой немцы, как куряка Жанаев ходил прикуривать и как неугомонный Семенов начал зачем-то собирать всякий хлам с обочины дороги. То, что его спутники явно лучше него перенесли все пертурбации, немного удивляло, но не очень сильно, как совершенно неважное дело. А еще Лёха понимал, что его убьют. Это тоже было новым чувством. Особых эмоций понимание не вызывало – больно уж все было наглядным и простым. И пули, изрешетившие на его глазах токаря Петрова, и чужой штык, равнодушно колющий его, Лёхину, задницу, и эти мертвяки.
Нет, разумеется, в интернете доводилось видеть всякое, да и по телевизору показывали разное, так что сначала Лёха был совершенно уверен, что ничего в нем не дрогнет, но вот столкновение с таким реалом и всеми его реалиями с легкостью опровергло эту уверенность. Картинки на экране монитора хоть и были жуткими в подробностях, все же не пахли, с них не летели мухи и не сыпались опарыши. А самое главное – там были совершенно посторонние люди, и любому сидящему за компом было ясно: то, что на экране – это где-то очень далеко. И надо чудовищно постараться, чтобы попасть в такое место, где тебя заживо сожгут, деловито и весело, или будут с шуточками отрезать голову. И вот он не старался – а именно попал.
И сегодняшние отвратительные трупы были совсем недавно нормальными живыми людьми. А теперь они – омерзительная падаль. И самое главное – ничто не мешает и его сделать такой же подгнившей жутью. Пристрелить, заколоть штыком, сжечь. Причем тот, кто это с ним сделает, будет так же рад и спокоен, как… Да как был рад и спокоен сам Лёха, когда мочил импов, некронов, вортигонтов или зомби в компьютерных игрушках. Ему ведь по сюжету надо было их ликвидировать, и переживать по поводу очередного грохнутого хедкраба даже и в голову не приходило. Такая мысль даже как-то удивила Лёху. Оказаться в шкуре монстрика из игры, но в реале… Опять замутило.
Подошедший дояр что-то сказал, потом потряс Лёху за плечо, еще посильнее, а потом врезал мыслителю пару затрещин. Посмотрел пытливо и вдумчиво, словно художник на картину, и влепил еще подзатыльник. Не больно, но как-то отрезвляюще.
– Не раскисай! – строго велел Семенов. – Ты как – в себя пришел, или добавить?
– Пришел, – пролепетал Лёха.
– На-ко вот, водички попей – велел красноармеец и подал мятое и покрытое гарью тяжелое ведро. Из него через дырочки лились струйки, но наполовину оно было заполнено холодной водичкой. Лёха жадно присосался, чувствуя, что с каждым глотком ему становится все лучше и лучше, словно запыленные мозги протирают ласково влажной мягкой тряпочкой. Еще ему совершенно некстати подумалось, что вот так запойно сосали свою любимую жидкость вампиры в играх и фильмах и, налакавшись досыта, он передал обратно сильно полегчавшее ведерко уже с улыбкой, посмеиваясь над собой: «Тоже вампир нашелся! Прокусил жестяное ведро и напился до отвала воды! Вампир – веган!»
Семенов приложился тоже, стараясь, чтобы капавшая вода не мочила зря обмундирование, потом протянул емкость кайфующему от папироски азиату. Пока Жанаев хлебал воду, бывший пулеметчик старательно обрабатывал консервные банки, камешком ровняя края и отогнутые крышки, чтобы зазубрин не осталось. Сходил еще раз за водой, и на этот раз, словно спохватившись, все трое помыли руки и лица, с чего вообще-то надо было начать. Потом еще попили. Немцы, видно, порешали все дела и теперь сидели и болтали в тенечке. Пользуясь перекуром, словно чувствуя, что такая благодать ненадолго, Семенов еще раз притащил воды, и теперь все трое напились впрок, про запас. А дояр еще и в бутылку воды набрал. Лёха, уже немного пришедший в себя, сильно удивился, прочитав надпись на этикетке. Взял мокрую бутыль в руки, убедился, что не ошибся, покачал головой.
– Ты чего? – тихо спросил Семенов.
– Коньяк Хеннеси, – так же негромко ответил ему Лёха. И поняв, что для крестьянина это ровным счетом ничего не значит, добавил:
– У нашего гендира любимый напиток. Ну, то есть директор наш такой коньячок пил. Сохранилась, значит, фирма.
Потом Лёха подумал, что уже много чего такого знакомого видал тут за последнее время – начиная со звезды «Мерседеса» и кончая этой бутылкой и жестяной синей коробочкой от крема «Нивея», в которую немец уложил свои затрофееные значки и эмблемки. Практически такая же баночка стояла у Лёхи на полке шкафчика в ванной. Куда как знакома. И папиросы «Беломор», кстати, тоже знакомыми показались. Хоть картинка и другая немного, но, в общем, пачка угадывается с первого взгляда.
Семенов пожал плечами. Ему явно было безразлично, что какой-то мужчина в будущем будет пить такой коньячок. Вот то, что после обыска у них имущества совсем не осталось, и даже фляжек нет, беспокоило его куда больше – это даже Лёха видел. Глянув, как там немцы – не смотрят ли за ними, Семенов аккуратно вытянул из-за обмотки ножичек, раскрыл его и попросил Лёху сидеть смирно, не ерзать.
– Ты чего? – удивился попаданец.
– Думаю спороть с тебя эту птичку. Не стоит сильно выделяться, – ответил тот и аккуратно стал подпарывать нитки. Через минуту тканая эмблема была уже сунута Лёхой в карман гимнастерки.
Оказалось, что очень вовремя. В скором времени подкатил запыленный грузовичок – не тот, на котором их сюда привезли, а другой, побольше размерами. Шофер окликнул конвоира, тот подошел к нему, о чем-то они перемолвились, и конвоир недвусмысленно показал пленным на кузов. Ведро Семенов хотел было забрать с собой, но германец это строго воспретил, пуганув дояра штыком. Сидеть опять пришлось на полу. Толком Лёха не видел, куда их везут, только вроде как туда же, откуда они эти папиросы приволокли. Но вдруг машина тормознула, кто-то начал резко и достаточно злобно разговаривать с шофером, в светлый проем накрытого брезентом кузова вслед за этим вперся невнятный персонаж – немец в каске и со странной бляхой на груди – здоровенной, с золоченым орлом, на грубой цепи и с бросившейся в глаза надписью «Feldgendarmeriе». Когда он взялся левой рукой в перчатке за борт и заглянул в кузов, на рукаве оказалась видна та же надпись, вышитая на черной ленточке, а чуть повыше Лёха обнаружил похожую на его споротую эмблему – только у немца птичка была победнее, и вроде как это был все тот же орел, что и на груди справа, только с веночком. Новый персонаж не торопясь оглядел пустой кузов и что-то иронично спросил у напрягшегося конвоира. Тот несколько испуганно отрапортовал. Выпалил он так быстро, что и разобрать ничего не удалось.
Стоящий у машины фрукт с бляхой на груди по-прежнему ехидно что-то заявил, на что конвоир рявкнул:
– Jawohl! – и вроде как облегченно перевел дух.
В ответ человек с бляхой отошел не спеша в сторону и разрешающе махнул шоферу рукой в перчатке. Машина тут же тронулась и поехала дальше.
– Хрена вам с маслицем, а не склады воровать, – тихо-тихо, на пределе слышимости, прошелестел сидевший рядом с Лёхой Жанаев. Лёха только моргнул в ответ, потому как конвоир, и до того не выглядевший добродушным, зло нахохлился и всем своим видом выражал недовольство случившимся обломом. Между тем колеса прогромыхали явно по железнодорожному переезду, пошли какие-то домишки, заборы, сады, несколько раз, кроме немецких солдат, которых стало как-то много попадаться, мелькнули и гражданские люди.
Вскоре машина остановилась, конвоир вылез из кузова и молча кивнул сидящим – дескать, выметайтесь. Пленные вылезли по возможности быстро и оказались на перекрестке не то крупной деревни, не то и села, но присматриваться было некогда, потому что конвоир повелительно рыкнул и показал глазами, куда двигать. У одноэтажного домика на земле сидело человек сорок – пятьдесят в обмундировании РККА. Семенов сообразил первым и потрусил к ним, за дояром поспешил и Лёха с азиатом. Мельком оглянувшись, Лёха убедился, что конвоир остался у машины, а за всей этой кучкой пленных вроде как и не наблюдает никто, благо немецких солдат и офицеров сновало по улицам много – можно сказать, что они тут кишмя кишели.
Пленные сидели плотно, и Семенов почему-то, не раздумывая особо, уселся с краю. Жанаев и Лёха плюхнулись рядом с ним. Завертели головами.
– Дешево отделались, – сказал Лёха своим соседям.
– С чего бы? – отозвался Семенов.
– Я думал, нас этот сукин сын обязательно или пнет, или еще что выдумает. А обошлось.
– Болит задница-то? – невесело усмехнулся дояр.
– Угу, – признался Лёха. Сидеть было неудобно, штык все-таки не майская роза, и пара уколов была не просто царапинами, как ощущал попаданец.
– Ну, так у нас все впереди, – оптимистично заверил Семенов. И как в воду глядел. Только сейчас Лёха обнаружил, что их и здесь охраняют: слева под деревом, метрах в десяти, незамеченные сразу, сидели на стульях трое фрицев, а перед ними на обычном столе стоял ручной пулемет.
Вот один из этих троих поднялся неспешно, подошел к новоприбывшим, внимательно осмотрел их. Семенов и Жанаев для него привлекательными не показались, а Лёхой он с чего-то заинтересовался серьезно, даже на корточки присел, с интересом разглядывая ботинки. Лёхе очень захотелось поджать ноги под себя, но немец остановил это поползновение строгим цыканием, потом удовлетворенно кивнул головой, поднялся и, поискав глазами кого-то, поманил пальцем. Неподалеку поднялся такой же пленный, суетливо подбежал к немцу и старательно вытянулся в струнку. Немец коротко распорядился, и красноармеец с изрядной долей подобострастия сообщил, что пану официеру понравились ботики – давай, стягай.
– А как я-то без ботинок ходить буду? – искренне удивился Лёха.
– Та босиком, як жеж иначе? – удивился переводчик.
– Лучше снимай, – посоветовал сидящий рядом с Семеновым паренек с перевязанной правой рукой.
– А иначе что? – тревожно глядя на проявляющего признаки нетерпения немца, спросил растерявшийся Лёха.
– В лучшем случае – набьют морду. Сильно. В худшем – этот холуй с тебя дохлого снимет, – вразумительно и четко расставил все точки над «i» солдат.
Не очень понимая, что он делает, Лёха стал неловко развязывать шнурки, стянул ботинки, и их тут же перехватил переводчик. Смахнул с них пыль рукавом гимнастерки и чуть ли не с поклоном вручил немцу. Тот спокойно забрал еще теплую обувку и так же, не торопясь, вернулся обратно за стол с пулеметом.
Переводчик, радостно и лучисто поулыбавшись в спину уходящему гансу, вернулся на свое место, а Лёха растерянно уставился на свои разутые ноги.
– Прямо гоп-стоп какой-то, – убитым голосом сказал Лёха.
– Право победителя, – хмыкнул в ответ красноармеец с перевязанной рукой.
– А давно вы здесь? – спросил Лёха.
– В плен вчера попал, а сюда сегодня привели. Тут вроде как сборный пункт, то и дело еще подгоняют.
– Кормили? – задал вопрос и Семенов.
– Вчера какие-то объедки давали. Но там другие немцы были. Те, что нас в плен забрали. А тут с рук сдали – и все.
– В списки вносили, допрашивали? – не отступался Семенов.
– Нет. Этого не было, никаких записей. Вон, гляди, еще гонят, – показал взглядом раненый. Лёха глянул в том направлении и увидел двух тяжело бегущих по середине улицы красноармейцев. Расхристанных, взмокших, без пилоток и ремней, а сзади за ними ехал мотоциклист и покрикивал на бегущих, периодически поддавая газку, отчего мотоцикл свирепо взрыкивал, а красноармейцы пытались бежать быстрее.
Семенов поморщился. Находившиеся на улице немцы что-то весело советовали мотоциклисту, а он явно работал на публику, чаще ревел мотором и что-то горланил в ответ, отчего веселье нарастало и катилось по улице, сопровождая бегущих. Из дома напротив выскочили на шум еще несколько немцев, живо напомнивших Лёхе тех – с трубочками, которые со склада папиросы сперли. Видно, так принято было ходить вне строя: сапоги, портки и нижняя рубашка с подтяжками. Про себя Лёха отметил, что у немцев подтяжки носили многие, а вот у наших видеть не доводилось.
Перед кучей сидящих на земле пленных мотоцикл взревел совсем уж лихо, и оба бегуна, видимо, совсем потеряв от усталости и страха головы ломанулись в гущу прямо по сидящим. Моментом вспыхнула брань и вроде даже короткая драка, но тут же все и закончилось: бегунов сбили с ног, и они затерялись в общей массе раньше, чем немец за столом схватился за пулемет. Мотоциклист подкатил к столу, что-то кратенько сказал, получил такой же краткий ответ и умчал прочь, подняв пыль.
– Не зря тащил, как сердцем чуял, – проворчал Семенов и сунул попаданцу те самые нелепые чуни из шинельных рукавов. Лёха, вздохнув, напялил их на свои ноги и, наконец, получил возможность осмотреться. Жизнь кипела в этой деревне, тихо и уныло было только в этом углу, где сбились в кучу взятые в плен. Победители же радовались жизни на всю катушку, причем не обращая никакого внимания на красноармейцев. Обзор у Лёхи был отличный, и потому он мог видеть довольно далеко. Непонятно с чего, но первое, на что он обратил внимание, были сапоги дрыхнущих прямо под стенкой избы неподалеку нескольких фрицев. Может, из-за того, что после гоп-стопа обувь привлекала его внимание, то ли из-за сверкания чего-то на подметках сапог. Тихо спросил у Семенова, что это такое. Сверкало что-то рядами на подметках, прямо сияло на солнышке. Боец так же негромко отозвался:
– Шипы у них такие, гвозди специальные. Это шляпки сверкают. А весь каблук подкова берет, малость поменьше, чем лошадиная. Чтобы износу не было обувке. Мы уже дивились, когда первые германцы рядом с нами валяться остались. Может, оно и верно, только ходить тяжело, да шуму много, если не по траве, а по брусчатке идти. Баловство, в общем. Ладно, ты пока сиди тихо, мне кое-что узнать надо.
И Семенов аккуратно стал перемещаться дальше среди сидящих, спрашивая то одного, то другого о чем-то. Жанаев сидел молча, тоже посматривал по сторонам. Да и раненый сосед не шибко рвался болтать, потому Лёха мог наблюдать за тем, что творилось вокруг, без помех. Сразу удивило то, что немцы были какие-то сбродные: вроде как в одной армии служат, а наряжены кто как. Правда, пятнистых таких, как те, что убили Петрова, тут не было, и никого вообще в камуфле, зато были и в сером, и темно-зеленом, двое прошли вообще в каких-то белых полотняных портках. То же и с фуражками: Лёха помнил, что у всех немцев фуражки были со стоячей такой тульей, горделиво задранной, а тут вон у того, что за столом сидит слева – фуражка как кепка мятая, блином на башке. А у его соседа – кепи с козырьком. А третий с краю – в пилотке. Даже странно: по кино судя, все немцы одевались в одну форму, а тут как на ярмарке какой-то.
И даже эсэсовец вон в черном прошел. Лёха проводил взглядом невысокого парня, на пилотке которого поблескивали старомодные мотоциклетные очки. При этом сам парень выглядел немного комично, потому как был нагружен под завязку: тащил две полные канистры (тут Лёху немного передернуло от воспоминаний), а в зубах держал здоровенный бутерброд, отчего походил на озабоченную собаку, добывшую зачетную кость. То, что это эсэсовец, Лёха понял сразу – настолько-то уж он в Третьем Рейхе разбирался, чтобы понять: если на фрице черный комбинезон и черепа в петличках, то это точно эсэсовец. Стильно смотрелась форма, признал про себя Лёха, не зря Хуго Босс делал – классный дизайн, и даже розовая окантовка на пилотке и петличках впечатление не портит, хотя цвета девчачьи.
Тут менеджер немного опомнился и грустно улыбнулся: вот больше не о чем думать, как о дизайне. Жрать хотелось, а многие из тех арийцев, кого он сейчас видел, как раз либо жрали, либо готовились пожрать. Опять же, странное впечатление разброда получалось, потому что слева, чуть подальше по улице, несколько человек стояли в очереди к явно самодеятельному котлу, стоящему на обычном костре, а вот справа – тут Лёха был уверен – стояла нормальная походная кухня, но там никто не копошился, зато куча солдат неподалеку от этой кухни сидела и активно ощипывала кур – перышки так и несло ветерком по улице. Хотя видно было, что немцы перья явно собирают, но при таком объеме работы поневоле за всем не уследишь.
Мимо пленных деловито, скорым шагом прошло несколько немцев, тащивших капустные кочаны, но они явно шли не в ту сторону, где щипали кур. Лёха проглотил набежавшую слюну и попытался отвлечься от представления хрусткого свежего капустного листа во рту. Мама часто готовила из капусты и морковки «витаминные салаты» и Лёха с детства прибегал на кухню за отдельным листом. Традиция уж такая была: листик схрумтеть и потом кочерыжку сточить. Нет, надо кончать думать о жратве. И Лёха постарался отвлечься.
Помогло и то, что не только жратвой фрицы занимались – несколько девчонок из местных явно были окружены льстившим им вниманием зольдатов и кокетничали вовсю, вон ту уже зольдат так по-хозяйски полапывает, а она и не против, только похихикивает, судя по всему. Лёха усмехнулся: ну, в общем, что в ночном клубе, что тут, только наряд другой, а так те же песни. Немцы вон не только с девчонками тусуются, что-то делают еще, причем вроде как железом брякали. Приглядевшись, понял – разложили на дощатом столе разобранное оружие и вроде как что-то показывают нескольким пацанам из своих же. Вроде как такой же пулемет, что на Лёху сейчас смотрит.
В отличие от оживленных немцев, куча пленных выглядела неподвижной, тусклой мятой массой. А немцы с чего-то стали еще оживленнее, начали собираться на улице, звать друг друга, словно цирк какой-то едет, и даже те, что куриц ощипывали, бросили свою работу. И да, действительно, скоро под дружный смех зольдатов появился и цирк – роскошный легковой автомобиль – Лёха уже и не удивился знакомой сверкающей звезде на радиаторе Мерседеса, – только вот этот кабриолет волокла весьма убогого вида пара лошадок, и в целом зрелище было комичное. Никак неказистая колхозная, коротконогая и пузатая скотинка не сочеталась с шедевром германского автопрома.
Впрочем, седоки кабриолета, хоть и выглядели явно начальством, потому как на погонах у них что-то серебряное было, но держались очень демократично, словно понимали комизм ситуации и сами вовсе не против были поучаствовать в общем веселии. Кучер-шофер шутовски раскланялся перед собравшимися, его наградили аплодисментами и одобрительными выкриками. За спинами собравшихся вокруг автомобиля происходящее было видно не самым лучшим образом, тем более – сидя на земле, но вскоре до Лёхи дошло: то ли словечко «пропаганда» несколько раз услышал, то ли увидел на вылезших из авто посверкивавшие на солнце фотоаппараты, то ли еще как, но ясно стало, что это корреспонденты тогдашних СМИ прибыли.
В воздухе прямо чувствовалось, что зольдаты чуточку презрительно относятся к этим корреспондентам, чуточку опасаются и явно хотят запечатлеться в истории. Даже хлипкий и сутулый зольдат в весьма обтерханном обмундировании, стоявший неподалеку, горделиво выпятил тощую грудь, как только оказался рядом с автомобилем. Прибывшие тут же стали распоряжаться, но не так, как им полагалось по чину, не по-офицерски, а как-то очень по-домашнему, по-свойски, называя окружающих «камерадами».
Тем не менее, публика живо засуетилась, к поломавшейся машине тут же нагрянуло несколько эсэсовцев в уже знакомой черной форме с розовыми кантами, вместе с ними оказалось и несколько в обычной серой. Они живо открыли капот и завозились уверенно в брюхе заболевшей кабриолетины, лошадей выпрягли и убрали с глаз долой и Начали что-то городить на противоположной от пленных стороне. Те, кто дрыхли у стены, живо построились в очередь перед вынесенным из дома стулом, рядом поставили что-то странное, на треноге, но как будто знакомое.
Корреспондент повыбирал место, откуда снимать будет, потом появился явно какой-то чин, потому что на нем форма сидела очень ладно, и много было всяких фиговин на погонах и мундире. Он первым из очереди сел на стул, и тут Лёха понял, что это походная стоматологическая установка, а вон и аккумулятор стоит, электрическое питание, значит. Жужжала бормашина, пациент старательно растягивал пасть, стоматолог уверенно работал, стоявшие вокруг отпускали шуточки – все, кроме тех, кто стоял в очереди. Второй из кабриолета тем временем сделал несколько общих снимков, потом подошел к почтительно вставшим перед ним конвоирам за столиком с пулеметом.
Пулеметчик остался на месте, остальные подошли к пленным и стали осматривать сидящих. Выбрали несколько человек, на вкус Лёхи – совершенно нефотогеничных: каких-то плюгавых, корявых и кривоногих, а треть из них была еще впридачу азиатами. Мордами они тоже не вышли. Честно признаться, корявые у них были морды. Словно гоблины какие-то, могли бы у Толкина в кино без грима сниматься. Пока их фотографировали, конвоир в фуражке блином поднял другую группу – эти выглядели совсем иначе: в полной форме, с шинелями, котелками и флягами. Совершенно нормальные люди, ни у одного нет никаких бинтов, все целые и здоровые.
Тут же немцы приволокли пару армейских термосов – ребристых, здоровенных, литров на двадцать каждый – и выстроившимся в очередь чистеньким пленным аккуратно надевший на себя белый поварской фартук немец половником стал разливать довольно густой суп, что корреспондент и запечатлел для истории. Смысл таких действий Лёха не понял, но корреспондент действовал уверенно, явно точно зная, что ему надо. Потом затрещал забор у домика слева, и оттуда, валя фруктовые деревья, выехал малюсенький танк, в котором опытный глаз геймера сразу опознал Pz.Kpfw.II. На буксире танчик волок советский БТ – не горелый, но сильно битый, пробоины были видны даже на расстоянии.
Сначала корреспонденту пришлось немного поорать, чтобы стоявшие рядом зольдаты отошли подале. Потом на фоне битого БТ гордо несколько раз проехала двоечка, вытащившая БТ на буксире откуда-то с задворков – и с закрытыми люками, и потом с открытым, откуда воинственно торчал командир двойки. Подождали, пока уляжется пыль, поднятая гусеницами, потом оба корреспондента, что-то обсудив, вытащили из кучи пленных испуганного паренька в танкистском шлеме и горелом в нескольких местах замасленном комбезе, что-то ему втолковали через услужливого переводчика из пленных, и танкист неохотно полез в танк БТ, где и встал в башенном люке, задрав руки. Но выглядел при этом как-то, на вкус Лёхи, неестественно. Немцы пришли к тому же выводу, потому один из эсэсовцев в черном комбезе по приказу фотографа лихо вспрыгнул на броню БТ и дал нашему танкисту подзатыльник. Парень в шлеме испугался еще больше, но такой вид фотографа устроил, и он сделал несколько снимков, сняв заодно и пару как бы берущих в плен этого дурня эсэсовцев.
Попасть в объектив хотели многие, и потому не слишком чинясь, оба корреспондента щелкали своими фотоаппаратами, не жалея кадров. Зольдаты остановили куда-то неторопливо трюхавшего на лошадке кавалериста, которого как раз сфотографировали на фоне танка БТ корреспонденты и тот, ухмыляясь, помог нескольким из толпы залезть на свою кобылку и их тоже сфотографировали корреспонденты. Насколько успел заметить Лёха, конник сделал на этом небольшой бизнес – во всяком случае, двое из снявшихся вполне открыто отдарились – один сигареты дав кавалеристу, другой сунул бумажку, очень похожую на купюру. Ну, точно, как в праздники в парке детей на лошадке так же фотографировали.
Боец Семенов
Пленные были даже на первый взгляд совершенно разными – сразу же выделялась группка человек из пяти-шести – чистеньких, веселых и даже, пожалуй, довольных происшедшим. Опять же, все было при них – от туго набитых «сидоров» и шинелей до фляг, котелков и прочего снаряжения, положенного красноармейцу по уставу. Не похоже было, что их схватили и обезоружили прямо в кипении боя. Несколько человек, наоборот, были совершенно обалдевшими, ободранными, со свежими ссадинами и кровью на одежде – вот этих явно взяли с бою. Остальные по виду были где-то посередке между кучкой благостных, как их окрестил для себя Семенов, и тех, что были после недавней драки.
Агонизировавшая дивизия, огрызки и обломки других частей, добиваемые германцами в этом районе, были представлены и в пестром сборище военнопленных. Больше всего было пехотинцев, но и танкисты сидели – их отличали комбинезоны да танкошлемы; артиллеристы наличествовали, была пара явных техников, даже из ВВС один был – а Семенов думал, что, кроме Лёхи, тут никого из воздушной братии не окажется. Половина сидевших были ранены, забинтованы чем попало и на скору руку, но видно, что все – легкие, ходячие. Ни одного тяжелого тут не было. И Логинова со Спесивцевым тут не оказалось, чему Семенов сначала порадовался, а потом вспомнил, что и Петрова тут нет. Так что ничего хорошего – нечему тут радоваться.
Охрана, сидящая с пулеметом под деревом, не препятствовала пленным перемещаться с места на место, и то один, то другой боец по каким-то своим делам перебирались, не пересекая невидимую черту, ограничивающую это скопище людей. Вялое такое копошение получалось – тем более, что кроме группки сытых и благополучных остальные выглядели и уставшими до чертиков и голодными.
Пользуясь этой возможностью, Семенов аккуратно подсаживался то к одному, то к другому, разыскивая земляков и интересуясь важными вопросами: кормят ли тут, есть ли водичка и что вообще слышно. Раньше в плену быть не доводилось, потому надо было понять, что и как будет, что и как надо делать самим.
У них в деревне был дядька Евстафий Егорыч, он в империалистическую оказался в немецком окуржении, где в плен и попал. Первым делом его отбуцкали сапогами и прикладами, потом записали, кто он и откуда, и сидел он за колючей проволокой лагеря для военнопленных до конца войны. Видеть потом колючую проволоку не мог – до судорог дело доходило, причем всерьез, без шуточек. Но вот жить в плену оказалось можно: кормили три раза в день, лечили, когда заболел – в общем, нормально, по-людски относились, хоть и врагами были. Голодно, конечно, было в конце войны, ну так и германцам самим жрать было нечего, дети у них из-за блокады без ногтей рождались. Но если пленный помирал – то давали хоронить его как положено, на кладбище, с отпеванием и попом, в гробу, что по тем временам, когда в России прогрохотала гражданская война, казалось даже и роскошью.
А офицерам российским императорской армии даже разрешалось вне лагеря жить, как частным лицам. Под честное офицерское слово, что не попытается офицер удрать из такого плена. Потом вот Тухачевский слово нарушил и удрал, и всех офицеров тогда в лагерь обратно загребли, как простых солдат. Дескать, за это Тухачевскому потом и отомстили офицера, когда он уже маршалом стал. В общем, дядя Евстафий Егорыч о германцах отзывался уважительно: порядочные, дескать, люди были, толковые и в механизмах разбирались – не чета нашим. В итоге многие односельчане – погодки Евстафия Егорыча – вернулись с войны беспомощными калеками, многие и вообще не вернулись, погибли где-то далеко на той громадной и жуткой войне, а он вернулся целый, здоровый.
Безногий пьянчужка Лямоныч не раз матерно и грязно Евстафия хаял: дескать, отсиделся бугай за чужими спинами. Дядька на это старался внимания не обращать, но видно было, что вопли деревенского дурачка-юродивого ему неприятны сильно. Но, тем не менее, призванный двумя годами позже Евстафия Лямоныч вернулся бестолковым обрубком и рассказывал всем и каждому, кто соглашался его слушать (а уж тем более – угощал вояку самогонкой), как ему ноженьки порвало как раз гранатой-лямонкой, и пришлось ползти подранетому солдату по грязище осенней две версты, волоча за собой то, что раньше было крепкими белыми ножками. А когда в конце концов в полубеспамятстве дополз он до своих, то в гошпитале лекаря отрезали уже помершие ноги напрочь. И стал бравый и бойкий рядовой драгунского полка беспомощным огрызком. А сукин кот и блядий гад Евстафий Егорыч вернулся с войны на своих двоих ногах, целехоньких, что сильно отличает тех, кто с ногами, от тех, кто таковых не имеет. И не только потому, что в крестьянском хозяйстве безногому мужику места нет, а еще и потому, что и с девками не попляшешь, и замуж за такого никто не пойдет. Сильно другая жизнь у безногого в деревне выходит.