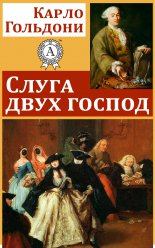Красный замок Дуглас Кэрол

К ее списку вредных привычек Шерлока я мог бы добавить еще парочку, хотя, строго говоря, семипроцентный раствор кокаина и игра – по моему мнению, совсем недурная – на скрипке служили моему другу единственным отдыхом.
– Он слишком много работает. – Открывая дверь, миссис Хадсон будто прочла мои мысли: – А вы, доктор, без сомнения, изволите подкрепиться.
Такой потребности я не испытывал, но мне не хотелось, подобно Холмсу, отвергать заботу добрейшей хозяйки.
– У меня осталось немного холодного пирога с почками. Разумеется, мистер Холмс ужин пропустил. Но вы чувствуйте себя как дома.
– Спасибо. – Я оторвался от изучения гостиной, чтобы отпустить добросердечную женщину назад, на кухню.
Когда за ней закрылась дверь, я вздохнул с облегчением, на секунду поняв Шерлока Холмса в его пристрастии к уединению. Все здесь осталось таким же, как прежде. О, разумеется, не абсолютно все, но в целом картина почти не изменилась.
Я подошел к камину и увидел персидскую туфлю. В ее загнутый нос был забит комок табака, пахнущий знакомо, по-старому. Но где же вторая туфля? Вот и появилась загадка.
Сваленные в кучу на краю стола стеклянные колбы для химических опытов, казалось, подмигивали мне при свете лампы. Я уловил запах серы… хм-м, керосина, разумеется, и еще… имбиря?
Я чувствовал себя актером, навестившим любимую сцену, обустроенную для пьесы, в которой он более не занят. Каждый предмет обстановки в комнате был мне близок, как старый друг, но в то же время я будто находился далеко от этих вещей, от этого места и даже, возможно, от роли, которую мне предстояло снова сыграть.
Но, несмотря на свою отстраненность, я все же трепетал от страха сцены. «Дело жизненной важности, самое серьезное в моей практике». Выбрал ли Холмс эпитет «жизненной важности» потому, что он не только указывает на серьезность задачи, но имеет и дополнительный оттенок? Потому что речь идет о близости смерти и краха? Именно этого я и боялся. Шерлок всегда отличался точностью формулировок.
Моя ладонь легла на шероховатую деревянную рукоятку пистолета, покоящегося у меня в кармане. Указательным пальцем я провел по холодной гладкой стали предохранителя. Придется ли мне воспользоваться оружием до заката?
Услышав шум на лестнице, я подошел к двери. Хотя бы раз я не позволю Холмсу вырваться на авансцену и навязать мне роль зрителя: это и моя пьеса!
Я открыл дверь…
…и увидел старого раввина в длинном, некогда черном, а теперь выцветшем пальто и соответствующей шляпе: он возился с тростью, пытаясь поднять ее достаточно высоко, чтобы постучать в дверь, но на месте деревянного полотна оказалось мое лицо.
– Что ж, Холмс, – пробубнил я, видимо вдохновленный вольностями, которые позволила себе миссис Хадсон, – не думаете же вы, что меня можно одурачить подобным маскарадом!
– Одурачить вас, молодой человек? Мне это совершенно ни к чему. А вы, похоже, и сами удачно себя дурачите, не хуже многочисленных идиотов нашего времени. Это Бейкер-стрит, двести двадцать один «бэ»?
– Да.
– Тогда пустите же меня внутрь, мистер Холмс, раз уж я явился по вашему приглашению. Точнее, по приказу.
– Я доктор Уотсон.
– Признаюсь, я бы воспользовался услугами доктора: меня замучил ревматизм. Но, если мистер Холмс отсутствует, не стоило вызывать меня в такой промозглый вечер.
– Он придет. – Я спохватился, что невольно попал в ловушку: Холмс абсолютно вжился в роль согбенного старца. – В смысле, вы придете.
– Я вполне приду, если только вы отступите в сторону и позволите мне войти в комнату.
В ответ на сказанное я так и сделал, благодаря чему смог незаметно изучить «посетителя» Холмса.
Какая великолепная маскировка! Черная шляпа с высокой тульей, из-под которой у каждого уха свисает прядь кудрявых волос; сутулая спина и зажатые плечи; острые локти, шаркающая походка, подчеркнутая ритмичным стуком трости, – все было идеально.
Я ждал, что, когда Холмс прошествует в комнату, он выпрямится и обратит на меня сверкающие глаза, но этого не произошло.
– Проделать такой длинный путь – и впустую, – заметил старик; в его ровном тоне различался легкий акцент.
Образу определенно не хватало дрожания в голосе – крошечная ошибка, на которую я с радостью укажу Холмсу, когда он наконец сбросит личину. Ему ни на секунду не удалось меня провести!
Старик впечатал трость в ковер с такой силой, что я забеспокоился о душевном покое миссис Хадсон.
В ответ на этот удар эхом раздался громкий топот за дверью: кто-то поднимался по лестнице, перескакивая через ступеньки.
Я обернулся посмотреть, что за нетерпеливый гость так спешит сюда:
– Холмс!
Он остановился на входе в гостиную. Я много раз видел, как его худощавая высокая фигура минует дверной проем – будто ожившая картина, вышедшая из рамы. На нем были цилиндр и костюм скромного, но благородного кроя.
– А, Уотсон! Вы уже познакомились с раввином Баршевичем, – молвил он. – Отлично. Прошу вас, присаживайтесь, – пригласил он старика, отвесив ему поклон. – И вы тоже, Уотсон. Но сначала закройте дверь, если вас не затруднит. Необходимо, чтобы нас не беспокоили.
– Но миссис Хадсон…
– Да-да, я с ней знаком.
– Она несет сюда пирог с почками.
– Пирог с почками? – переспросил детектив таким тоном, словно речь шла о человеческих органах. – Очень хорошо, мы потерпим. Жаль, я не держу никаких животных, которым можно было бы скормить всю эту еду. А теперь, раввин, мне нужна информация о Международном обществе обучения рабочих[16], которое собирается в доме номер сорок по Бернер-стрит. Убежден, что эмиссары барона Ротшильда рассказали вам, что меня интересует и чем я занимаюсь.
– Агенты барона были крайне возбуждены и больше всего хотели поскорее отделаться от пыли Ист-Энда на своих щегольских ботинках. Мне сообщили лишь ваше имя и адрес, приказав зайти к вам.
– Прошу прощения. Я только вернулся из-за границы и чрезвычайно хотел бы поскорее положить конец уайтчепелскому делу.
– Если вы способны найти Джека-потрошителя и покончить с ним, большего я и не желаю, – произнес раввин сильным голосом, снова постукивая тростью по ковру.
– Несомненно, новых бесчинств вы не ожидаете?
– Этот монстр, кажется, растворился подобно туману, в котором он провернул свои мерзкие дела. Но подозрения, которые из-за его злодеяний пали на мой народ, никуда не делись.
– Скажите мне, – сказал Холмс, вдруг подтянув ноги к подушке плетеного кресла и устроившись, как какой-нибудь свами[17], – та фраза: «Эти ивреи – это такие люди, что не будут обвиненными зазря», – что она для вас значит?
– Бессмыслица. В Уайтчепеле постоянно пачкают стены подобными мерзостями, такое ребячество!
– Вы думаете, эту надпись мелом сделали дети?
– Я не про маленьких детей. – Старик приставил мозолистый указательный палец к виску: – Взрослые дети тоже любят глумиться и обзываться, а когда я прохожу мимо, в меня бросают мусором. Те, что поменьше, лишь повторяют подсмотренные действия старших, как мартышки. Нас, евреев, вечно в чем-нибудь обвиняют.
– В таком случае, под подозрение попадают все, – вывел Холмс, – даже я.
Последнее высказывание предвосхитило назревающие у раввина возражения.
– Помимо евреев, – продолжал детектив, – в качестве кандидатов на роль Потрошителя также названы несколько русских и поляков.
– Упоминались также гои, и даже сильные мира сего, – язвительно добавил раввин: эта идея доставляла ему какое-то особое удовольствие.
– Даже те, кого считают сильными мира сего, – согласился Холмс, выразив тем самым презрение, с которым обыкновенно относился к таким общественным преимуществам, как богатство и положение.
– Значит, никто не останется вне подозрения? – уточнил старик.
– Никто. Никакая страна, народность, религия, ни даже женский или мужской пол не получают привилегий, справедливо это или нет.
– Правильно ли я понимаю, молодой человек: вы пытаетесь убедить меня, что будете рассуждать справедливо?
– Не просто справедливо. Я буду руководствоваться логикой.
– Логика, – крякнул старец, – это единственное средство, к которому еще не прибегали, пытаясь разрешить уайтчепелские ужасы.
Когда удалилась миссис Хадсон, совершив свое подношение, и раввин ушел, передав Холмсу необходимые сведения, мой друг обратил все свое внимание на меня:
– Что, доктор Уотсон, по-прежнему живете в довольстве, набиваете живот и наслаждаетесь супружеской жизнью в своем Паддингтоне?
Я с удивлением увидел, как сыщик уселся за круглый стол и начал уплетать пирог с почками, будто голодный моряк.
– Очевидно, вы намереваетесь немедленно отучить меня от еды, мой дорогой Холмс.
У него вырвался лающий смех, который больше походил на дань общественным приличиям, чем на выражение истинного веселья. Сыщик подвинул тарелку на мою сторону стола.
– Угощайтесь, дружище. На улице прохладно и сыро не по сезону.
Я присел, но к пирогу не притронулся:
– Значит, экспедиция будет не из приятных.
– Но, возможно, обернется наступательной атакой, – ухмыльнулся Холмс, плеснув токайского вина в тонкие бокалы.
– Вы, видно, продвинулись в деле с того момента, как отправили мне телеграмму. Удалось что-нибудь узнать от раввина?
– Я и впрямь добился некоторого успеха, если преодоление ползком от начала до конца самой зловонной канализации в Англии можно считать достижением.
– Но не в этой же одежде?
– Нет. После путешествия по туннелям мне пришлось явиться с докладом к моим патронам.
Как обычно, Холмс ввернул словечко «патроны», которое могло указывать только на то, что себя он считает определенно выше их.
Я не мог не разделять ироничного отношения друга к его положению. Мне не известен другой человек, умеющий так точно проникнуть в самую суть ситуации или характера. Опираясь на малейшие вещественные улики, Холмс мог вывести глобальные заключения о том, как добро и зло руководят человеческой душой. Это умение отстранило его от забот простых смертных, но в то же время позволило понять, чем живут определенные люди и как именно настигает их смерть. Он, словно умелый хирург, через кожу, хрящи, мускулы и кости, образующие панцирь повседневной жизни, проникал внутрь: в необыкновенные и сложные переплетения побуждений, страстей и семи смертных грехов, которые, подобно кровяным тельцам, движутся по нашим венам и нередко заставляют людей совершать преступления.
– Ваши патроны, – повторил я, вернувшись на землю. – Конечно, вы не о полиции.
– Точно не в этот раз! – хмыкнул он. Его беспокойные серые глаза буравили персидскую туфлю, покоящуюся на камине. Даже кот, выслеживающий мышь в норке в другом конце комнаты, не выглядел бы таким сосредоточенным.
В следующую секунду Шерлок бросился на свою жертву, и скоро знакомый аромат табака затмил химические запахи, которые наполняли комнату ядовитой взвесью.
Шахерезада обольщала, рассказывая тысячу и одну сказку и прикрываясь вуалями. Вуаль Холмса была соткана из дыма и придавала таинственности процессу раскрытия преступлений.
– Полиция на этот раз работает грубее обычного, – пробурчал он с трубкой во рту. – Они оставили вокруг огромное количество отпечатков – вот это самое настоящее преступление.
– Видимо, вопрос крайней важности, раз задействовано столько полицейских.
– О, не сомневайтесь, – сказал он весело. – Такой беспрецедентной важности, что они не потрудились позвать меня. Но и ладно. Тут полицию опередили их «патроны». – Он вернулся на свое место перед тарелкой с крошками пирога и положил локти на стол. – И все же в одном полиции удалось меня обойти.
– Вы признаете свою неудачу? – удивился я.
Холмс пожал плечами:
– Я, как вы знаете, умею проникать в самые злачные места Лондона. В опиумные притоны, логова воров, – я могу прикинуться отбросом общества и, сойдя за своего, спокойно перемещаться среди тамошней публики…
– Здесь нечему завидовать, – перебил я с содроганием, поскольку прекрасно понимал, какие физические и духовные болезни процветают в подобных крысиных норах, живущих пороком и торговлей людьми.
– …однако есть один вертеп греха, куда мне не так легко попасть.
– Неужели!
– Без сомнения, вы уже смекнули, о чем я говорю, Уотсон, учитывая ваш богатый опыт в тайных делах.
– Ну, я… – На самом деле я вовсе не понимал, к чему ведет Холмс, и не спешил признавать наличие у себя опыта «в тайных делах», не зная, что он подразумевает.
– Ну что же вы, в самом деле! Такому храброму, пышущему здоровьем красавцу, как вы, скромность не приличествует. В одной области вы гораздо искуснее меня, да и наверняка большинства мужчин. И я сейчас не имею в виду медицинскую практику.
– Конечно, в области медицины я знаток, и потому немного разбираюсь в законах человеческой природы, как подобает любому врачу…
Холмс прервал меня, подняв руку:
– Отказываюсь слышать ваши сомнения на эту тему, Уотсон. Лично я уверен, что в вопросах, касающихся женщин, вы самый честный судья.
– Женщин?! Так это дело имеет отношение к женщинам?
– Именно. И к тому, как мужчины с ними обращаются. Насколько вы помните, эта тема всегда оставалась своего рода загадкой для меня. О, я прекрасно осведомлен о том, как устроен мир, я просто не могу понять, почему он так устроен. Впрочем, не то чтобы мне и хотелось.
– Человек, которого не привлекает общество других людей, – мизантроп. Мужчина, который не находит пользы в общении с женщинами…
– Женоненавистник, – закончил за меня детектив. – Я знаком с терминологией, Уотсон. И вовсе не уверен, что пренебрежение дамским обществом делает меня женоненавистником, когда я вижу, каким образом большинство мужчин использует своих подруг.
Я отпил чудесного токайского вина, задумавшись над словами своего товарища. Хотя я нередко упрекал Холмса в его безразличии к тем, кого некоторые скромные писатели называют прекрасным полом, мы никогда в действительности не пытались выяснить, насколько велика бездна, разверзнувшаяся между мной, женатым человеком, и Холмсом – убежденным холостяком. Более того, хотя детектив не состоял в браке, он и не пользовался своей свободой, чтобы волочиться за женщинами, но вместо этого наслаждался одиночеством и вел почти монашеский образ жизни, словно принял целибат.
Вот оно! Я уже использовал это слово раньше, пусть только наедине с собой, в отношении той особенности моего друга, которую я никогда не изучал. Целибат. Если бы Холмс был религиозен, это многое бы объяснило. Но он считал себя логиком и оставался столь же равнодушен к традиционной религии, как и к женскому полу. Аскетичный эстет, целомудренный представитель богемы, если такое противоречивое определение имеет право на существование. Впрочем, Холмс был единственным в своем роде, и это положение его более чем устраивало. Устраивало оно и меня – когда не раздражало.
– Вы догадываетесь, – спросил негромко Холмс, – какое преступление я расследую?
– Понятия не имею!
– Дело Потрошителя.
– Потрошителя?! Вы упомянули о нем в разговоре с раввином, но я подумал, что имя просто пришлось к случаю. В этой самой комнате вы клялись мне, что не участвуете в поисках уайтчепелского душегуба. «Это бессмысленная и жестокая бойня, Уотсон» – вот ваши точные слова. Я записывал. Кроме того, уже несколько месяцев не случалось убийств, напоминающих по почерку Потрошителя. Очевидно, с ним покончено.
– Вроде бы, – ответил он загадочно из густого облака дыма.
Я понял, что своей возмущенной речью попал в яблочко.
– Мне пришлось держать вас в неведении, Уотсон. Прошлой осенью меня призвал к расследованию, хоть и поздно, человек, занимающий настолько высокое положение, что даже намек на его имя или пост был бы равносилен предательству, и каждый истинный англичанин скорее согласился бы на смертную казнь, нежели раскрыл информацию.
– О! – воскликнул я, немедленно догадавшись, что он имеет в виду ее величество королеву. Иногда Холмс прибегал к рискованным, крайне прозрачным формулировкам именно в том случае, когда хотел запутать собеседника.
– Я очень сожалел, что вынужден вас обманывать. Вы мой старый, безупречно верный друг и заслуживаете большего. Однако у вас есть привычка вести записи о расследованиях, и более того: вы стремитесь эти записи публиковать. Но теперь…
– Полагаю, теперь мы со стариной Тоби заслужили маленькую сахарную косточку.
Выглянув из-за чашки любимой черной глиняной трубки, Холмс смерил меня удивленным взглядом в ответ на мое упоминание о собаке-ищейке, которую он иногда использовал в расследованиях.
– Не стоит обижаться, – мягко заметил он. – Если ранее это была государственная тайна, сейчас проблема приобрела международный характер.
Теперь он поймал меня на крючок, как лосося в ледяной шотландской реке.
– Международный?
– Именно так, – пробормотал он в просмоленную трубку, под которую особенно любил поразмышлять. – Слушайте, Уотсон. Я рассчитываю на ваш опыт в данной области и полагаюсь на ваше милосердие. Отправляйтесь со мной в Уайтчепел и покажите, как подобное место видится джентльмену и как он производит выбор.
– Джентльмен?
– По крайней мере, достаточно добропорядочный человек. Не будете же вы утверждать, что за время пребывания в заграничных краях не испробовали на себе… местные развлечения.
– Но ведь тогда я служил в армии, Холмс! И я не святой.
– Именно поэтому ваши знания для меня сейчас особенно ценны. Я никогда не был в армии, и, хоть не стремлюсь к святости, меня не тянет и грешить. Я долгое время считал это преимуществом в служении своему призванию, но теперь нахожу, что в данном случае подобное обстоятельство только во вред.
– Признавать свои слабые стороны – это так на вас непохоже.
Холмс засмеялся в дыму, валящем из трубки:
– В самом деле, положение несколько унизительное: воздержание, которое обыкновенно расценивается как признак высокой морали, встает преградой на пути расследования.
Он, по своему обыкновению, внезапно вскочил, подошел к книжной полке и вернулся, неся в руках небольшую книгу, которую я видел впервые. Хотя его походка всегда отличалась уверенностью, сейчас детектив слегка запнулся, проходя мимо камина: взгляд его упал на какой-то предмет.
Я тоже посмотрел на каминную полку: ее поверхность оставалась неизменной, как проклятые барханы Афганистана. Все вещи покоились на своих местах: складной нож, пригвоздивший к деревянной плоскости пачку писем, персидская туфля, кабинетный портрет погибшей авантюристки Ирен Адлер и на самом краю – забытая щепотка табака.
– Вы читаете по-немецки, Уотсон?
– С запинками. Сами понимаете, только медицинские книги. Хм, Ричард фон Крафт-Эбинг, – пробормотал я, глянув на название книги. – Я слышал о нем; правда, вокруг этого имени разразился скандал.
– Превосходно! – Холмс устроился в плетеном кресле и принялся дымить как паровоз. – Поведайте мне о нем.
– Крафт-Эбинг утверждает, что выделил целый класс преступников: он называет их «убийцами на почве похоти».
– И что он под этим подразумевает?
– То, что желание убивать у них связано с плотскими побуждениями.
– И в чем отличие этих маньяков от тех, что движимы жадностью и жаждой мщения, или от совершающих злодеяния сумасшедших?
Я внимательно изучал плотные страницы томика:
– Не могу сказать. Я только слышал о нем, но работ его не читал.
– И как же получилось, что новость об этом чрезвычайно полезном издании совершенно обошла меня стороной? – заметил Холмс несколько раздраженно. Тон его голоса был слегка выше обычного. Когда сыщик чувствовал, что на него не обратили должного внимания или, того хуже, принизили, его голос взлетал к высочайшим нотам.
– Холмс, такие вещи по всему миру обычно обсуждаются исключительно тайком, в мужском кругу, в клубах и барах для джентльменов. Подобная информация не предназначена для широкой публики.
– И для женщин.
– Разумеется! Я бы собственноручно наказал того, кто подсунул бы подобное непотребство моей Мэри.
– И тем не менее жертвами убийств на почве похоти чаще всего становятся именно женщины, и иногда дети, если верить Крафт-Эбингу. – Холмс мог многого не знать, но неизменно умел выделить главное.
– Для начала нужно принять его теории за истину, а они подвергаются серьезным нападкам.
– Галилея тоже распекали.
– Не помню, чтобы вас хоть сколько-нибудь беспокоило вращение Солнца вокруг Земли или наоборот. Мы с вами уже спорили на эту тему.
– Меня, как и прежде, ни на йоту не волнует скучный порядок небесных светил. – Холмс сопроводил свои слова презрительным взмахом длинной узкой кисти.
Я впервые с удивлением заметил, что у него руки дирижера, которые говорят невероятно красноречиво, в то время как лицо его часто не отражает эмоций. Между тем мой друг продолжал:
– Я просто-напросто указал на то, что кажется мне интереснее предмета сего издания: новые идеи часто решительно отвергают. Впрочем, подозреваю, что теории фон Крафт-Эбинга принесут мне и делу гораздо больше пользы, чем круги, которые небесные светила навернули за несчетные тысячи лет.
Не сдержавшись, я рассерженно цокнул. У меня не укладывалось в голове, как детектив, настоящий ученый, исследующий через микроскоп мельчайшие частицы вещественных улик, может не придавать значения величественному ежедневному танцу планет и звезд, который виден невооруженным глазом.
Холмс пожал плечами и одарил меня одной из своих редких очаровательных улыбок – обычно так он поступал в разговоре с нервными клиентами, но не со мной.
– Я беспринципный человек, Уотсон, во всем, что никоим образом не касается непосредственно хода расследования. Однако я охотно узнаю новое. И похоже, этот Крафт-Эбинг в своей монографии, которую многие ненавидят, но все же жадно читают, описал целый класс Джеков-потрошителей.
Я начал перелистывать страницы в поиске группы слов, которую смог бы с ходу перевести.
– Как вы нашли эту книгу?
– Мне ее подарили.
Я ошеломленно взглянул на него. За свою работу Холмс получал оплату, иногда в виде весьма дорогих безделушек от богатых и титулованных персон, но никогда не брал ничего личного, вроде традиционных подарков.
Его губы были сжаты так плотно, что, казалось, их и динамитом не разомкнуть, но я заметил, что он слегка улыбается. Самодовольно.
– Итак, вы считаете, что эта странная книга поможет вам найти Потрошителя, который, по-видимому, еще в прошлом году закончил свою деятельность и исчез в тумане, из которого и явился.
Глаза Холмса сузились – возможно, от зловонного дыма, который старая глиняная чашечка трубки извергала с мощью Везувия.
– Это самый грязный след, по которому мне когда-либо приходилось идти, Уотсон, и я уже знаю, что пострадали достойные девушки. Я чувствую, как у меня вскипает кровь от возмущения. Даже насилие над непорядочными девушками выводит меня из себя. Ни один истинный англичанин не должен сносить того, во что превратился Уайтчепел – и до прихода Потрошителя, а тем более теперь. Я поймаю мерзавца. Возможно, мне придется иметь дело со столь низменными и темными материями, с которыми я еще никогда не сталкивался, а вы знаете, что мне выдалось встречаться лицом к лицу с немыслимой человеческой дикостью, с палачами, с заключенными, наркоманами и прочими отбросами общества. Но Потрошитель достиг нового уровня ужасов. Однако я сумею понять его кошмарную логику. Я сумею понять его самого. И я его поймаю. Вам хватит смелости составить мне компанию?
– Конечно, Холмс. Я взял с собой старый армейский револьвер.
Гений дедукции горько улыбнулся:
– Против того, с чем мы встретимся, пули могут оказаться самым слабым оружием. Но я рад, что буду бороться не один.
Глава четвертая
Безжалостный Уайтчепел
Здесь я знатен; я магнат; весь народ меня знает, и я – господин. Но иностранец на чужбине ничто; люди его не знают, а не знать человека – значит не заботиться о нем.
Граф Джонатану Харкеру (Брэм Стокер. Дракула)[18]
Перед тем как отправиться на наше малоприятное задание, Холмс переоделся в одну из своих пиджачных пар, какие все чаще можно было видеть на улицах Лондона, – этой американской моде, я уверен, не осмелился бы последовать ни уважаемый врач с Харли-стрит, ни даже некий скромный доктор из Паддингтона. Новая модель пиджака была лишена свойственных городскому платью украшений: шлиц и фалд. Таким образом, костюм походил на более скромную одежду, в которой посещают спортивные мероприятия, однако пошит он был из дымчатой черной шерсти хорошего качества, а не из трикотажа или парусины.
– Говорят, Уотсон, что по утонувшим в нечистотах улочкам Уайтчепела неторопливо расхаживают уважаемые господа, хотя пока я видел там лишь мнимых джентльменов, донашивающих остатки прежней роскоши, подобно тому как их еще более несчастные собратья рядятся в бархатный берет.
Двухколесный экипаж оставил нас там, где указал Холмс, – на углу Фэрклоу и Бернер-стрит. Союз этих названий заставил меня, отличающегося крепким телосложением, встрепенуться, поскольку они часто мелькали в газетах посреди историй о разных злодеяниях.
– Вы подозреваете, что Потрошитель – джентльмен? – поинтересовался я тихо, чтобы меня не подслушали, и держа руки в карманах во избежание кражи.
– Я? Нет. Но сейчас эта теория популярна среди мошенников с Флит-стрит, которые выдают себя за журналистов. Недостаточно, значит, того, что смертоносный монстр выслеживает своих жертв по переулкам, – он непременно должен быть привилегированным господином, занимающим высокий пост. Если бы я получал по фартингу, Уотсон, за каждую выдуманную историю, завязанную на действиях Джека-потрошителя, я бы… пожалуй, я бы смог позволить себе табак сортом получше.
Я слегка откашлялся, вдохнув тлетворную смесь, которая наполняла искривленные полупустынные улицы вместо воздуха:
– Зачем я вам нужен?
– Вы никогда не бывали в Уайтчепеле?
– Я женатый человек, Холмс!
– Не всегда же вы были женаты, Уотсон.
– Нет, но даже раньше я ни разу не осмелился отправиться сюда. Любого разумного человека отвратит риск подхватить заразу.
– Мы ищем не разумного человека. – Холмс остановился под одним из газовых фонарей, которые по пальцам можно было пересчитать, чтобы осмотреть улицу. – Мы ведем охоту на того, кто упивается обратным. Но это не значит, что в другом месте он не может спать на шелковых простынях.
– А как насчет писем Потрошителя?
– Считаете, они от этого чудовища? Возможно. Но почему тогда они испещрены американизмами и неумелыми подражаниями произношению кокни[19]? – Он осмотрел слабо освещенную картину: вне обличающего круга газового света люди шли вразвалку, будто массовка в каком-нибудь современном представлении, изображающем урбанистический ад. – Я понимаю опиумного наркомана, Уотсон. Наркотики вызывают видения и создают иллюзии. Некоторое время боль ощущается как удовольствие. Но я не понимаю тех мужчин, которые приходят сюда в поисках именно такого обмана чувств, чтобы удовлетворить свои потребности или испытать наслаждение.
Я проследил за его взглядом, который был устремлен на идущую заплетающимся шагом женщину по другую сторону дороги.
Несчастное создание явно принадлежало к прослойке бездомных – людей с обочины, которые привыкли к жестокому обращению. Она обладала крупным телосложением, но во внешнем виде читались признаки плохого питания; лицо распухло от чрезмерного употребления алкоголя, – она напоминала женщину не больше чем подставка для дров в гостиной. На взгляд врача – ходячий комок болезней и гниения. Неудивительно, что таких женщин называют пропащими.
– Зачем утруждаться и умерщвлять подобное печальное создание? – продолжал детектив. – И все-таки мужчины водятся с ними. Вы можете это объяснить?
– Мужчины тоже зачастую бывают пьяны.
– Я искренне благодарен за то, что бокал хорошего портвейна, который я могу изредка пропустить, не ввергает меня в такое состояние.
Я указал головой на кучку оборванцев, которые стояли вдоль аллеи, облокотившись на фонарные столбы:
– Большинство из этих мужчин – грубые чернорабочие. Работа у них муторная, грязная и гнусная – таковы же их порочные желания. Но, говорю вам, Холмс, в ту же игру еженощно играют в Вест-Энде – только в более симпатичных костюмах.
– Похоже, я понимаю. Или даже могу быть уверен. Та же игра, говорите вы, Уотсон. Значит, человек с чистой игровой площадки может захотеть… испытать свои умения в… более опасном районе.
– Это правда, Холмс. Убежденный гедонист ищет эмоций в их чистой форме. Психически больной аристократ может пожелать окунуться в худшую выгребную яму города.
– Глядите, – перебил меня детектив. – То безобидное на вид обветшалое здание – опиумный притон, который… мне знаком. Ручаюсь, что все, кого можно найти внутри, потеряны для мира, Уотсон. Жизнь, протекающая на этих улицах, руководствуется другими законами. Если здесь кто-то умирает, никто не видит в этом ничего необычного. Где начало и конец Потрошителя? Я начинаю думать, что он бесконечен. Не человек, а… сама бесчеловечность.
– Как можно найти и обличить бесчеловечность, Холмс?
– Не знаю. Подозреваю, что этого еще никто никогда не делал. – Он остановился под другим фонарем, чтобы закурить трубку, и поздоровался с проходящим полисменом.
– Вы были здесь раньше! – упрекнул я друга.
– Я часто здесь бывал. Во многих обличиях, в том числе и в своем.
– Ваша личность – не костюм, Холмс.
– Разве нет? Однажды я стоял шагах в десяти от Потрошителя.
– Вы видели его? – изумился я.
– Я краем глаза заметил его тень. И пустился вслед за другой тенью, решив, что она скорее принадлежит убийце. – Он так яростно втянул воздух через глиняную трубку, что чашечка запылала ярко-красным цветом свежепролитой крови. – Я пошел по неверному пути. Я преследовал свидетеля, а не преступника. И оставил Потрошителя, позволив ему совершить свою кровавую работу.
– Вы, Холмс?
– Я, Уотсон. Мужчина, за которым я наблюдал, распекал женщину. Он повалил ее на землю, но, исходя из моего недавнего исследования окрестностей, тут это скорее обычное дело, чем исключение из правил. Я принял происходящее за рядовую уличную ссору. Когда я вернулся, она была еще теплая, но уже не дышала. Все, что я мог предпринять, – убраться из этого района, чтобы меня самого не сочли Потрошителем.
– Боже правый, старина! Вы были так близко?
– Я был слишком далеко, и никогда себе этого не прощу. Если мне когда-нибудь все же случится предстать перед апостолом Петром и он будет готов пустить меня во врата рая, я немедленно брошусь в противоположном направлении уже из-за одного того зла, которое я совершил в ту ночь, приняв неверное решение. Я не знал местных обычаев, Уотсон. Я чужестранец в чужой земле.
– Охотно верю – когда вы цитируете Священное Писание.
– Что я цитирую?
– «Чужестранка в чужой земле» – это то, кем стала Руфь ради своей свекрови Наоми.
– Я должен знать этих людей?
– В общем, да. Начитанные люди должны.
– Я прекрасно начитан, Уотсон, только я не изучал тех фолиантов, которые в наше время считаются основополагающими. На самом деле я настолько начитан, что даже знаком с работами Крафт-Эбинга. – Это был верх насмешливости, которую Холмс себе позволял. Он взглянул на меня, наклонив голову, как дрозд, ожидающий, пока какой-нибудь наивный червь не вылезет из земли на поверхность: – Вы думаете, что в работах этого автора найдется полезная информация относительно данного места?
– Едва ли. Если вы хотите знать мое мнение, то он лишь предлагает кучку жутких баек.