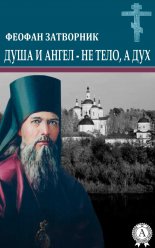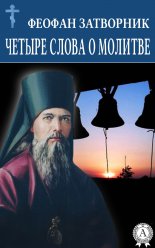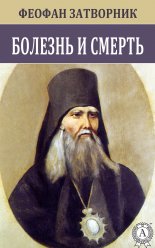Русская идея как философско-исторический и религиозный феномен Гидиринский Виктор

При этом, конечно же, к мотивированным порывам масс людей с неизбежностью ведут потрясенные мировыми и локальными войнами природные объекты. Разрушения, принесенные войной, идейно мобилизуют людей даже в условиях продолжающихся военных действий. Так было в годы Великой Отечественной войны и в ходе многих других войн в России и за ее пределами.
Правомерен очередной вопрос: каков механизм возникновения и развития национальных идей под воздействием природных факторов? Спонтанный, стихийный взрыв масс людей, которым угрожает стихия, или более сложный процесс? События минувших лет в России, Европе и в других странах позволяют заключить: возникновение национальных идей под воздействием природных факторов может вызвать относительно стихийную реакцию населения; однако наряду с ней, как свидетельствует исторический опыт, в названном механизме подчас доминируют организационно составляющие факторы. Первый пример: чудовищной силы землетрясение в Ашхабаде в 60-х годах XX века не только стихийно сплотило людей, но и активизировало энергичные действия государственных служб. Были организованы вспомогательные силы во многих государствах мира.
Второй пример, противоположный первому: извержение Везувия и гибель Помпеи и Геркуланума. Здесь наблюдается торжество природной стихии и, по сути, полное отсутствие организованного свыше начала.
Каким же образом возникает национальная идея, т. е. определенная социально-психологическая направленность умов и сердец? Ведь национальная идея – это феномен «взлетающего ввысь на крутых поворотах» национального сознания и самосознания, исторического развития государств и наций. Такой «взлет» не может быть только стихийным, т. е. вне идеологического оформления определенными лицами, функционирующими на различных уровнях национально-государственного управления.
Поэтому есть основание сближать с природными детерминантами теоретиков, психологов, мыслителей национально-государственного масштаба. Именно они конструируют модель спасения нации, т. е. национальную идею. В ее содержании можно увидеть два уровня: низший – объяснение характера экологического катаклизма и призыв к участию населения в спасительных действиях и высший – выработка, формулирование и внесение в национальное сознание целенаправленного масштабного мотива к спасению нации.
Чтобы такой мотив сложился у людей и его «конструкция» оказалась прочной и надежной, теоретики, политологи, психологи и другие специалисты должны предложить привлекательно-эффективную модель.
Здесь мы подошли к вопросу о социальных детерминантах, не забывая при этом об органической связи природных и социальных факторов конструирования национальных идей.
Социальные детерминанты, как я полагаю, должны выглядеть следующим образом.
Во-первых, консолидация и сплочение людей, их мотивированные действия могут быть неоднозначным следствием творчества весьма авторитетного государственного деятеля, сочетающего в себе ум мыслителя, в определенных случаях теоретика и волевого практика. Вот лишь некоторые персоналии: святой равноапостольный император Константин, Ярослав Мудрый, св. Александр Невский, св. Дмитрий Донской, Иван III, Александр II, Столыпин, Бисмарк, Линкольн, Рузвельт, де Голль, Петр I, Екатерина II…
Во-вторых, для квалифицированного конструирования национальной идеи, способной зажечь сердца многих, быть может тысяч, даже миллионов людей, высшие государственные или национальные (если государство еще не сложилось) инстанции призваны привлечь к оперативному творчеству теоретиков-профессионалов, способных динамично включиться в результативный процесс создания яркой, захватывающей, убедительной национальной идеи. Состав такого «ареопага» в количественном отношении может варьироваться от узкого круга сподвижников выдающегося национально-государственного деятеля до привлечения талантливых и популярных умов нации в широком масштабе.
В-третьих, динамично-стремительный или постепенный генезис национальной идеи зависит, конечно, от размеров и просчитанных последствий надвигающейся социальной угрозы. Исторический опыт подсказывает, что сплочение и мобилизация масс обусловлены степенью сроков приближения угрозы. Например, внезапное нападение на страну или тщательно подготовленный удар по неугодной для конкретного политического режима нации, народности, группе наций и народностей ускоряет процесс «электризации» народа, т. е. динамизирования национальной идеи.
В-четвертых, в названных социальных детерминантах преимущественно доминируют субъективно-личностные параметры. Однако следует иметь в виду стихийный взлет псевдонациональной идеи даже при индифферентизме запаздывающих с реакциями в социально опасной ситуации «управленцев».
Исторический опыт богат стихийными взрывами народов или различных социальных групп, подчас далеких от национальных идей. Конечно, подобные акции возглавляли определенные персоналии, но их руководство не может, на мой взгляд, квалифицироваться как социально зрелое и интеллектуально априорное воздействие на массы людей. Здесь своего рода видимость руководящей силы. Более того, как я считаю, в таких случаях сами массы простых людей детерминируют возникновение руководящего начала и мотива командования у так называемых вождей и лидеров. Тем более недопустимо приписывать именно им создание и развитие истинно национальных идей. Примеров достаточно.
Древний Израиль и Византия: иудейская «война» с Римом, разрушение Иерусалима Титом в 70 году; борьба за власть (с привлечением некоторых групп людей) между сыновьями Константина Великого; попытка использовать определенные массы язычников Юлианом Отступником (361–363); войны Александра Македонского, свободные в большинстве случаев от системы априорных и даже конъюнктурных идей; ожесточенная борьба с еретиками и язычниками при Феодосии Великом (379–395). Россия: относительно далекие от национальных идей бунтарские акции значительных групп людей (восстания Пугачева, Разина, Болотникова) и др.
Таким образом, без развитых объективных и субъективных детерминантов национальные идеи, как правило, нереальны. Однако, каковы бы ни были детерминанты, историческая память сохраняет прежде всего мотивационную составляющую адекватного исторического процесса. И здесь важнейшее духовное умозаключение: весь богатейший спектр национальных идей – сугубо промыслительный. Поверить в Промысел Божий, тем более относительно понять и принять его Великую Тайну и глубинный смысл, примкнуть к этой Великой Тайне сердцем и душой – удел избранных. Но они есть, не быть их не может, ибо именно Господь открывает духовное историческое зрение и теоретикам, и простым смертным. В этом залог проникновения в механизм возникновения и развития национальных историко-промыслительных идей.
Именно это составляет основополагающую, глубинную парадигму всей системы социальной детерминации. Духовная сила двигала умы и сердца названных выше и многих других исторических вершителей мотивационных взлетов национальных сил. Также высшая духовная сила направляла теоретиков-профессионалов, воспламенявших массы, их социальные порывы. Более того, даже в стихийных взрывах в конечном счете, порой на уровне подсознания вспыхивала духовная сила, олицетворявшая самоотверженную, хотя и бесперспективную, борьбу за определенные, чаще всего утопические идеалы.
Глава IV
Сущность, функции и типология национальных идей
Правомерно ли использовать множественное число, говоря о национальной идее? Национальная идея или национальные идеи? Думается так: предметом данного рассмотрения является феномен национальной идеи – гносеолого-метафизический аспект. Однако нельзя абстрагироваться от онтологии. Историческая реальность предлагает исследователям великое многообразие национальных, антинациональных и псевдонациональных идей и систему их определенных детерминантов. Метафизическая гносеология и онтология в сущности столь близки, что данному исследованию вполне соответствует предложенная формулировка названия главы.
Предварительно также хочется предупредить, что сущность, функции и типологию национальных идей мы будем рассматривать после анализа системы детерминации национальных идей. Логично ли это? Кратко поясню, чем вызвана такая последовательность.
Сущностный аспект любого объекта исследования – это своеобразный относительный (частичный) итог рассмотрения проблемы. Кажется правомерным выходить на сущность национальной идеи как на своего рода синтез тех обстоятельств, которыми сопровождается «жизнь» национальной идеи, ее многоплановое бытие в истории человечества. Тем более что определенное «содружество» с данной темой убеждает в относительной отстраненности некоторых ученых и читателей от указанной проблематики. И конечно же, берясь за рассмотрение сущности национальной идеи в принципе, изберем правильный, на мой взгляд, путь к русской идее, и коснемся таких вопросов, которые до сих пор провоцируют разнообразные острейшие баталии на фронтах теоретико-национальных дискуссий.
Итак, приступим к выяснению сущности национальной идеи. С каких сторон осуществлять движение к центру, т. е. к сущности?
Первое. Национальная идея имеет свое незыблемое место в сфере общественного сознания, возвышающегося при идеальном построении над бытием людей, но проникающего в его «низовые» глубины.
Второе. Пребывание идей в сфере общественного сознания динамично и полифонично: динамика в постоянном, по сути непрерывном, процессе изменения реальных обстоятельств, способных влиять на идеальный мир. Иными словами, динамику общественного сознания и ее атрибута – национальной идеи – обусловливают те объективные и субъективные детерминанты, о которых говорилось в предыдущей главе. Что же касается полифонии, то ее истоки заключены в многочисленных, многообразных формах общественного сознания, которому чужда позитивно-стабильная жизнь. В самом деле, судороги политического сознания – почти норма; правовое сознание дремлет обманчиво, подчас сознательно закрывая глаза на правовой беспредел; нравственное сознание спит глубоким сном, разбудить его не в состоянии даже духовно-нравственный кризис, все более углубляющийся в обществе. О других формах общественного сознания говориться не будет, дабы не усложнять данный анализ. Хочется лишь заметить, что прогрессивная динамика идей также наличествует в общественном сознании.
Третье. Важен вопрос о конкретном соотношении общественного сознания и национальной идеи. Общественное сознание, как известно, охватывает практически всю жизнедеятельность общества на теоретическом и обыденном уровнях. Теоретический уровень обусловлен концептуальными идеями, системно выражающими, по сути, безграничный спектр жизни общества. Он может быть представлен многопрофильными научными теориями, политико-правовыми концепциями, художественно-эстетическими обобщениями, комплексными этическими нормами, социально-экономическими теориями и, самое главное, религиозно-богословскими идеями, в России – православно-христианским мировоззрением.
Сложнее с уровнем обыденного (повседневно-бытового) сознания. Сложность в расплывчатости, размытости обыденных взглядов и воззрений. Они не сведены в концептуальные системы, и поэтому структурировать их непросто. При этом недооценивать обыденное сознание людей не следует. Подчас на обыденном уровне возникают яркие и глубокие прозрения, повседневная жизнь дает возможность ближе и конкретнее воспринимать и оценивать события, восходящие порой до значительных высот.
Теперь основной интересующий нас вопрос: каково соотношение общественного сознания и национальной идеи? Выйти на него возможно, думается, определив суть национального сознания. Именно оно ближе всего к национальной идее.
Выяснить специфику национального сознания непросто. Один из возможных путей поведет нас к феномену нации. Отсылая читателя к литературе о нации, национальных отношениях, национальной культуре[78], ограничусь кратким комментарием. Нация (от лат. nation) – племя, народ. С древнейших времен историческими общностями людей были родоплеменные общности, народности. Дальнейшее развитие таких общностей привело в конечном итоге к современным нациям. В новое время термин «нация» употребляется в ряде европейских стран для обозначения граждан одного государства.
Вот одно из определений нации: «Нация – исторически устойчивая общность людей, сложившаяся на основе общности языка, территории, экономической жизни, а также общности форм материальной и духовной культуры»[79]. С образованием наций широко распространились теории о двух тенденциях: интернационализации национальных отношений и обособлении национальных общностей (национализм). Последнему противоречивому и сложному вопросу будет посвящена специальная глава. Сейчас же выскажу соображение о соотношении общественного сознания и национальной идеи.
Начнем с того, что «выходить» непосредственно от общественного сознания к национальной идее некорректно. «Промежуточное звено» между ними – национальное сознание. Это не безупречный методологический ход, но, на мой взгляд, возможный. Общественное сознание всеохватно. К национальному сознанию можно подходить двояко: либо иметь в виду все общественное сознание государства, либо говорить об особой грани, может быть части, общественного сознания. Считаю, что национальную идею правомерно квалифицировать как определенный срез общественного сознания.
Однако подобные рассуждения лишь предваряют более конкретный разговор. С моей точки зрения, феномен национальной идеи может выясняться в контексте и общественного сознания, и его органической, но специфической части – национального сознания. Эвристический результат эффективен и в первом, и во втором вариантах.
Итак, что же такое национальное сознание общества? Подходы к данному вопросу могут быть различными. Нам представляется возможным отметить прежде всего специфический национальный фрагмент в некоторых структурных элементах общественного сознания в целом. Коснусь соотношения теоретического и обыденного уровней общественного сознания. Вот некоторые моменты. На теоретическом уровне привлекает внимание концептуальная разработка национального сознания как неотъемлемой части общественного сознания. На обыденном уровне важен акцент на социальной психологии людей. Оставляя в стороне обобщение проблемы в целом, обратимся к судьбоносному периоду в нашей истории – Великой Отечественной войне[80].
Какие идеальные силы сплачивали народы Советского Союза, консолидируя, мобилизуя, направляя их на борьбу с германским фашизмом? Что лежало в основе мотивационной составляющей в действиях масс в этом беспрецедентном, трагическом и героическом периоде в истории России?
Не вдаваясь в неохватный спектр идей, работавших на нашу борьбу с сильнейшим и опаснейшим врагом Отечества, можно выделить самое главное и актуальное для этой темы.
На мой взгляд, в годы войны 1941–1945 годов центр тяжести идейной базы заключался не в теории, а в повседневной психологии советских людей, естественно преображенной экстремальным взрывом. Поясню мысль. До начала войны идеологическая обработка населения была, как известно, всеохватной и непрерывной. Этакий тотальный идеологический прессинг. В результате в головах, душах миллионов людей осели и относительно закрепились ложные идеи, «опредмеченные» в многочисленных теориях и концепциях. И видимо, не будет ошибкой, если сказать: лживая теоретическая обработка населения дала свои печальные последствия. Очевидно, правомерно констатировать доминанту теоретического уровня общественного сознания и обусловленного им погружения народных масс в океан лживых социокультурных ориентаций.
Конечно, и в этот период обыденное сознание функционировало, но оно не могло не быть подавленным тяжелым массивом идейной дезориентации. Одна часть населения осознанно и стихийно воспевала советскую родину («Широка страна моя родная…..»); другая часть страдала и погибала в тисках ГУЛАГа. Естественно, не исключишь и промежуточного слоя в социальной структуре советского общества, которому были не чужды сомнения и определенный скепсис в отношении насильственно насаждаемых реакционных идей.
Таким образом, в довоенный период в советском обществе в общественном сознании превалировал псевдотеоретический уровень. Строго говоря, идейный тоталитаризм (идеократия), неуклонно уводивший миллионы людей от истины, объективно не создавал условий для развития подлинно национального сознания и, соответственно, праведных национальных идей.
При этом не следует забывать, что советская идеология, насквозь пропитанная вульгарным атеизмом и жесточайшим богоборчеством, подчас намертво перекрывала движение душ и сердец к Богу. Господствовавший в стране и в общественном сознании атеизм несовместим по определению с национальным сознанием. Государственно-политические идеи, освобожденные от духовно-нравственного содержания, не несли в себе (и не могли нести) реального, достоверного, имманентного национального сознания. Советская идеология, на мой взгляд, по своей природе и по своему генезису в принципе неспособна продуцировать национальное сознание и истинные национальные идеи.
Вот некоторые из идей, лавинообразно обрушившихся на советских людей посредством жестко контролируемых СМИ: советский народ – новая историческая общность людей; советское общество – самое прогрессивное в мире, советская власть – гарант счастья и процветания не только советских людей, но и народов других стран; мировая социалистическая революция – гарант прогрессивного преобразования социальных структур; марксистско-ленинское мировоззрение – вершина научно-гуманитарного знания; построение коммунистического общества – идеал и генеральная цель смысла жизни и т. д. и т. п.
Великая Отечественная война радикально изменила ряд параметров идейной жизни советского общества. Перестройка, происшедшая в структуре общественного сознания, обусловила рельефное проявление национального сознания и национальной идеи. Суть в том, что возникшая смертельная угроза самому существованию государства объективно потребовала адекватных идей принципиально нового формата.
Основные довоенные утопии отодвинулись на периферию общественного сознания. На первый план выдвинулись идеи спасения страны. Причем эти идеи уже не основывались на давивших народ десятки лет лживых утопиях. По сути дела, впервые после 1917 года возникла подлинно национальная идеология, пробудилось подлинно национальное сознание. Родилась реальная, не прожектерская, национальная идея спасения России и ее народов.
Теоретически нужны были новые концепции подлинно национального характера, а на их разработку и проявление требовалось время, которого не было. Поэтому теоретический уровень общественного сознания утратил, с логико-исторической точки зрения, особенно в первые годы войны, свое доминирующее положение и значение.
На первый план выдвинулись важнейшие социально-психологические идеи и чувства народных масс: тревога за судьбу России, а не только Советского Союза; ненависть к захватчикам; мужественное и прозорливое осознание надвигающихся тяжелых жертв и испытаний; мобилизация духовно-нравственной энергии для борьбы и победы; невиданная ранее истинная сплоченность многих народностей; чувство любви к подлинному Отечеству – России, к ее судьбе, поставленной на грань катастрофы, и многие другие идеи и социальные чувства.
Нельзя сказать, что идеи советской власти канули в Лету. Они почти всю войну для многих оставались мотивом в жестокой, невиданной для истории России борьбе за спасение государства. Эти идеи консолидировали народ и мобилизовали сотни тысяч граждан для решения тяжелейших задач военного времени. По истечении времени эти идеи вновь девальвировались. Таким образом, в экстремальных условиях может происходить определенная деформация национальных идей.
В чем же критерий истинного национального сознания, его признаки?
Высказываясь гипотетически, оставляя читателю возможность осмысливать и дополнять изложенное. Прежде всего – о критерии. Если общественное сознание – совокупность (может быть, система) идей, теорий, воззрений, социально-психологических состояний (настроений, переживаний, чувств, социокультурных ориентаций и т. д.), выражающих жизнь общества во всех его сферах, то как быть с национальным сознанием, его сутью и местом в общественном сознании? Имеет ли национальное сознание право на относительный и самостоятельный статус в системе общественного сознания и есть ли для этого основания?
Иными словами, в чем состоит относительный критерий национального сознания? На мой взгляд, критерий должен прояснить: 1) каково своеобразие национального сознания; 2) какое место оно занимает в общественном сознании; 3) как соотносятся национальное сознание и национальная идея; 4) в чем специфика национальной идеи.
Выявлять своеобразие национального сознания правомерно, соотнося его с понятием нации, возможное определение которого давалось выше. Это территориальная, социоэтническая, языковая, социокультурная общность людей, способная самоопределяться в духовно-нравственном отношении и относительно автономизироваться для овладения признаками цивилизации. Об этих признаках речь шла во второй главе данной работы.
Сказанное позволяет заключить: критерий национального сознания состоит в его способности отразить и выразить тенденцию относительного обособления от государства и государственной политики.
И, наконец, возможная черта национального сознания прогрессивной направленности – его религиозная составляющая. Для такого национального сознания в принципе немыслим религиозный вакуум. Даже в эпохи ранних цивилизаций позитивное религиозное сознание в различных языческих вариантах являлось качественной составляющей национального сознания. И в этом важнейшее доказательство возможной обособленности национального сознания от государства и политики.
Отсюда и представление о месте национального сознания в общественном сознании. Национальное сознание и по своей природе (адекватное отражение и выражение феномена нации), и по относительному обособлению от государства и его властных структур объективно и логически не предназначено отражать все основные сферы общества (политика, экономика, мораль, искусство, право и т. д.), его государственно-политический курс, в том числе и в международных связях и отношениях.
Другое дело, что в определенных исторических условиях, тем более экстремальных, диапазон национального сознания способен к расширению и углублению. Великая Отечественная война тому пример.
Хочется пояснить отмеченную выше особенность своеобразия национального сознания – относительную обособленность его от государственной власти и властных структур. Речь идет о способностях национального сознания развиваться вне прямой связи с государственно-политической властью и приобретать относительную от нее автономию.
Одним из возможных примеров может, на мой взгляд, служить динамика национального сознания Германии после прихода к власти Гитлера (1933). До этого национальное сознание немцев находилось во власти тотального унижения – после Версаля Германия была отодвинута на периферию Европы, а немцы потеряли статус ведущей европейской нации. Национальное сознание большинства немцев пребывало в глубоком кризисе и, возможно, в ожидании социального чуда по возрождению былых высот. Представляется, что Гитлер спланировал глобальную суперреакционную стратегию Третьего рейха, опираясь прежде всего на подавленное национальное сознание немецкого народа, подспудно жаждущего реванша. Чудовищные идеи германского национал-социализма, устремленные к мировому господству арийской (немецкой) расы на основе порабощения и уничтожения многих народов мира, загипнотизировали значительную часть населения Германии.
Радикальная эволюция национального сознания Германии, хотя и инициированная властью рейха, приобрела по ряду параметров относительную самостоятельность. Это выразилось, в частности, в том, что безудержное восхваление Гитлера и фанатическое поклонение ему и его идеям реально превратилось в необузданную стихию. Властители рейха пытались управлять этой стихией, но главным образом полагались на стихийную силу. Более того, имеется достаточно оснований утверждать, что фанатичное национальное сознание немцев работало почти до конца войны, укрепляя немецкие войска в жестоких боях с Красной армией. Характерно, что сокрушительные поражения немецких войск в Сталинградской битве и после нее не поколебали национального сознания немцев и, быть может, именно этот фактор сыграл решающую роль в иллюзиях фашистской власти устоять в схватке с Россией, даже после штурма Зееловских высот и овладения ими, т. е. у самого Берлина. В оккупированных вермахтом странах Западной Европы национальное сознание оторвалось от подавленных органов власти.
Таким образом, национальное сознание в принципе относительно неподвластно государству.
Резюмируя, сформулируем три качественных признака своеобразия национального сознания: первый – адекватное отражение и выражение феномена нации; второй – относительная, а в определенных исторических условиях абсолютная обособленность от государства и его властных структур; третий – возможное «присутствие» в национальном сознании религиозного компонента, стабилизирующего прогрессивное национальное сознание.
Наконец, как соотносятся национальное сознание и национальная идея? В чем специфика последней? По-моему, здесь могут «работать» категории общего и особенного. Общее – это своеобразие национального сознания и его место в общественном сознании, о чем шла речь выше. Особенное – это те идеалы, планы, социокультурные ориентации масс и определенных персоналий, которые призваны непосредственно и реально консолидировать массы, сплачивать и мобилизовывать их для достижения, так сказать, судьбоносных целей. Эти цели могут иметь позитивный и негативный векторы.
Таким образом, следуя логике предложенных соображений, дан возможный ответ на поставленные вопросы, включая проблему специфики национальной идеи.
Возможная дефиниция: национальная идея как непосредственное выражение национального сознания и относительно самобытная часть общественного сознания – это совокупность таких идеалов, целей, планов, социокультурных и духовно-нравственных ориентаций, а также чувств, переживаний, настроений народных масс и определенных персоналий, которые способны консолидировать нацию и ее народы, мобилизовать их либо на противодействие силам зла и разрушения, угрожающим судьбе нации, либо на поддержку, укрепление и успешную реализацию прогрессивных целей по совершенствованию и самоопределению нации как перспективной цивилизации.
Сказанное позволяет выделить некоторые функции национальной идеи: консолидирующая, мобилизационная, социально-ориентационная, социокультурная, цивилизационная, социально-психологическая, духовно-нравственная.
Консолидирующая функция призвана сплачивать народ, объединять его социальные слои и группы, особенно на крутых поворотах истории. Основной смысл мобилизационной функции – зарядить сплоченных людей энергией порыва и устремленности к реализации социальных целей и личностных потенций. Социально-ориентационная функция должна решать весьма сложные задачи – развивать у людей понимание обстановки и характера надвигающихся угроз либо прогрессивных и перспективных идеалов. Социокультурная функция состоит в раскрепощении импульсов, направленных на овладение теми стратегическими целями, а также знаниями и духовными ценностями, без которых сложную, подчас экстремальную ситуацию не разрешить. Цивилизационная функция направлена на восприятие массами национальной идеи, устремленной к цивилизационному совершенствованию национального бытия и национального сознания. Что же касается социально-психологической функции, то перед ней открываются сложные просторы обыденного сознания многих людей, весьма разнородных по своим психологическим состояниям. В этом случае национальная идея обращена в первую очередь к чувствам людей, их эмоционально-рассудочным состояниям, переживаниям и подчас подсознательным импульсам. От этого, как свидетельствует история, непосредственно и напрямую зависела судьба нации на ее крутом повороте.
О духовно-нравственной функции нужно сказать особо. Духовнонравственная функция национальной идеи призвана развивать «высший регистр» бытия людей, поставленных в исключительные условия жизни и борьбы. Если речь идет о природных катаклизмах или волне социального насилия, национальная идея должна вызывать у людей духовный порыв. Яркий пример реализации указанной функции – «отдать жизнь за други своя». В годы Великой Отечественной войны глубинная мотивация отдать жизнь «за други своя» подчас заключалась в христианской вере и православном мировоззрении. Опыт войны, участником которой довелось быть автору, свидетельствует и об обретении веры в Бога не только до, но и в ходе сражений. В таких случаях участие в смертельно опасных ситуациях было духовно осознанным и необратимым. Духовно-нравственный порыв многократно служил успешному выполнению боевых задач даже в безнадежных ситуациях. В художественной литературе это получило яркое отражение, например в романах Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», Василя Быкова «Мертвым не больно».
Поскольку выше упоминалось о различных векторах в содержании национальных идей, вправе предположить существование в истории человечества социально значимых идей не только прогрессивной, но и реакционной направленности. Если это так, а сомнений на сей счет, с моей точки зрения, быть не должно, закономерен немаловажный вопрос: возможно ли наделить статусом национальной идеи те из них, которые в своем содержании заключали реакционную направленность целей и задач?
Как определить характер национальной идеи: прогрессивна она или реакционна? Один из устоявшихся приемов – анализ генеральной цели, носителем которой выступают те или иные субъекты национальной идеи. Однако выявить характер национальной идеи только на этом основании подчас сложно. Цели могут ставиться весьма привлекательные, но ход их реализации порой сводит прогрессивное начало на нет. Конечно, важен результат действия национальной идеи, в этом нет сомнения. И все же следует искать дополнительные и, видимо, более надежные основания.
Представляется эффективным анализ в каждом конкретном случае соотношения функций национальной идеи.
Поясню сказанное. Соотношение выделенных выше функций весьма вариативно. Здесь работают свои критерии. В частности степень развитости и зрелости той или иной функции. Например, национальная идея защиты Отечества перед угрозой его возможного порабощения или уничтожения поднимает на поверхность консолидирующую и мобилизационную функции. Но это не означает однозначного развития социокультурной функции. Для взлета последней необходим достаточно высокий уровень зрелости интеллекта у лидирующих субъектов национальной идеи.
Возможен и другой пример. Социально-психологическая функция, как упоминалось, поворачивает национальную идею к чувствам многих людей, их эмоциям и переживаниям, мобилизующим людей на решение задач в экстремальных условиях. Однако итоговый социально-политический результат может оказаться невысоким, если лидирующие субъекты национальной идеи оказались неспособными сплотить нацию или ее часть и вооружить народ правильной социальной ориентацией и поднять его на должный социокультурный уровень.
И еще. Большинство функций могут быть развитыми, однако национальная идея не дает решения сложившихся острых проблем, выпавших на долю нации. Причина – слабая выраженность или даже отсутствие действия духовно-нравственной функции. Без духовного окормления ни одна функция не может эффективно и позитивно работать. К сожалению, эту причину часто или не видят, или не придают ей должного значения, или просто игнорируют. Атеистический менталитет погубил множество национальных идей в истории человечества. Сказанное не относится к отдельным историческим вариантам, когда бездуховные национальные идеи стимулировали определенные слои и группы населения для достижения не только реакционных, но и прогрессивных социальных целей и задач.
Однако вернусь к поставленному выше вопросу: можно ли наделить статусом национальной идеи ту, которая в своем содержании заключает реакционную направленность целей и задач? На наш взгляд, статус национальной идеи должен быть адекватен прогрессивной направленности ее содержания и гармоническому взаимодействию функций. Только в таком варианте национальная идея способна сплотить и мобилизовать значительную часть народа для успешного решения стратегических национальных задач. Неадекватность содержания идеи цивилизационному прогрессу не позволяет, на мой взгляд, наделять ее статусом национальной идеи. Здесь другой статус – антинациональная, или псевдо-национальная, или неполноценная, т. е. недостаточно развитая, идеи.
Перейду к проблеме типологии национальной идеи. Методологическая предпосылка – цивилизационный подход к философии истории человечества объективно исключает единое представление о национальной идее. Многообразие типов цивилизаций объективно предполагает вариативность национальных идей, т. е. их типологии.
Обратимся к типологической дифференциации национальной идеи. Основанием для этого могут быть следующие социально-исторические факторы: во-первых, пространственные и временные параметры функционирования тех или иных национальных идей; во-вторых, диапазон охвата действиями национальной идеи генезиса нации (страны); в-третьих, глубина проникновения национальной идеи в основные сферы жизни общества; в-четвертых, сохранение стабильности влияния национальной идеи на поступательное развитие общества, сохранение ее главных животворящих импульсов вопреки регрессивным поворотам в судьбе нации, страны.
Руководствуясь представленными факторами, следует выделить следующие типы национальных идей:
– локальная национальная идея;
– национально-историческая идея;
– интегральная национальная идея.
Рассмотрим каждую из них.
Локальная национальная идея относительно ограничена временными и пространственными рамками. Ее функции имеют временной предел, т. е. они способны консолидировать и мобилизовывать население страны или нации исторически ограниченное время по отношению к истории той или иной цивилизации. Последняя стихийно или целенаправленно (силами субъектов национальной идеи) ограничивает действие функций во временном диапазоне, который может охватывать подчас значительные временные границы истории, не претендуя, однако, на национально-исторические глубины.
Ограничение временных параметров действия национальной идеи может также детерминироваться либо относительным исчерпанием целей и задач, либо внезапным поворотом природных или социальных обстоятельств.
Локальная национальная идея не ставит в принципе «исторически-сквозных» целей. Ее действие ограничивается временными и пространственными условиями. Локальная идея не претендует на территориальный охват нации или страны. Она, как правило, ограничивается либо частью нации, страны, либо их естественными или искусственными внутренними, быть может, временными границами.
Локальная национальная идея далека от первичного генезиса нации, который может обладать лишь опосредованной связью, а во многих случаях не имеет ее. Наконец, локальная идея не в состоянии охватить все основные сферы общества, в ее ведении могут быть лишь отдельные, хотя весьма значимые, сферы. Кроме того, национальная идея по большому счету неправомочна радикально повлиять на относительно сложившийся профиль нации, т. е. она не преследует цели сменить общественный строй.
Локальных национальных идей в истории человечества было великое множество. Вот лишь несколько примеров из европейской и русской истории, не проникая в исторические глубины.
Яркий пример, на мой взгляд, предложила Франция вскоре после окончания Второй мировой войны. Здесь возымел решающее значение субъективный фактор. Личность генерала Шарля де Голля не случайно вошла в историю французской нации со статусом национального героя. Именно ему принадлежит пальма первенства в инициировании и конструировании «двухступенчатой» национальной идеи, сплотившей народ и возродившей Францию чуть ли не из пепла вскоре после разгрома фашистской Германии и окончания Второй мировой войны.
Франция, без преувеличения, погибала от двух «синдромов». Первый – затянувшаяся мучительная и безысходная война с Алжиром, которая являлась не только унизительной для великой европейской нации, но и, как известно, бесперспективной в плане ее завершения. При этом массовая гибель французов и алжирцев ложилась тяжким бременем на обе страны[81]. Второй – демографический кризис, грозивший исчезновением французской нации. Национальная идея тех времен, воплощаемая Ш. де Голлем, сложилась под воздействием грозных, даже смертельных для послевоенной Франции обстоятельств. Однако подобные обстоятельства, как свидетельствует история, далеко не всегда воплощаются в адекватном личностном факторе. С именем де Голля органично связаны и конструктивное формулирование национальной идеи, и ее притягательная сила для французов. Сплоченный и мобилизованный народ воспринял экстремальные меры, предложенные французским лидером и его единомышленниками, как спасительные для отечества. Меры, разработанные для преодоления алжирского «синдрома» и спасения страны от демографической бесперспективности, были радикальные и крутые[82].
Итог поражает своими результатами и исторически рекордными сроками их достижения. Война с Алжиром была прекращена ценой тяжелых для Франции материальных затрат (контрибуция Алжиру) и унизительным для европейской державы инициативным компромиссом. Однако Франция быстро встала на ноги и заняла достойное место в европейском сообществе.
Остается подчеркнуть, что французская национальная идея объективно оказалась ограниченной временными и пространственными рамками и при всем своем значении для послевоенного развития страны все же не могла претендовать на глубинные и всеохватные исторические масштабы. Она (национальная идея) не вошла в исторический генезис французской нации на многих драматических этапах ее истории. Поэтому мы и квалифицируем ее как локальную национальную идею.
Другой пример, также, с моей точки зрения, убедительный, относится к Соединенным Штатам Америки. В начале 30-х годов тяжелейший универсальный (не только экономический) кризис поразил США наряду с другими странами. Как свидетельствуют литературные источники, кризис нанес мощный удар по Америке – развитие страны приостановилось, возникла реальная угроза деградации американской нации[83].
Здесь, как и во Франции, национальная идея спасения страны и народа объективно потребовала сильной, популярной, выдающейся личности. Франклин Делано Рузвельт талантливо и результативно воплотил в национальной идее, провозглашенной им и поддержанной народом, конструктивные пути и меры укрепления страны. Такого мощного сплочения части нации (Север) Америка не знала со времен войны Севера и Юга. Результат действия национальной идеи Рузвельта оказался столь же поразительным, как и во Франции. К концу 30-х годов США вошли в разряд стран, претендующих на ведущие позиции в мировой экономике и политике[84].
Американская национальная идея оказалась относительно ограниченной во времени и пространстве, она не охватила всю историю страны, ее уникальный генезис, исторические перевалы и основные историко-национальные ретроспективы и перспективы. Эту национальную идею мы также квалифицируем как локальную.
История России также несвободна от локальных идей. Коснемся одной из них. С распадом древнерусского государства (X–XIII вв.) на самостоятельные княжества начинается период феодальной раздробленности[85]. С конца XII века активизировались немецкие рыцари, объединенные в духовные рыцарские ордена. Их цель – распространение католицизма среди языческих племен. Ослабление Древней Руси благоприятствовало достижению этой цели. Пропаганда католичества словом была подкреплена огнем и мечом, она беспощадно ломала жизненный уклад и вызывала сопротивление.
Папа Римский призвал в 1198 году к крестовому походу. После непродолжительной, но кровопролитной войны с местными племенами немецкие крестоносцы и купцы в 1201 году основали в устье Двины крепость Ригу. На следующий год здесь был учрежден орден рыцарей-меченосцев. Несколько позднее в устье Вислы появился Тевтонский орден, которому Папа Римский и германский император обещали пожаловать все прибалтийские земли, отвоеванные у язычников. После этого влияние Ливонского ордена (объединенные ордена меченосцев с Тевтонским орденом) возросло, продвижение его на восток привело к столкновениям с новгородцами[86].
Все это заставило новгородцев с оружием в руках встать на защиту своей земли. Тем более что в борьбу вмешались шведские и датские рыцари, совершавшие набеги на южное побережье Прибалтики.
Смысл национальной идеи, воплощаемой князем Александром Ярославичем, позже получившим прозвище Невский (1220–1263), заключался в том, что святой благоверный князь одним из первых увидел Промысел Божий в отношении судьбы России. Великий воин и дипломат, молитвенник и строитель земли русской был истинно христианским правителем, глубоко страдавшим о народных судьбах. Господь наделил его мудростью и государственным мышлением, столь необходимым в трагическую эпоху жизни Руси.
Трагизм эпохи (может быть, самое трудное время в истории Руси) заключался в уникальном сплетении почти непреодолимых угроз: с востока шла лавина монгольских орд, сметавших все на своем пути; с запада надвигались германские рыцарские полчища крестоносцев; в 1240 году шведский король послал против Новгорода большое войско, войдя на кораблях в Неву[87].
Немецкие рыцари зимой 1242 года захватили Псков. Святой князь Александр, выступив в поход, освободил Псков, а весной 1242 года дал Тевтонскому ордену решительное сражение, разгромив рыцарей на льду Чудского озера. Историческое значение Ледового побоища состояло в том, что удалось остановить вооруженным путем реализацию генеральной цели крестоносцев – уничтожение православной веры, убиение самой души русского народа, обращение его в веру католическую – латинскую[88].
В 1248 году была предпринята попытка навязать католичество Руси без войны. Князя Александра пытались соблазнить унией, которая на самом деле означала отказ от православия. В ответ святой князь написал о верности русских Христовой церкви и вере Семи Вселенских Соборов: «Сии все добре сведаем, а от вас учения не приемлем»[89].
После этого западные христиане вновь взялись за оружие. Святой Александр отражает ряд агрессивных акций. В 1253 году сокрушен очередной немецкий набег на Псков; в 1254-м заключен договор о мирных границах с Норвегией; в 1256-м совершен поход в финскую землю[90].
Сказанное позволяет сделать обобщающий вывод: представляемая локальная национальная идея весьма своеобразна. Ее локальность относительна[91]. Достигнув кульминации в годы княжения святого Александра Невского, она резонировала и в последующие годы. Здесь важно подчеркнуть, что князем Александром руководила важнейшая идея сохранить в тяжелейших условиях неприкосновенность православия на Руси; преодолеть опаснейшую тенденцию (возможно, самое страшное для православной Руси) братоубийственной вражды многих русских правителей. Под суровой властью орды каждый из них боролся за свою власть и честь. Наконец, именно при святом Александре Невском была заложена и реализована идея сдерживания давления Золотой Орды на Русь. Святой русский князь, обладая сильным аналитическим и прогностическим умом, осознал невозможность сопротивления полумиллионному войску монголов. Четырежды, рискуя жизнью, он посетил Орду, добившись изменения самого характера отношений между Ордой и Русью. В 1262 году при Берки-Хане произошло соединение русских и монголо-татарских земель и народов, что обусловило создание в перспективе будущего многонационального Российского государства[92].
Правомерно выделить и локальную национальную идею, воплощенную святым благоверным князем Дмитрием Донским (1350–1389).
В исторической литературе с именем Дмитрия Донского связывают чаще всего сражение 8 сентября 1380 года, закончившееся поражением Мамая. Этому сражению предшествовало возрастание самостоятельности Руси в отношениях с Ордой. Значительную роль в этом сыграла Русская Православная Церковь, поддерживающая объединение русских земель и национальную борьбу за независимость. По сути дела, Дмитрий Иванович, потомок Ивана Калиты (1325–1340), продолжая дело святого Александра Невского, сосредоточил свои усилия на реализации основных национальных идей: борьба за независимость Руси от Орды; усиление Московского княжества; объединение русских земель вокруг Москвы.
Дмитрий Донской княжил тридцать лет. Его авторитет полководца, победы над ордынцами сплотили многие русские княжества и мобилизовали значительные слои русского народа на укрепление отечества. На Куликовом поле полки из разных городов почувствовали себя единым народом, собравшимся на битву за свободу и независимость Руси и Москвы.
Таким образом, локальная национальная идея, воплощенная святым великим князем Дмитрием Донским, имела также относительную пространственно-временную и содержательную ограниченность и включала в свое содержание богатую палитру перспективных, существенных и значимых для Руси идей.
Завершая вопрос о локальной национальной идее в России, напомню кратко еще о двух исторических событиях, поставивших страну на грань глубокого кризиса, из которого она была выведена яркими национальными идеями, значимость которых, хотя они и носили относительно локальный характер, невозможно переоценить.
Отсылая читателя к исторической литературе, высвечу вначале, в соответствии с творческим замыслом, суть одного из событий[93]. На рубеже XVI–XVII веков Россия переживала кризис, который по глубине и масштабу можно определить как системный, ибо он охватил основные сферы жизни и явился причиной Смуты. Экономический кризис был связан с последствиями Ливонской войны и внутренней политикой Ивана IV. Он обусловил усиление крепостничества, что, в свою очередь, детерминировало социальную напряженность в крестьянских массах. Кризис распространился и на дворянство, не удовлетворенное своим материальным и служебным положением.
Смута оказалась подогретой и политическими факторами. Пожалуй, главной причиной ее правомерно считать неразрешенные противоречия в государстве, которое перестало быть собранием удельных княжеств, но еще не превратилось в сплоченный социокультурный монолит. В Смуте эти противоречия резко обострились. В сложившейся ситуации лишь сильная легитимная власть была способна если не снять, то хотя бы смягчить их. Но эта власть в лице Бориса Годунова и его последователей все более слабела и теряла рычаги управления.
И, наконец, «духовные скрепы общества», по определению В. О. Ключевского, в годы царствования Ивана Грозного были расшатаны, что стало важнейшим проявлением национального кризиса. Насилие было возведено в норму. Таким образом, «смута – печальный итог века…..»
Страна находилась на краю гибели[94]. В этом трагическом хаосе «безгосударева времени» огромную роль сыграла Русская Православная Церковь, ее деятели, прежде всего патриарх Гермоген и настоятель Троице-Сергиева монастыря.
Весьма характерно и значимо выдвижение и обоснование именно Церковью, патриархом Гермогеном, национальной идеи защиты православия и восстановления православного царства. Вокруг этой идеи началась консолидация общества. Не будет ошибкой наделить эту идею рядом зарождавшихся и развивавшихся функций: мобилизационной, социально-ориентационной, духовно-нравственной. Идея защиты православия сплотила уставший от хаоса и дезорганизации народ, который взял инициативу восстановления государственности и изгнания интервентов в свои руки.
Не будет преувеличением отметить особое место церкви и выдвинутых ею идей в возникновении национально-освободительного движения. Решающую роль в национально-освободительном движении сыграла земщина. В 1610–1611 годах земские миры стали организующей, консолидирующей и вдохновляющей силой при создании всенародного ополчения, вначале первого, а затем и второго[95].
Вопрос о типологии национальной идеи будет продолжен. Ведь в составе типов национальной идеи помимо локальной мы выделили национально-историческую и интегральную идеи. Однако здесь их рассматривать нецелесообразно. Логика намеченного анализа подсказывает более продуктивный путь: и национально-историческая, и интегральная идеи наиболее органично вписываются в контекст проблемы русской идеи как национально-исторические идеи России. Предметно об интегральной идее – в последующих главах.
Глава V
Феномен национализма, характер его соотношения c проблемой национальной идеи
Национализм как социокультурное явление органично вписан в общественное сознание и в общественное бытие. Этот интегральный феномен всеохватный и всепроникающий, по природе своей спорный, практически постоянно лихорадит общество. Бесспорных явлений в принципе, видимо, не бывает в мире земном. Однако по накалу страстей и превалированию аксиологических негаций феномен национализма не имеет себе равных.
Начать с того, что феномен национализма недостаточно изучен[96]. Не без основания протоиерей Владислав Свешников поясняет: «Для христианского строгого и глубокого сознания, в общем, было достаточно Слова Апостола Павла о том, что во Христе Иисусе "нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного"» (Кол 3. 11)[97].
Однако причина относительного «невнимания» христианского богословия к феномену национализма имеет и другое обоснование. И. А. Ильин в книге «Путь духовного обновления» воспроизводит против позитивного восприятия национализма аргументы двоякого рода.
Во-первых, против национализма, «деления человечества на различные "родины" и "отечества"» выступают некоторые христиане, руководствующиеся рядом чисто религиозных соображений. Так, христианская любовь, по их мнению, учит видеть брата в каждом человеке и признавать независимо от национальной принадлежности «…свое вселенское братство. А это означает, что христианин рожден быть гражданином вселенной». Более того, «патриотизм и национализм решительно несовместимы с духом христианства»[98].
Жестко разделяет патриотизм и национализм Д. С. Лихачев. Патриотизм, утверждает он, «…это даже не чувство, это важнейшая сторона личной и общественной культуры духа, когда человек и весь народ поднимаются над самими собой и ставят себе сверхличные цели». Что же касается национализма, то «…это самое тяжелое из несчастий человеческого рода <.> как и всякое зло, оно скрывается, живет во тьме и только делает вид, что порождено любовью к своей стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью к другим народам…»[99] Это проявление слабости, а не силы нации. Как правило, лишь слабые народы поражены национализмом, они пытаются найти опору в националистических страстях и идеях[100].
Во-вторых, продолжает Ильин, наряду с такими христианами, рассуждающими, быть может, искренне, но поверхностно, имеется «…множество людей, которые подтачивают начала "родины" и "национализма" из побуждений нигилистических. Одни из них считают принцип национал-патриотизма "устаревшим" и "реакционным", другие – "вредным и нетерпимым предрассудком". И все это под лозунгом и прикрытием интернационализма, захватывающего в течение XIX и XX веков все более широкие круги»[101].
Если выйти за рамки христианского богословия, то предстанут картины не просто относительного невнимания к проблеме национализма, но многообразные формы его извращения и злобного отрицания. Как отмечается в литературе, в кризисные времена в межнациональных отношениях национализм способен облачаться в «параноидные и психопатические» одежды и даже становиться определяющим фактором в жизни народов[102].
Видимо, правомерно констатировать реальность «кризисных времен» в периоды распада давно сложившихся социальных систем. В наше время беспрецедентный распад явился миру в Югославии и СССР. Он имел и имеет место в некоторых странах Латинской Америки и Азиатского региона. И в этой связи возникновение патологических форм национализма неслучайно. Одна из таких форм – национальная ненависть, безнравственная и разрушительная.
Переводя указанную патологию в конкретные данные, мы бы сочли актуальным обратить внимание читателя на иррациональную ненависть к русским с одновременным стремлением ненавистников к своему, подчас примитивному и авантюрному, национально-государственному самоопределению. Достаточно привести пример прибалтийского национализма, пронизанного национальным эгоизмом и циничным забвением того положительного вклада России (была и отрицательная симптоматика), который исторически споспешествовал самобытному развитию прибалтийских государств. Тенденции антируссизма хорошо известны и в связи с социально-политическими действиями руководства Грузии и Украины.
И здесь следует напомнить о первичных корнях антируссизма. Это тем более важно, что типология национализма, столь остро актуальная для многонациональной России, сосредоточивается и фокусируется именно на русскости. Не случайно именно русский национализм стал объектом пристального внимания русской религиозной философии XIX–XX веков, чему будет посвящен специальный разговор.
Акцент на ненависти к русским может восприниматься как нечто относительно инородное к феномену национализма в принципе. Почему не ненависть к англичанам, французам, немцам, народам и народностям Азии, Африки, Латинской Америки? Естественно, у кого-то и где-то национальная ненависть может иметь и имеет место. Некоторые авторы, анализируя кризисные ситуации в мире, отмечают не меньше десятка наиболее существенных разновидностей национальной ненависти.
«Огромный ореол национальных ненавистей представляет собой мусульманский котел, в котором непрестанно варятся необыкновенно страшные варева, что определяется национальными темпераментами, но еще больше – исламскими религиозными особенностями. Отчасти спровоцированные мусульманским фактором в мире действуют… армянский, сербский, испанский и другие национализмы, в первую голову – еврейский, в котором пороки ложного национализма выражены подчас весьма рельефно»[103].
Итак, что же актуализирует вопрос о ненависти к русским? В чем ее социокультурные и, быть может, генетические корни? Более того, корни ли это? Нет ли здесь причин иного характера, например социально-политических и историко-конъюнктурных? Кому и зачем потребовалось в определенных условиях разжигание ненависти к русским? Каковы глубинные конкретные связи ненависти к русским с проблемой национализма вообще, его типологией и вопросом о национальной идее в частности? И, наконец, аспект чрезвычайной важности. Проблема национальной идеи объективно-логически выходит к раскрытию сущности, специфики и содержания русской национально-исторической идеи. Ей будет отведен специальный раздел. Сейчас же скажу о животрепещущем для искомого фрагмента соображении.
Рассматриваемый контекст по ряду параметров с необходимостью предполагает прогностическую исследовательскую перспективу. Предстоящий «выход» на русскую идею имманентно включит в анализ, в философско-историческом и религиозном аспектах, ряд критериальных для содержательной структуры русской идеи компонентов: смысл существования России в мире и ее место в системе мировых цивилизаций; историческая миссия России; роль русского народа в исторической реализации названных компонентов; национально-психологические черты русского народа как государственно-образующей нации; общность исторической судьбы русского народа и других народов России; социально-генетические «механизмы» синтеза славян и «туранских» народов[104]; русский народ как уникальная многонародная нация; русский народ как главная сила в противодействии многочисленным недругам России. И важнейшее – русский народ как основной субъект русской идеи и православно-христианского мировоззрения.
После сказанного очевидно следующее резюме. Ненависть к русским – это, во-первых, непонимание и незнание России и, более того, враждебная исторически стабильная неприязнь не только к русским, но и к России в целом; во-вторых, ненависть к русским олицетворяет определенные социальные силы в различных регионах мира, более всего в Западной Европе и США; в-третьих, ненависть к русским – свидетельство подчас скрытого страха перед русскими и Россией, обусловленного извращенной и тенденциозной интерпретацией истории России; в-четвертых, ненависть к русским подпитана исторически беспрецедентным «парадоксом»: неспособностью сломить и подавить Россию и русских враждебными силами – монголами, шведами, рыцарскими орденами, поляками, литовцами, французами под водительством гениального полководца Наполеона Бонапарта, германским фашизмом, поработившим Европу, оснащенным новейшим оружием, бросившим на Россию сильнейшую в историческом диапазоне армию; в-пятых, ненависть к русским детерминирована, как бы и кем бы это ни оспаривалось, статусом России как Третьего Рима. Не вдаваясь в подробности, подчеркну: концепция и даже только идея «Москва – Третий Рим» сосредоточила «навечно» не имперские претензии России (не будем полемизировать с впавшими в опасное заблуждение)[105], а нечто великое, направленное на спасение России и мира, на духовно-нравственное бытие, конкретнее – на всеохватное (всемирное) торжество православного христианства[106].
Замечу еще, «Москва – Третий Рим» как плодотворная духовная идея «работает» и собственно на Россию. Имеется в виду как духовное возвышение самой России, так и преодоление, по милости Божией, ее грехов и слабостей, которых, по выражению А. С. Хомякова, «так много пролегло».
В этой связи позволю себе высказать сожаление и пожелание. Сожаление в том, что интерпретаторы концепции «Москва – Третий Рим» как будто забыли о ее внутренней функции, сосредоточив все свое внимание, позитивное или негативное, на внешнемировом резонансе этой идеи и концепции.
Отсюда и наше пожелание – разработать, проанализировать специфику внутрироссийского «полета» названной идеи и концепции. Взаимосвязь внешнего и внутреннего аспектов этой прекрасной идеи и концепции не только восстановит доброе имя старца Псковского Елиазарова монастыря Филофея, но и послужит полезным уроком для скептиков.
В связи с упоминанием о скептиках важно остановиться на тех спекуляциях о «Москве – Третьем Риме», которыми активно подпитывается ненависть к русским. Миф о «филофействе» как программе «русского и советского империализма» до сих пор отражает лживое, исторически извращенное представление о России в современной либерально-западнической литературе[107].
Напомню, что в России концепция Третьего Рима впервые сформулирована в 1523–1524 годах в посланиях старца и игумена Елиазаровского монастыря Филофея (около 1465–1542). Суть ее изложена в трех посланиях: к великому князю Василию III (15051533); дьяку великого князя Михаилу Григорьевичу Мисюрю-Мунехину; царю Ивану IV[108]. В переводе со старославянского одно из умозаключений звучит так: «Ведь два Рима пали, а третий стоит, а четвертому и не бывать»[109].
Концепция, сформулированная в 1523–1524 годах в сочинениях эпистолярного жанра, была изложена в официальном документе 1589 года – в Уложенной грамоте Московского Священного Собора с участием Константинопольского Патриарха Иеремии и греческого духовенства, когда учреждался Московский патриархат. В этой связи важное уточнение дает Н. В. Синицына в своем фундаментальном труде: «"Третьим Римом" именовалась не Москва, а "Великая Россия" в целом – царство»[110]. Синицына подчеркивает, что это свидетельствует о связи концепции с событиями церковной истории, о неразделимости судеб «священства» и «царства», о чисто религиозной доминанте концептуальной идеологии[111].
Между тем, широкое распространение в современных условиях получили два ложных тезиса, не подкрепленных ни источниковедчески, ни историографически: первый – оценка идеи Третьего Рима как официальной государственной доктрины; второй – подмена понятием Второго Рима, т. е. сведение концепции Филофея к «византийскому наследию»[112].
Оба тезиса не выдерживают никакой критики. Достаточно привести суждения Филофея, обращенные к Василию III: «Един ты, во всей поднебесной христианам царь… Вся царства православные христианские веры снидошася в твое едино царство»[113]. Вывод очевиден: Россия – последнее прибежище православия, но никак не всемирная империя, и если погибнет Москва, то погибнет православие в мире, и русские люди уже одни будут виноваты в этой гибели[114].
В одном из посланий Филофея несколько строк о Третьем Риме являются лишь частью текста, озаглавленного «Послание великому князю Василию, в нем же об исправлении крестного знамения и о содомском блуде». Ясно таким образом, что прямой целью обращения был призыв не к мировому господству, а к устроению внутрицерковных дел и поддержанию христианской нравственности. Послание убеждает князя, поскольку он единственный православный царь, осознать свою ответственность за все грехи и пороки и взять на себя в полной мере заботу об охране благочестия. В этом тексте осуждение содомского греха и борьба с ним занимают Филофея больше, чем учение о Третьем Риме. Тирада о Риме приведена лишь в конце («малая некая словеса изречем о нынешнем православном царствии») только для того, чтобы сказать: «Сего ради подобает тебе, о царю, содержати царство твое со страхом Божиим»[115].
Чем же обусловлен столь жесткий акцент на ненависти к русским в связи с концепцией «Москва – Третий Рим»? Казалось бы, прямая идентификация неочевидна. И тем не менее и в сегодняшней России и на Западе выстреливаются «гневные стрелы» против русских, направленные на якобы глубинные исторические корни русской и российской неблагонадежности и, более того, на идущую от России военно-политическую и социокультурную опасность для мирового сообщества. Ведь они квалифицируют теорию Третьего Рима как политическую доктрину российской экспансии.
Наряду с вышесказанным будет предложен обвинителям и ненавистникам русских и России веский исторический контраргумент. Дело в том, что об идее и концепции «Третьего Рима» многие столетия после жизни Филофея было мало кому известно. Отсюда следует, что инкриминировать этой идее и концепции чуть ли не ведущий мотив экспансионистской политики русских царей и императоров исторически безосновательно. Тем, кто усматривает в посланиях Филофея империалистическое завещание царизму, следовало бы вспомнить ряд исторических фактов. Послание о «Третьем Риме» практически до XIX века было неизвестно, и нет никаких свидетельств о том, что русские цари знали о нем или как-то реагировали на него. При этом, конечно, духовная жизнь России шла своим чередом под эгидой Русской Православной Церкви. Однако в глубинах православного учения конкретные ссылки на концепцию о «Третьем Риме» мы вряд ли найдем, хотя «духовное зрение» Филофея, несомненно, совпадало с духом православных христиан в последующих после его жизни временах.
В XVIII и первой половине XIX века память о Филофее совершенно изгладилась: ни Н. М. Карамзин, ни митрополит Евгений Болховитинов – автор словаря о писателях духовного чина – не упоминают ни его имени, ни его конкретного сочинения. Имя Филофея стало известно в 1846 году из первого тома «Дополнений к Актам Историческим», где напечатано послание Филофея к дьяку Мунехину-Мисюрю; остальные его писания стали появляться в конце 50-х и в 60-х годах XIX столетия. В «Православном собеседнике» после этих публикаций на псковского старца обратили внимание А. Н. Пыпин, С. М. Соловьев, Е. Е. Голубинский, В. О. Ключевский[116] и другие мыслители.
Кратко резюмируя представленный фрагмент, скажем так:
А. Ненависть к русским растворена в исторической неприязни к России. Невозможно не вспомнить поразительный обобщающий прогноз И. А. Ильина: «…. Запад нас не знает, но особенности наши признает; в чем эти особенности – не знает, в нашей истории и в нашей культуре не разбирается; но о нас, о России, о ее народе, его судьбе – судит, рассуждает и за нас и без нас решает»[117].
Ильин подчеркивает, что неумно ждать доброжелательства от неприятелей. «Им, – пишет он, – нужна слабая Россия, изнемогающая в смутах и в расчленении. Им нужна Россия безвольная, погруженная в несущественные и нескончаемые партийные распри, вечно застревающая в разногласии и многоволении, не способная ни оздоровить свои финансы, ни провести военный бюджет. Им нужна Россия с убывающим народонаселением…»[118]
Комментарии здесь излишни.
Б. В развитие суждений И. А. Ильина обратим свой взор к современным искателям негативных исторических корней России. Конечно, наиболее рьяные «негативисты» обосновались на Западе, о чем и предупреждал И. А. Ильин. Однако и в нашем Отечестве имеются подобные субъекты. Можно было о них не упоминать, если бы они не преподносили свою неприязнь к русским коварно опосредованно, именно через невежественно-оскорбительное отношение к русской идее. При чтении работ некоторых из них создается впечатление о недоосмыслении этими господами важнейшей исторической парадигмы. Она как минимум в двух вещах: в национально-исторической идее России (о чем далее в специальном разделе) и в исторически беспрецедентном единстве России и русской идеи.
А вот как рассуждают упомянутые выше «мыслители». О. Р. Лацис: «Мы не знаем, что такое русская идея»[119]. Д. В. Драгунский: «Когда говорят о русской идее, у меня по коже пробивает легкий мороз»[120]. Нечто подобное говорит и В. Хорос[121].
Наряду с отрицательным отношением части христиан к национализму и невежественным отношением к данному феномену некоторых наших соотечественников на Западе имеет место несколько иной подход к России и русским. Однако во всех подходах, за исключением заблуждений части христиан, заложена грозящая России и русским «мина замедленного действия».
Поэтому, как справедливо подчеркивает Н. А. Нарочницкая, «рассмотрение ключевых стереотипов в оценке русской истории совершенно необходимо, как и уяснение тех философско-методологических основ, которые в равной мере питают отношение к отдельному прошлому России и к ее сегодняшнему выбору»[122].
И здесь необходимо оговорить как минимум два положения. Во-первых, ненависть к русским и к России обусловлена не столько поисками ее исторических грехов, о которых глубже, достовернее и честнее писали русские мыслители[123], сколько плохо скрываемой злобой, вызванной военно-политическими, социально-историческими и духовно-нравственными взлетами России.
Выше об этом уже написано. Сейчас же приведу некоторые иллюстрации, в которых наряду с тенденциозным извращением российской истории проглядывает плохо скрываемая зависть к историческим фактам несгибаемости русских. Во всех случаях острие искажений русской истории направлено в одну системную генеральную цель – ослабить Россию, оправдать антироссийские военно-политические акции и в конечном счете сломать российский «барьер» на пути к американскому глобализму.
Обратимся к персоналиям, ограничившись некоторыми широко известными на Западе авторами, выражающими нигилизм к России и русским.
А. Янов, некогда подвизавшийся в журналистике в Советском Союзе, издал весьма значительным тиражом книгу «Русская идея и 2000 год» (Нью-Йорк, 1988). Больше всего Янова раздражают моменты величия России, а не поражения. Он задает иррациональные для него вопросы: а) почему после Первой мировой войны Россия оказалась единственной континентальной империей, которая в итоге не распалась, а консолидировалась в новой форме? б) почему после Второй мировой войны она, истощенная до предела, опять не развалилась, а обрела еще большее могущество?[124]
Ответы на эти вопросы он ищет в русской истории, проявляя к ней глубокую неприязнь, ибо она (русская история), по Янову, сама дает ответ, как он пишет, «сокрушительный для логики либералов», т. е. доказывает, что Россия не есть неудачник западной истории, а мощная альтернатива ей.
Но вывод Янова может показаться парадоксальным, хотя и адекватным его глубинной ненависти к России: «Автократия замкнула Россию в своего рода исторической ловушке, из которой она не может, как свидетельствует все ее прошлое, выбраться самостоятельно – без интеллектуальной и политической поддержки мирового сообщества»[125].
А далее логическое для ярого недруга России умозаключение: «Россия представляет чудовищную угрозу мирной европейской либеральной цивилизации, так как в отличие от той всегда имеет грандиозные, ни с кем не сравнимые экспансионистские планы и идеи мирового государства». «Не может быть мира без политической модернизации России», – глаголет Янов[126].
Но Янов не одинок. Быть может, еще большая неприязнь к России, а стало быть и к русским, звучит в трудах Ричарда Пайпса[127]. Нельзя не обратить внимания на утонченные приемы Пайпса и его авторитет как специалиста по России и ее истории на Западе и в США.
На Западе Россию плохо знают, и популярность Пайпса вполне объяснима. Труднее воспринимать доверие к сочинениям американского профессора со стороны некоторых наших соотечественников. Видимо, главная причина этого в плохом знании своей истории. Дабы не быть голословным, конкретизирую вопрос. Сошлюсь на книгу Р. Пайпса «Россия при старом режиме»[128]. В главе IX «Церковь как служанка государства» Р. Пайпс выдает свои «открытия», не выдерживающие критики как с позиций истории России, так и в плане православно-богословском. «Тот факт, – пишет Пайпс, – что Россия приняла христианство у Византии, а не у Запада, имел далеко идущие последствия для всего хода исторического развития страны… Приняв восточный вариант христианства, Россия отгородилась от столбовой дороги христианской цивилизации (курсив мой. – В. Г.), которая вела на Запад»[129]. Резюмируя, Пайпс утверждает: «Таким образом, принятие христианства, вместо того чтобы сблизить Россию с христианским миром, привело к изоляции ее от соседей»[130].
Пайпс осуществляет псевдологический ход. Своевольно и тенденциозно оторвав Россию от христианского мира, он инкриминирует Русской Православной Церкви разрыв с народом. «Ни одна ветвь христианства не относилась с таким равнодушием к проявлениям социальной и политической несправедливости»[131], -вещает американский «россиевед», напрочь забывая о жестоком и беспрецедентном не просто равнодушии, но и чудовищном игнорировании права на жизнь и духовную свободу тысяч верующих во Христа католиков во времена инквизиции.
Несостоятельность воззрений Р. Пайпса доказывается примерами из российской духовно-исторической литературы. Например, еще митрополит Иларион (конец X – начало XI в., около 1054 (1055) – идеолог древнерусского христианства, митрополит Киевский (с 1051 г.), писатель и мыслитель, обосновал историко-духовную необходимость сближения Киевской Руси с Западом именно после принятия христианства[132]. Согласно Илариону, мировая история вершится по определенному Богом плану, а само движение ее воплощается в приобщении все новых и новых народов к «благодати» (т. е. к христианству). Более того, в «Слове о законе и благодати» утверждается «право молодого славянского народа быть новыми мехами для "старого вина»[133].
Не вдаваясь в целый ряд российских духовно-исторических «аномалий», обнаруженных гарвардским профессором, укажу еще на одну. «Москва сделалась третьим Римом, – пишет Р. Пайпс, – и как таковая будет стоять вечно, ибо четвертому не бывать. Идея эта была сформулирована где-то в первой половине XVI века псковским монахом Филофеем и стала неотъемлемой частью официальной политической теории Московской Руси» (курсив мой. – В. Г.)[134].
Выше уделено некоторое внимание вопросу о правильной интерпретации теории «Москва – Третий Рим». В дополнение к отмеченному воспроизведу принципиальное утверждение Филофея, обращенное к Василию III: «Храни и внимай, благочестивый царь, – обращается он к Василию III, – тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать. И твое христианское царство другим не сменится по слову великого богослова, а для христианской церкви сбудется блаженного Давида слово: "Вот покой мой во веки веков, здесь поселюсь, как пожелал я того"»[135]. В послании к Ивану IV падение второго Рима представлено полным и бесповоротным вследствие его соединения с латинской верой (флорентийская уния 1439 г.). Таким образом, учение «Москва – Третий Рим» помимо эсхатологического содержит мессианический аспект, выражающийся в идее смены богоизбранности народов, отвержения одного и призвания другого народа как оплота христианства[136].
После сказанного вряд ли можно считать правомерным категоричное утверждение Р. Пайпса, что «Третий Рим стал неотъемлемой частью официальной политической теории Московской Руси». Однако, хотя Филофей указывает на христианское целеполагание своего послания, развивая мотив, прозвучавший в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона, тем не менее со временем теория о «Третьем Риме» действительно приобрела политикоидеологический акцент как идеологическое подкрепление самодержавной власти московского царя. Подобный смысл возникал в творчестве Данилевского, Каткова, Тихомирова. Этот акцент, увы, сохраняется у отдельных интеллектуалов и сегодня. К сожалению, и в прошлом, и в наши дни некоторые из них как бы забывают главное, что генеральный замысел Филофея нисколько не деформируется от взглядов его интерпретаторов. И нам приходится сожалеть, что у Р. Пайпса есть сторонники в России[137].
Подведу частичный итог. Можно выделить из написанного ряд смысловых блоков.
Первый. Феномен национализма не только слабо изучен, но и повсеместно воспринимается как явление негативное и реакционное. В числе противников национализма немало христиан, которые не без основания полагают, что христианская любовь учит видеть брата в каждом человеке и христианин рожден быть гражданином вселенной. Патриотизм и национализм интерпретируют как несовместимые с духом христианства.
Второй. Существует не просто неприятие национализма, но имеются многообразные формы его извращения и отрицания.
Третий. В числе патологических форм национализма, распространенных в наше время, – национальные ненависти, безнравственные и разрушительные, в частности иррациональная ненависть к русским. Тенденции антируссизма, к сожалению, перестали быть редкостью. Достаточно напомнить о национа-лизмах прибалтийских, грузинских, украинских и некоторых других. Конечно же, речь не идет о всеохватных негативных эмоциях целых народов, национальный негативизм по отношению к русским свойствен определенным слоям населения, впадающим в патологию под воздействием своих лидеров и тенденциозных идеологов.
Ненависть к русским не универсальное национально-психологическое явление. Доминирующей альтернативой ему служит любовь и уважение к русским и России, что подтверждается множеством аргументов социально-политического и духовно-нравственного характера[138].
Четвертый. Ненависть к русским как одна из форм патологического национализма обусловлена многозначными духовноисторическими факторами, которые, на мой взгляд, работают на анализ типологии национализма. И самое главное – на адекватное определение места и роли русского народа в истории и судьбе России. Более того, специальный анализ русизма в относительно нетрадиционном плане позволяет сосредоточиться:
а) на проблеме смысла существования российской цивилизации в мире, глубинной трагической и героической истории России;
б) на проблеме типологии национализма и специфике русского национализма, к чему подводит вплотную предложенный анализ; в) на исторически неотразимых параметрах величия русского народа и его позитивной роли в судьбах других народов России и мира («доказательство от противного»); г) на проблеме национальной идеи в принципе с выходом на русскую (российскую) национально-историческую идею; д) на историко-методологической возможности адресовать ненависть к русским тем извратителям теории «Москва – Третий Рим», которые пытаются экстраполировать лживую трактовку этой теории на современную Россию, т. е. сделать ее источником угрозы миру и безопасности на планете.
Теперь можно приступить к вопросу о типологии национализма, к рассмотрению своеобразия русского национализма и характера соотношения феномена национализма и национальной идеи, что явится, с одной стороны, синтезом вышеизложенного, а с другой – преддверием анализа сущности и содержательной структуры русской («российской») национально-исторической идеи.
Теоретико-исследовательская значимость типологии национализма, обусловливается прежде всего тем, что именно выход к типологии позволяет снять однозначность в социокультурной и духовно-нравственной трактовке важнейшего феномена истории и культуры, который тесно соприкасается с животрепещущими сторонами бытия наций и государств. Однозначно негативные оценки национализма постепенно разрушают баланс тех социокультурных и духовных сил, которые скрепляют мир и противостоят гибельному синдрому вражды, межличностной и международной нетерпимости.
Вне типологии национализма мы оказываемся в «объятиях» смертельного социального недуга, способного порождать крайние формы человеконенавистнического экстремизма, не исключая международных войн и локальных вооруженных конфликтов между нациями и народностями. Поэтому необходимо понять истинную природу национализма и недопустимость его однозначно патологической трактовки, а тем более ее реализации в социальных и межличностных отношениях.
Неизбежны вопросы: откуда же появились извращенная интерпретация национализма и ее следствие – понимание национализма как чудовищного порождения социума, угрожающего его существованию? И почему столь тяжко и долго восстает спасительная альтернатива – другой тип национализма: национализм как любовь и уважение к своему народу и как братское отношение к другим нациям, народам и народностям?
И еще весьма непростой вопрос: на каком типе национализма может базироваться национальная идея? Правомерна ли национальная ненависть к народу или его части в условиях национальной идеи, сосредоточенной, например, на защите Отечества от агрессии? Или: правомерна ли национальная ненависть, когда имеет место мобилизация населения на отстаивание реакционной национальной идеи? Забегая вперед, нужно сказать: для понимания феномена национализма, как и для выяснения характера национальной идеи, абсолютно необходим эвристический выход на гносеологический принцип типологии любых явлений и объектов познания. Однозначности в аксиологии, гносеологии и онтологии быть не должно.
Однако в чем же таится корень однозначно бескомпромиссной трактовки национализма? В чьи «объятия» мог попасть Д. С. Лихачев, мыслитель и теоретик, которого многие называют совестью нации? Ведь именно ему принадлежат оценки, от которых стынет кровь: «Национализм самое тяжелое из несчастий человеческого рода… как и всякое зло, оно скрывается, живет во тьме и только делает вид, что порождено любовью к своей стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью к другим народам. это проявление слабости, а не силы нации»[139].
Можно не расширять диапазон данных раздумий и умозаключений, т. е. не заглядывать в просторы глубинных историко-психологических факторов, порождавших нетерпимость и неприязнь людей друг к другу. Здесь поле анализа необъятно и выходит за рамки и данной темы, и моих творческих возможностей.
Лучше сузить этот поиск и свести его к обстоятельствам преимущественно социально-политического характера, наиболее близким к однозначному пониманию национализма как порождению злобы и ненависти народов друг к другу.
На мой взгляд, «прицельная» взаимная злоба и ненависть между народами выросла наряду с религиозными противоречиями из межклассовых отношений. Взаимные неприязни и схватки между определенными социальными группами людей в эпоху Средневековья и ранее носили в основном конъюнктурно-локальный характер и, несмотря на значительные, подчас предельно жестокие формы действия, не приобретали стабильной, долговременной социально-политической несовместимости. Последняя возникла и развилась в эпоху перехода от феодализма к капитализму, особенно рельефно – в Западной Европе.
И вот здесь наряду с объективными социальными процессами вспыхнуло зарево, порожденное субъективными мотивами определенных лиц, корыстных и подчас бескультурных. Появилась печально знаменитая теория классовой борьбы, возведенная в ранг неизбежной, имманентно содержащей неистребимую взаимную ненависть не только между классами, но и между нациями. Более того, любые формы национальных движений квалифицировались под углом зрения теории классовой борьбы: нация угнетенных и нация угнетателей – универсальный ключ к разгадке любых национально значимых явлений.
От этих общеисторических положений перейдем к российской реальности. Как в России теория классовых отношений и классовой борьбы облеклась в «национальные одежды» и оплодотворила межнациональные отношения вообще и феномен национализма в частности? Как «ударила» эта теория по проблеме типологии национализма? Речь пойдет о реальной псевдотеоретической установке: в контексте теории классовых отношений и классовой борьбы не может быть речи о принципиально различных типах национализма, т. е. не только о несовместимости угнетателей и угнетенных, но и о содружестве национально-классовых субъектов. И более всего немыслимо, чтобы в контексте теории классовой борьбы возникла идея любви к другому народу, к стране, наполненной антагонистическими классовыми противоречиями.
Классовый антагонизм, точнее, его универсализм, вечность и неизбежность охватил, пронизал общественную жизнь, бытие и сознание масс, проник во все сферы общественного сознания, и особенно в национальное сознание. В науке, искусстве, нравственности и т. д. все оценивается под углом зрения абсолютного классового подхода. Жизнь и деятельность личности не была исключением, а религиозное сознание – в максимальной степени. Классовый подход к любым явлениям теории и практики как абсолютный критерий достиг апогея в теории марксизма в России и Европе.
«Верующий в Бога – враг советской власти». Этот лозунг советской пропаганды был реализован посредством специально разработанной программы тотального уничтожения Русской Православной Церкви и жестокого подавления миллионов верующих в Бога. Следует напомнить, что теория классовой борьбы целенаправленно работала на идеологическую подготовку мировой пролетарской революции. По убеждению теоретиков марксизма-ленинизма, религия становилась опасным противовесом сплочения масс на революцию. Противовесом главным образом социально-психологическим и мировоззренческим стала христианская религия как великая система духовно-нравственных принципов, абсолютная антитеза любой революции, скроенной по меркам насилия, ненависти, крови и страдания людей. Беспощадное, системное уничтожение православной религии в России явилось следствием как социально-политической программы, так и ненависти к религии и церкви секуляризованных еще до революции определенных слоев населения страны.
В такой атмосфере любой вопрос о национальных отношениях, национальном сознании подвергался абсолютной деформации. Теоретически обобщенно и практически целенаправленно классовый подход к феномену национализма был выражен в ленинизме, суть которого правомерно свести к следующим положениям. Во-первых, феномен национализма однозначно связывался с буржуазной идеологией и политикой в национальном вопросе, выражающими классовые интересы буржуазии; во-вторых, элементы прогрессивности в национализме признавались в основном только в двух случаях: когда речь шла о борьбе восходящей молодой буржуазии против феодализма[140]; когда имелся в виду национализм угнетенных наций, борющихся за политическую и экономическую независимость против империализма. При этом, имея историческое оправдание[141], национализм угнетенных наций по природе своей есть тоже буржуазный национализм…[142]
И печально знаменитый беспощадный приговор, и сугубо негативная однозначная оценка национализма: «Буржуазный национализм и пролетарский интернационализм – вот два непримиримо враждебных лозунга, соответствующие двум великим классовым лагерям всего капиталистического мира и выражающие две политики (более того – два мировоззрения) в национальном вопросе»[143].
Таким образом, гипертрофированный классовый подход оказался роковым для теории и практики всего национального движения, национальной политики, особенно для проблемы национализма. С теоретической точки зрения он обеднил и извратил важнейший, далеко не однозначный характер этого феномена. Достаточно отметить полное снятие типологического рассмотрения национализма, его полифоничности, многообразия сторон, граней, оттенков в содержании.
Упрощением и вульгаризацией дело не ограничилось. Грубым искажением феномена явилось игнорирование в трактовке его природы духовной составляющей, без которой подлинное «лицо» национализма не выявить. Вообще, национализм терял всякое право на статус нормы, он рассматривался только как патология.
С практическо-политической и социально-нравственной точек зрения жесткий классовый подход девальвировал истинную ценность таких великих и священных понятий, как «родина», «патриотизм», «отечество».
Теперь непосредственно о типологии национализма. На наш взгляд, фундаментальные исследования о национализме, адекватные глубинному проникновению в сущность и содержание этого сложнейшего социокультурного феномена, имели и имеют место в русской религиозной философии XIX–XX столетий. После русских философов отечественная мысль не подарила нам работ, достойно продолжающих рассматриваемую проблему.
Вот ряд концептуальных положений русской религиозной философии по данной проблеме.
Первое – религиозно-философское, точнее, христианское обоснование национализма. Весьма красноречив исходный тезис, дающий общемировоззренческое основание права на жизнь феномена национализма. «Христианство принесло миру идею личной бессмертной души, самостоятельной по своему дару, по своей ответственности и по своему призванию, особливой в своих грехах и подвигах и самодеятельной в созерцании любви и молитвы, – т. е. идею метафизического своеобразия человека. И поэтому идея метафизического своеобразия народа есть лишь верное и последовательное развитие христианского понимания… это означает, что признаны и призваны все народы, каждый на своем месте, со своим языком и со своими дарами»[144].
Развивая далее религиозно-философский подход, И. А. Ильин формулирует духовное понимание национализма, исключающее, на наш взгляд, крайности извращения, предубеждения, любую тенденциозную интерпретацию. «Национализм, – утверждает он, – есть уверенное и сильное чувство, что мой народ тоже получил дары Духа Святого. и творчески претворил их по-своему… Поэтому, – заключает философ, – национализм проявляется прежде всего в инстинкте национального самосохранения; и этот инстинкт есть состояние верное и оправданное… Он живет совсем не "по ту сторону добра и зла", напротив, он подчинен законам добра и духа. Он должен иметь свои проявления в любви, жертвенности, храбрости и мудрости; он должен иметь свои празднества, свои радости, свои печали и свои моления. Из него должно родиться национальное единение во всей своей его инстинктивной "пчелиности" и "муравьиности". Он должен гореть в национальной культуре и в творчестве национального гения»[145].
Суждения Ильина близки некоторым положениям Священного Писания (Деян 2. 1-42; Кор 1-31), что он отмечает в своей книге.
И. А. Ильин не одинок в представленной кратко исходной трактовке национализма[146].
Другой крупнейший мыслитель России, С. Н. Булгаков, подчеркивает, что степень духовности человека и народа выступает критерием качественной природы национализма. «"Звериный национализм", в котором "психея" подавляет "дух", с одной стороны; с другой – духовная любовь к своей Родине, народу, земле, языку, творчеству, истории. Их должно любить, греховно не любить, ибо это было бы онтологическим уродством, извращением, оскудением»[147].
Второе концептуальное положение касается обоснования национализма в норме (т. е. на духовно-нравственной основе) как патриотизма, а также объективной исторической необходимости такого национализма-патриотизма. При этом взор отечественных мыслителей вновь обращается к духовной сущности патриотизма, которая тождественна духовной любви к Родине. «Дело в том, – пишет И. А. Ильин, – чтобы вскрыть духовную и религиозную правоту патриотизма, необходимо показать, что любовь к Родине есть творческий акт духовного самоопределения, верный перед лицом Божиим и поэтому благодатный. Только при таком понимании патриотизм и национализм (курсив мой. – В. Г.) могут раскрыться в их священном и непререкаемом значении»[148].
В чем же суть истинного духовного патриотизма, сопрягаемого с истинным духовным национализмом?
Во-первых, истинный патриот любит свое Отечество «духовною зрячею любовью», исходящей из признания объективного достоинства (не мнимого), присущего его Родине[149].
Во-вторых, зрячая любовь патриота «…совмещает страстную любовь и жертвенность с мудрым трезвением и чувством меры»[150](способностью видеть свои недостатки и промахи и трезво их оценивать).
В-третьих, духовный патриотизм, как и духовный (истинный) национализм, – плод добровольного избрания и самопознания объекта любви. «…Заставить человека любить какую-нибудь "страну" как свою Родину. невозможно». Любовь «…есть дело внутренней свободы человеческого самоопределения»[151].
В-четвертых, истинный патриотизм, соединяя свою судьбу с судьбою своего народа в его достижениях и в его падении, в опасности и благоденствии, сливает свой дух с духом своего народа. Отсюда слово «мы», олицетворяющее единство в духе[152].