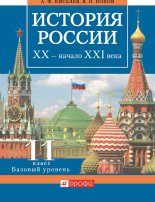Царство. 1951 – 1954 Струев Александр
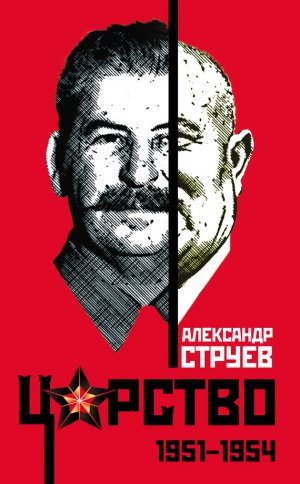
– Поймали их, посадили под замок, а дальше что? Месяц с ними валандались, тоже, как Хрущев, благородным названием «врач» загипнотизированные. «Будете честно отвечать?» – спрашивают, а они отпираются. Тогда я посоветовал Игнатьеву: «Спроси их как следует, построже спроси, поднажми!»
Сталин хмуро оглядел гостей.
– И поднажали, и сознались. Все тридцать семь человек бумаги подписали, – усаживаясь на место, продолжал он. – А по доброй воле кто признается, что главу Советского государства хотел умертвить?! – прихлопнул по столу генералиссимус. – Правда, был старик, который ничего не сказал. А потому не сказал, что помер. Ну, так на том свете чертям скажет! – обнажая желтые зубы, засмеялся Хозяин. – Неправильно про Лобное место забыли, – вдруг проговорил он. – Кто про Лобное место знает?
– Это на Красной площади. В старину там преступникам головы рубили, – отозвался Маленков.
– И мы врачам-извергам там головы отрубим! – выдал вождь.
– Хочу предложить тост за вождя всех времен и народов, за нашего учителя, товарища Сталина! – отставив тарелку, провозгласил Берия.
Присутствующие как по команде повскакивали с мест. Булганин высоко поднял бокал и во все горло прокричал:
– За здоровье нашего родного товарища Сталина, непобедимого генералиссимуса, троекратное, два раза коротко, последний – протяжно – ура! Ура!
– Ура-а-а!!! – что есть мочи взревели голоса.
Выпили до дна. Николай Александрович с силой грохнул о пол хрустальный бокал.
– На счастье, товарищ Сталин! Долгих вам лет! А врагов, врачей поганых и прочих нелюдей, уничтожим, не беспокойтесь. Это мы вам ответственно обещаем! – Булганин рухнул на стул, любовно взирая на отца народов.
Валечка стала заметать осколки разбитого стекла. Военный министр с аппетитом принялся за лобио.
– Ай, молодец! Подчистую съел, тарелку мыть не надо! – глядя на Хрущева, хвалил Иосиф Виссарионович. – Тебе что дать? Холодец пробовал? Нет? – Сталин подтянул ближе неподъемное блюдо. – А ты, Георгий, чего отстаешь? Смотри, как все наворачивают!
– Мне, если возможно, тоже холодного, – кивнул Георгий Максимович.
– Наливай, тамада, не отлынивай!
Лаврентий Павлович зазвенел бутылками.
– Лаврентий у нас хитрец, ничего не пробует! – погрозил пальцем Хозяин. – А про вино врачи тебе ничего не говорили? Не сообщали, что оно больным противопоказано?
– Ты сам сказал – вино, по существу, сок виноградный. Что тут вредного?
В помещении было душно, форточек в доме не открывали, чтобы не просквозило Хозяина. Лишь когда Иосиф Виссарионович удалялся отдыхать, прислуга поочередно проветривала помещения.
– Пропадете вы без меня, передушат вас, как котят! – Со второй попытки Сталин расстегнул верхнюю пуговицу на френче. – Старый я стал, тут болит, здесь болит, лечить меня некому, надо выбирать преемника, – медленно говорил он. – Плесните немного!
Булганин схватил бутылку «Оджалеши» и принялся наливать.
– Хватит, хватит, а то сопьюсь! – остановил Хозяин.
Приблизив бокал к свету, он любовался гранатовым оттенком вина.
– Так о чем я?
– О преемнике сказали.
– Ну да. Берия вроде подходит, и голова на месте, и хватка есть, и в политике разбирается, и крепкий хозяйственник, но он грузин. Еще одного грузина во главе ставить нельзя, это не Грузия! Отпадает поэтому наш любимый Лаврентий. Вот Никита сидит, московский секретарь. Из рабочих, молодой, толковый, старательный, и он не годится – образования нет.
Никита Сергеевич бесхитростно хлопал глазами.
– Справа от меня, – Сталин развернулся к Георгию Максимовичу, – сам товарищ Маленков, светлейшая голова. Он и доклад на Съезде сделал, и кадрами управляет, а кадры, сами знаете – решают все! Маленков у нас фигура значительная, и не в смысле, что толстяк, в брюки не влазит, – пошутил Генеральный Секретарь, – а в том смысле, что человек думающий, только и он не подходит. Георгия нашего золотого под белы руки вести надо! – потрепал за ухо кадровика Сталин. – Тебе стричься пора, оброс, как пес! Следовательно, остается Булганин, Маршал Советского Союза!
Глаза присутствующих уставились на сияющего Николая Александровича.
– Валя, неси второе! Прокурор, разливай! – скомандовал Иосиф Виссарионович.
На стол подали жаркое из оленятины и бараньи люляшки, завернутые в лаваш. В довершение Валя выставила щучьи котлеты с воздушным картофельным пюре.
– Как олень? – спросил Сталин Хрущева.
– Замечательный олень.
– Дикий зверь, гордый, а и он под пулю попал, значит, судьба! Я раньше любил охоту, сейчас какой из меня охотник! А раньше, в молодости, без охоты не обходилось. Помню, в ссылке, в Туруханском крае, частенько с Яшкой Свердловым на охоту ходили. Мы тогда с ним в одном доме у бабки горбатой жили. Смотреть на нее было жутко, на эту бабку-горбунью, как ведьма была страшная, вот и ходили на охоту, чтоб ее меньше видеть. И бабка радовалась – мясо приносили. Пса с собой брали, приблудился к нашему домику щенок, пожалели, оставили жить. Назвал я его Яшка, в честь Яшки Свердлова, – хохотнул Сталин, – так что я с двумя Яшками жил, позовешь: «Яша, Яша!» – так оба на зов идут, умора! Даже бабка беззубая смеялась. А Яшка, мудак, обижался. Я ему объясняю: «Глупый ты, Яша, хоть какое-то у нас есть развлечение, а ты дуешься!» Пошел я однажды на лыжах, долго шел, километров десять отмахал, а может и пятнадцать. Холодно, а я разогрелся, качусь себе по сугробам и качусь. Выхожу на опушку, глядь – на дереве куропатки сидят. Двадцать четыре штуки на ветке примостились, а ружья у меня нет, дома забыл. Я мигом назад, хвать ружье, и по своему следу обратно прибежал. Сидят, родненькие, никуда не улетели! Я прицелился и – ба-бах! – Сталин изобразил, как стреляет из ружья.
– И что? – просюсюкал Маленков.
– Что, что? Убил всех, потом долго куропаток ели.
Вождь налегал на вино, и, глядя на Берию, приговаривал:
– Притворщик, ох, притворщик!
Генералиссимус наколол на вилку щучью котлету и сунул Лаврентию Павловичу:
– Съешь, замечательная вещь!
– Не могу! Ей-богу, не могу! – упирался тот.
– Мы тебя просим, Лаврентий, попробуй! – не отставал Хозяин.
– Нельзя мне, желудок сорвется.
– Один кусочек, за меня! – В глазах правителя появилось неприятное выражение.
Берия одними губами взял котлету и проглотил.
– Молодец! – похвалил Сталин. – Я смотрю, Маленков не пьет, отлынивает.
– Я пью, пью! – приподнял наполовину пустой стакан Георгий Максимович.
– А почему глаза прячешь?! Что, секреты от меня, кадровик?!
Маленков глупо улыбался.
Иосиф Виссарионович и повернулся к Хрущеву:
– Что на тридцатом авиазаводе за история? Опять жидята голову подняли? Фамилия там промелькнула еврейская?
– Да, там волнения. Молодежь, комсомольцы, – уточнил Хрущев, – с профсоюзной организацией повздорили, а дирекция завода в стороне, там как раз директор еврей. Разбираемся.
– Надо подобрать десяток крепких парней и отправить туда, да снабдить их дубинами. Пусть порядок наведут. – Лицо правителя сделалось мрачным. – Моя Светланка, удумала, выскочила замуж за еврея! Что ей, русских мало или другой национальности мужика не нашла? Так нет, еврей! Я ей сказал: на глаза мне не показывайся, пока с жиденком живешь! Через год развелась, услышала отца. Сегодня в гости пожаловала, – улыбнулся отец. – Может, придет поздороваться, а может, уже спит.
– Она у вас умненькая, Светланка! – пьяно просюсюкал Булганин.
– Дура! – огрызнулся Сталин. – Умные за евреев не выходят! Сталинская дочь, подумать только! Она такая же дура, как дочь сидящего здесь Маленкова! – он ткнул Георгия Максимовича локтем. – Та тоже еврея подобрала.
– Я свою Волю развел, вернее, она сама ушла, – оправдывался Георгий Максимович. – У нее другой муж, архитектор.
– Не жид? – строго спросил генералиссимус.
– Что вы, какой жид!
– Как их, дур, угораздило, ума не приложу! А Молотов от своей Жемчужиной ни на шаг! Это хорошо, что мы ее в тюрьму упрятали, а то расхаживала по Центральному Комитету, как хозяйка, у меня муж, говорит, Молотов! А тот, старый дурак, почти в министры ее произвел, Комитет по рыбному хозяйству дал. Вся добыча рыбы в еврейских руках оказалась, весь рыболовецкий флот! Это для того Молотов сделал, чтобы больше денег жидам передать. Представляете количество пойманной рыбы? Рыбу можно сбывать, минуя советские порты. Рыба – это чистые деньги. Гитлера за евреев клянут, а ведь он в корень смотрел. Где еврей побывал, там делать нечего!
– Но ведь среди евреев есть и хорошие люди! – наивно проговорил Хрущев.
– Хорошие – это мы с тобой! – отмахнулся вождь. – Ну как такого простака на главный государственный пост ставить? Элементарных вещей не понимает! Каждый день с нами сидит, а ума не набрался, евреи – хорошие люди! – всплеснул руками Иосиф Виссарионович. – Ну-ка, пей! – И придвинул Хрущеву бокал.
– Что меня в Никите подкупает – посмотришь и сразу поймешь: не еврей! – подмигнул курносому московскому секретарю генералиссимус.
Иосиф Виссарионович поднялся с места и потопал к радиоле.
– Какую пластинку поставить?
– «Очи черные», – попросил Хрущев.
– Сейчас отыщем! Вот она!
Сталин вынул нужную пластинку, и комнату наполнила музыка.
- Очи черные,
- Очи страстные,
- Очи жгучие и прекрасные,
- Как люблю я вас,
- Как боюсь я вас,
- Знать увидел вас
- Я не в добрый час!
– Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные! – подхватила компания.
Сталин был на подъеме, он выпил больше обычного. Ждали, что вождь заставит присутствующих плясать, песни и танцы стали излюбленным занятием на обедах-ужинах. Хозяин обычно наблюдал за плясунами и лишь изредка вставал и делал па, растопыривая руки. Молотов, тот здорово танцевал, видно учился в молодости танцам, а может – талант, но молотовская песня была спета, его больше не приглашали на «ближнюю», он уже не был министром иностранных дел, молотовский заместитель Лозовский был арестован и расстрелян, как основной фигурант по делу о сионистском заговоре в Еврейском антифашистском комитете. Супругу Вячеслава Михайловича, Полину Семеновну Жемчужину, исключили из партии, освободили от всех постов, она проходила по этому же делу, ожидая своей страшной участи.
В самом начале войны, для борьбы с гитлеровской Германией, не без участия Молотова и Жемчужиной, в Москве создали Еврейский антифашистский комитет. В 1949 году выяснилось, что это логово завербованных шпионов, которые через плотные связи с заграницей пытались во всем вредить советскому государству. А ведь создали его под благовидным предлогом, что, мол, евреи-иностранцы дадут деньги, которые хлынут в советскую страну рекой, что безвозмездно отправят в СССР лекарства, одежду, обувь, технику – как красиво звучит! А сами что удумали? Удумали в Крыму создать Еврейскую автономную республику. Так прямо и написали товарищу Сталину, и зачастили в Кремль, доказывая, что еврейское лобби управляет Америкой, и с его помощью можно поставить Соединенные Штаты на колени. Сталин поверил. Евреи задумали не только заполучить Крымский полуостров, но и убедили вождя поддержать идею создания государства Израиль. Не один год Сталин слушал их пространные речи. Во время войны с Гитлером помощь от Еврейского антифашистского комитета поступала ощутимая. По инициативе СССР, который вынес обсуждение в Организацию Объединенных Наций, на карте мира появилось еврейское государство. Но тотчас после образования Израиль от Москвы отвернулся, переметнулся к Америке. Сталин был потрясен: «Кто им деньги давал? Кто вытребовал земли на Ближнем Востоке? Кто в ООН голос сорвал? Пре-да-ли!»
Отношения с США портились, Соединенные Штаты захлестнула истерия коммунистической угрозы. Глядя на Америку, и Европа стала сторониться России.
«Где обещанные тобой американские богачи-евреи?!» – злился на Молотова вождь.
Сталин разобрался в жидовской лживости, открылись глаза! В очередной раз, услыхав предложение о создании в Крыму еврейской автономии, он взорвался:
«Они не автономную республику в составе России хотят, им отдельное еврейское государство подавай, хотят из СССР выделиться и к Израилю примкнуть! А эта шлюшка Жемчужина там на первых ролях!»
«Читай!» – кричал генералиссимус, швыряя перед Молотовым оперативные документы, свидетельствующие о ее супружеской неверности. «Крым – эта протяженная морская граница, доступная иностранным судам. Евреи нашпигуют территорию диверсантами! В Крыму отдыхают советские руководители, неслучайно их выбор пал на Крым!» – мерил шагами кабинет Иосиф Виссарионович.
Массовые аресты среди евреев набирали обороты, люди сознавались: «Да, хотели отделиться, хотели в Крыму подкараулить членов правительства и в первую очередь товарища Сталина».
Скоро встал вопрос о еврейской национальности и ее месте в советском государстве. Уже никто не вспоминал о той громадной помощи, которая шла по линии Еврейского антифашистского комитета. На евреев начались массовые гонения. Однажды в канаве обнаружили труп режиссера еврейского театра Михоэлса. Газеты писали, что его по неосторожности сшиб в Минске грузовик. Похороны Михоэлсу устроили пышные, говорили трогательные слова, на могилу водрузили венок от Центрального Комитета и Министерства культуры, а потом всех, или почти всех, кто был на похоронах, закрыли на Лубянке.
«Надо укреплять оборону, а не ослаблять ее! – кричал Сталин. – Неужели Молотов не понимает?! Может, и он враг?»
Кто-то сказал Сталину, что Молотов, будучи с визитом в Америке, ездил по Соединенным Штатам в индивидуальном железнодорожном вагоне, а это означало, что уже тогда, перед войной с Германией, он был завербован американцами. На первом после XIX Съезда Партии Пленуме Центрального Комитета Сталин обрушился на соратника с претензиями, что тот отходит от генеральной линии партии! Вячеслав Михайлович стал оправдываться.
«Выворачивается, лис! Слышали, как он ловко ответил: “Мой учитель товарищ Сталин! Я ученик товарища Сталина!” – негодовал Иосиф Виссарионович. – У нас только один учитель – Ленин, отец Русской революции! У Сталина учеников нет!»
Вспомнив про ненавистного хамелеона Молотова, правитель разволновался.
– Это не вино, а дрянь! – отхлебнув «Киндзмараули», выкрикнул он. – Сказать не мог, что вино прокисло, ведь пробовал?! – уничтожая взглядом Маленкова, негодовал Хозяин. – Давился кислятиной и молчал!
Резким движением он выплеснул вино в побледневшее лицо Георгия Максимовича. Маленков не посмел утереться, и вино потекло бы ему за шиворот, если бы не плотная салфетка, заткнутая за ворот рубашки. Он лишь беспомощно, точно вытащенная из глубины рыба, открывал рот, не отводя от властелина испуганных глаз. Берия налил Генеральному Секретарю из другой бутылки:
– Это я пил. Вроде ничего.
– Выходит, ты напутал?! – сощурился Сталин и протянул Маленкову чистую салфетку. – Дурит нас кто-то с вином, ох, дурит! – погрозил пальцем вождь.
Маленков со страха никак не мог донести фужер до рта, руки предательски дергались.
– Что не пьешь, напился?! – строго смотрел Сталин. – Э-э-э! Сам попробую! – и отхлебнул.
Лицо Хозяина болезненно скривилось.
– Кислятина! – выкрикнул он и с ожесточением выплеснул остатки на Берию, угодив в шикарный двубортный шерстяной пиджак. – Зачем хвалишь, врун?!
Берия схватил салфетку и стал торопливо промакивать испачканную одежду. Сталин свирепел. Всех спасло чудо, появилась Светлана. Вася, сын, не часто заезжал к отцу, а если и заезжал, то был, как правило, сильно выпившим.
«Пьяниц ко мне не пускать!» – в очередной раз приказал Иосиф Виссарионович, и Василию дали от ворот поворот, потом, правда, пожалели, простили, все-таки родная кровь.
Светлана подошла к отцу и поцеловала в щеку.
– Пришла стариков проведать! – растаял Иосиф Виссарионович, встал и обнял непутевую дочку.
Радиола заиграла громче. Гости запели:
- Журчат ручьи,
- Слепят лучи,
- И тает лед и сердце тает,
- И даже пень
- В апрельский день
- Березкой снова стать мечтает…
– Танцуй! – велел дочери Сталин и подтолкнул плечом.
– Я устала, папа, можно просто посижу с вами?
– Пляши, говорю! – отец схватил дочь за волосы, грубо схватил, и, не отпуская, вывел на центр комнаты.
Мужчины умиленно хлопали.
– Пляши, радуй отца!
Светлана стала танцевать, плавно, как бабочка, но в глазах ее застыли слезы. Больно отец сделал, чуть при всех не разрыдалась бедняжка. Чувства Сталин выражал звероподобными приемами, вроде нежности кошки с мышкой, а ведь он любил их – своих Светланку и Васю.
Танец Сталину не понравился.
– Не хочешь танцевать, так иди спать! Нечего было приходить!
Светлана скомкано попрощалась и ушла. Недовольный властитель переменил пластинку.
- Артиллеристы, Сталин дал приказ,
- Артиллеристы, зовет Отчизна нас,
- И сотни тысяч батарей
- За слезы наших матерей,
- За нашу Родину – огонь, огонь!
Сталин закопался, подбирая новую музыку, обернулся, видит, Маленкова и Берии нет.
– Слушай, – обратился он к Хрущеву. – Где эти два жулика?
– В туалет пошли.
Из приоткрытой двери появилась пропавшая пара. Первым семенил Маленков, за ним Берия.
– Добежали, не обоссались? – развернулся к ним Хозяин.
Булганин пел лучше всех, не перевирал мотив, голос зычный, красивый. Сталин сажал министра Вооруженных Сил рядом, между собой и крупнолистным фикусом, и с удовольствием слушал его сочный тягучий голос.
– Тебе в певцы надо было, а не в маршалы! – проговорил Сталин.
И снова радиола играла, и снова раздавались задорные голоса.
– Этих врачей-выродков надо бить, лупить нещадно! Надо их в кандалы! Щербакова ухайдокали и ко мне подбирались! Старейший член партии, товарищ Андреев, сидит на совещаниях глухой, как мумия! Это врачи кремлевские его глухим сделали. Он еще легко отделался. Это чудо, что до меня псы не дотянулись! Ты, прокурор, куда смотрел?!
– При чем я?! Я промышленностью занимаюсь!
– Промышленностью! – передразнил Сталин. – Зачем тогда к тебе Абакумов бегал, если ты ничего не знаешь?! Кто заговор в Грузии проворонил?
Берия беспомощно развел руками.
– Я всегда говорил, мингрелы не настоящие грузины, поэтому к Турции присоединяться собрались. Ты, кстати, не мингрел?
Берия сидел бледный, как полотно. Тогда, в 1951, чтобы на него не пала тень, он помчался в Грузию и утопил Тбилиси в крови. Десятки людей были уничтожены, сотни репрессированы. Сегодня Сталин снова вспомнил про позабытое мингрельское дело. Может, Сталин специально под Берию тот заговор готовил, да что-то помешало ему клещами до Лаврентия дотянуться. А сколько невинных пострадало – не перечесть! – но это владыку не беспокоило – сотней больше, сотней меньше, бабы еще нарожают!
– Товарищ Сталин! – произнес Хрущев. – Я пью «Манавицвани». Очень достойное вино, попробуйте!
Председатель правительства громко чокнулся с ним и выпил.
– Мировое! – оценил он. – А эти кислятиной давятся!
– С вашей помощью я стал в винах понимать. «Манавицвани» и «Оджалеши» мои самые любимые, – блеснул эрудицией Никита Сергеевич.
– Губа не дура! – ухмыльнулся вождь.
– За нашего любимого товарища Сталина! Многих вам лет жизни и богатырского здоровья! – провозгласил Маленков.
Опять все встали и потянулись рюмками к правителю.
– Может, вас бананами угостить? Смотрю, их принести забыли, – проговорил вождь.
Сталин обожал бананы. Министерству торговли было поручено организовать поставку бананов и их продажу в крупных городах.
Когда ваза появилась на столе, гости взяли по банану. Сталин почистил свой и с удовольствием съел:
– Берите, угощайтесь! – кивал он. – О чем еще поговорим, что у нас на повестке дня?
Выручил Булганин:
– Можно анекдот расскажу?
– Валяй!
Булганин уже здорово поддал, он раздвинул перед собой посуду и облокотился на стол:
– Про козу. Одного мужика за плохое поведение выслали на остров. Дали ему там махонькую квартиру на третьем этаже, аккуратненькую такую. Все хорошо на острове, только одна беда – баб нет! Смотрит парень, а все мужики с козами спят. Он прямо ужаснулся: «Как это, с козами?! Нет, это не по мне! – думает. – Я как-нибудь перетерплю!» – и, значит, ходит, мучается. Неделя проходит, другая, месяц, второй, совсем невмоготу ему стало. Отправился парень на базар, купил козу, привел домой, привязал на балконе, и только стал к ней пристраиваться, слышит смех. Он голову поднял – соседи на балконах стоят и смеются. «Вы чего смеетесь? – кричит парень. – Вы тоже коз дерете?!» – «Дерем, – отвечают, – но не таких же страшных!»
Народ попадал со стульев.
– Тонкий юмор, только козу жалко! – смахнул выступившую от смеха слезу Иосиф Виссарионович.
– Почему, товарищ Сталин?
– Потому что ее никто не обласкал, не порадовал!
– Ничего я из вашего дополнения не понял, – сконфуженно проговорил Булганин.
– Вот, послушай, Николай Александрович, – уважительно начал Сталин. Он редко кого называл по имени и отчеству, обычно по фамилии, всегда строго. – В зоопарке звери днем друг другу анекдоты рассказывают, умирают со смеха, один жираф кислый стоит. А ночью, когда все спят, жираф начинает хохотать. До него только ночью смысл доходит. Понимаешь? – уставился на маршала Сталин.
Николай Александрович растеряно пожал плечами. В комнате опять расхохотались.
– Что, ребята, может, про меня анекдотик расскажете? – прищурился генералиссимус.
– Про вас, товарищ Сталин, мы анекдотов не знаем, – с серьезным видом заявил Маленков.
– Жаль, а то бы вместе посмеялись, – Иосиф Виссарионович зевнул: – Скучно сегодня было. Думайте, чтобы завтра не скучать. Вот вчера я здорово посмеялся!
Вчера, перед отъездом, Берия жирно написал на листке бумаги слово «МУД…К» и незаметно прикрепил на пальто Хрущеву, и, когда Никита Сергеевич, попрощавшись с Иосифом Виссарионовичем, развернулся к дверям, народ лопнул от смеха! Долго хохотали, тыча в него пальцами. А товарищ Хрущев больше других розыгрышу обрадовался – смеялся, так уж смеялся! И долго, обеими руками, тряс бериевскую руку. Председатель правительства сразу на Лаврентия указал – вот кто выдумщик! Очень товарищу Сталину шутка понравилась. А что на завтра придумать – вопрос?
Сталин поднялся, и, не оборачиваясь, ушел. Гости расстроились, что вождь их не проводил, стали подбирать снятые в духоте пиджаки, кофты и переместились в прихожую. Берия и Булганин получили от дежурного офицера личное оружие, Маленкову вернули его толстый, на двух блестящих замках, кожаный портфель. Оружие и сумки на «ближней» полагалось сдавать. Каждого визитера здесь отводили в сторонку и тщательно осматривали – не утаил ли случайно какую дрянь? Два капитана со знанием дела выворачивали посетителям карманы, ощупывали подкладку одежды, заставляли снимать ботинки, чтобы более детально исследовать и их. Разве можно поручиться, что крамольная мысль не закрадется в чью-то голову?! Осознавая степень особой ответственности, никто таким мерам предосторожности не удивлялся, наоборот, всячески пытался оказывать при досмотре содействие, то руки вверх задерет, то удобнее для сотрудника охраны повернется. Это и Лаврентия Павловича касалось, никому на «ближней» исключения не делали.
Булганин и Хрущев ехали домой вместе. От Волынского до горкомовского поселка «Ильичево», где проживал Никита Сергеевич, было рукой подать. По пути завозили в Барвиху Булганина.
Хрущев вышел пожать товарищу руку.
– Лаврентий в туалете про куропаток возмущался, – вспомнил Николай Александрович. – «Во врет! – говорит, – двадцать четыре куропатки одним выстрелом уложил и за тридцать километров за ружьем сбегал! Где это видано, чтобы кавказский человек на лыжах столько ходил? Сил нет слушать!»
– Ругался, значит? – улыбнулся Хрущев, голова у него гудела от выпитого.
– Ругался! – министр Вооруженных Сил обнял Никиту Сергеевича.
Когда автомобили Булганина и Хрущева сворачивали с Успенки на Барвиху, «ЗИС» Лаврентия Павловича, где ехали Берия и Маленков, глухо просигналил на прощанье.
Кто они, эти люди? Они – ближний круг. Ближе не бывает. Самые преданные, самые надежные, самые доверенные соратники вождя, его руки, его плечи, его опора. Не могут эти искренние люди подвести, не могут оступиться. В любую минуту они начеку – и в радости, и в горе, – плечом к плечу! Их не сдвинешь, не купишь, не соблазнишь, они охраняют власть, стерегут ее, а власть – это самое святое, что есть на земле!
Трудно быть защитой и опорой, очень трудно, но еще труднее быть им – владыкой.
Сталин обхватил подушку и закрыл глаза. Что ему приснится сегодня?
На черном безоблачном небе плыла слепая бледная луна, плыла и светила немым неодушевленным светом. Стояла морозная февральская ночь.
1 марта 1953 года, воскресенье
– Илюша, не шуми, папа спит! – шикнула мама.
Илья собрал с пола паровозики с вагонами и с обиженным видом поплелся в детскую.
– Надя, посидите с ним, а то он Никиту Сергеевича разбудит! – велела няне Нина Петровна, но Никита Сергеевич уже встал.
С перепоя было скверно. Опьянение побеждало, как только Хрущев попадал в постель, его штормило, нутро выворачивало, с убыстряющейся скоростью все перепутывалось в голове. Если уткнуться в подушку круговерть приостанавливалась, но стоило шевельнуться, начинало штормить опять. Очнешься, попьешь воды – и еще хуже!
Пока Хрущев ехал от Сталина домой, мозг по инерции был сконцентрирован, напряжен, не позволял распуститься, расслабиться, хоть на миг потерять контроль, но стоило Никите Сергеевичу переступить порог – сразу становился вдрызг пьяный. Маленков, тот часто надирался до зеленых чертей, прямо за столом падал, и его под довольную ухмылку вождя, в невменяемом состоянии, утаскивали телохранители. Один Берия, ссылаясь на болезнь, пил умеренно и редко напивался. За то, что он не пил наравне с другими, Сталин злился, противно повторяя: «Кто не пьет, тот либо сильно хворый, либо подлюка!»
Сталин жил ночью, как сова, а, значит, и советская номенклатура не смыкала до утра одурманенных усталостью глаз, и получалось, что вся страна, за исключением простого люда, бодрствовала. Некоторые начальники располагались на ночлег прямо в кабинетах – разложил тюфячок и дремли у телефона, но самые стойкие ни при каких обстоятельствах не ложились, так и оставались за письменным столом при полном параде, зевали, пили крепчайший чай, растирали ароматными бальзамами виски, моргали воспаленными глазами. А что оставалось делать? Если товарищ Сталин бодрствует, значит, никому спать не положено!
Глядя на несчастного Никиту Сергеевича, супруга сочувственно вздыхала, отпаивала мужа наваристым куриным бульоном, приносила огуречный рассол. После ужасных попоек мысли в голову лезли препротивные и самая тяжкая – как будет на «ближней» завтра? Какую затейливую историю выдумать, чем ублажить великого человека?
Никита Сергеевич долго, фыркая, умывался. Больше часа ему делали массаж, разгоняли загустевшую кровь. Издерганное тело сбивали, гладили, отжимали, заставляя мышцы сопротивляться. Массажист уходил, а пациент еще долго лежал, блаженствуя под одеялом.
«Разве ж можно так пить? – спрашивал себя Хрущев. – Нельзя, ведь пропаду!»
Спасала прогулка. В любую погоду, и в дождь, и в метель, и в зной, он отправлялся гулять. Прогулка для Хрущева стала непременной обязанностью. Прогулки, как он считал, продлевают человеческую жизнь, они как воздух необходимы тем, кто киснет в четырех стенах. Шагая по кругу, проходил московский секретарь мимо соседних дач, вдоль убаюканного снегами фруктового сада, шел у гаражей и конюшни, наискось, через лес, спускался к реке, маршировал низом и снова поднимался к дому, а от дома начинал маршрут заново. Эти неспешные круги позволяли дышать полной грудью, мирили с самим собой. Никита Сергеевич любовался заснеженными березами, прозрачными льдинками, тут и там причудливо застывшими на кривых сучках, глядел на кургузые сугробы, на неровную, точно драконья чешуя, кору исполинских сосен, которые, высоко в небе расправляли вечнозеленые пушистые шатры. Каждый день Хрущев ходил, дышал, стараясь ни о чем дурном не думать.
Всякий раз, Никита Сергеевич подходил к сколоченной в виде резного домика птичьей кормушке. Никогда не появлялся он у кормушки с пустыми руками, обязательно приносил угощение – то хлебушек птичкам покрошит, то положит мелко нарезанное сало, которым с радостью угощались синички, то щедро высыплет зерно.
– Кушайте, птахи! – радовался невысокий человек.
За несколько лет птицы привыкли к лысому, толстому, очень подвижному мужчине, совершенно не боялись, подлетали, садились на руки, попискивали, благодарили.
Раскрасневшийся от морозного воздуха, Никита Сергеевич, возвратился домой.
– Никто не звонил? – скидывая валенки, поинтересовался он.
– Никто, – ответила Нина Петровна.
– Где Сережа?
– В институте, к коллоквиуму готовится.
– А Илюшка?
– Наверху, играет.
– Зови его, стосковался.
Последние годы рядом с вождем стояли четверо: Маленков, Берия, Булганин и Хрущев. Многие герои сорвались в бездну, канули, распались на молекулы, исчезли сами и утянули за собой любимых – семьи их были пущены по миру, гнили по тюрьмам или отбывали на северах – бестелесные тени с замызганными номерами вместо фамилий, пришитыми нервущимися нитками на спинах истерзанных роб. Номера эти сделались теперь именами. Партия желала, чтобы и там, на краю земли, никто не вспомнил о падших. Верными друзьями заключенных стали бессловесные гнусы – вши, которые тысячами плодились в голове, в паху, под мышками, да где придется, высасывая пока еще теплую человеческую кровь. Зацепишь ладонью под одеждой, и сразу в плену окажется целая жменя кровососущих паразитов.
Немец капитулировал, в городах налаживалась мирная жизнь. Но опять подняли голову, зашевелились враги. Тут и там стали отлавливать шпионов и вредителей. Газеты предостерегали – будьте бдительны! Вскрывались заговоры, целые подпольные диверсионные организации. Обнаружился отвратительный сговор продавшихся Америке евреев, потом авиационная промышленность дала крен из-за пробравшихся туда диверсантов и халатности руководства, были арестованы министр авиационной промышленности Шухаев и главком Военно-воздушных Сил Новиков. За измену Родине был расстрелян выбившийся наверх из самых низов прямолинейный маршал Кулик, который отличился и тем, что неотлучно возил за собой корову, не мог маршал обходиться без парного молочка, однако, он и воевать не боялся. Годом раньше, средь бела дня, бесследно исчезла его красавица-жена. И в партийной организации города Ленинграда, колыбели русской революции, обнаружились предатели и перерожденцы. А недавно вывели на чистую воду замаскированных уродов-врачей.
Последние месяцы тучи нависли над правофланговыми революции Молотовым и Микояном. Каким-то чудом избежал опалы легендарный маршал Ворошилов, а ведь и его, первого красного командира, героя Гражданской войны, Сталин причислял к английским шпионам и поговаривал о скором следствии. А следствие было простое и понятное. Начиналось оно с показаний, так называемых свидетелей, которые утверждали, что им доподлинно известно, что такой-то человек – враг, что он работает против советского государства, а потом человек, на которого указывали, находясь уже за решеткой, чистосердечно признавался в содеянном. Чего ж больше? Разве собственного признания недостаточно для подтверждения злого умысла? Безусловно, достаточно. Когда подследственный как на духу выкладывал эпизоды собственной подрывной деятельности, каялся, письменно подтверждал факты вредительства, неопровержимо признавая вред, нанесенный социалистическому обществу, сомнений в виновности не оставалось.
Поговаривали, что задержанных били. Зачем? Вовсе бить их было не обязательно. Бессмысленная трата времени выворачивать подследственному руки или до крови царапать кожу железной щеткой, чтобы мазнуть на рану жгучий скипидар. И уж совсем глупо с ожесточением дубасить палкой, предусмотрительно обмотав ее тряпкой, дабы не оставалось на теле коричневых синяков и бурых кровоподтеков. Избиение применялось лишь в воспитательных целях, чтобы показать арестованному, кто есть кто; вернее, что арестант – пустое место, ничтожество, отвратительное, никому не нужное существо. Признания получали нехитрыми способами, где не надо было сотрудникам следственных органов потеть, растрачивая силы на закоренелых уродов. Лишить воды, еды, лишить сна или посадить в разогретую, точно баня, камеру, и поглядеть, надолго ли умника хватит. И ведь точно знали, что ненадолго, что не железный, что попросит водички, что будет умолять сжалиться, сломается и напишет любые объяснения, а бить, выбивать зубы, ломать носы, челюсти, ребра, с хрустом выворачивать руки – дурное и нервное занятие.
Название «концентрационные лагеря» сменили на более пристойное – исправительно-трудовые, потому как главный принцип подобного учреждения – труд. Миллионы заключенных отбывали на ударных стройках – так зачем государству калеки? Заключенным вкалывать надо, выполнять поставленные партией и правительством задачи, с киркой, пилой и лопатой в руках, искупая собственную вину. Именно они, эти искушенные предатели, приближали трудом своим заветное светлое будущее. А если сердце не выдержит, дрогнет рука, толкая перегруженную драгоценной рудой тачку, или придавит ненароком торопливо подпиленное дерево, значит, такова судьба! Отпетых преступников, как ни старайся, не перевоспитаешь, не переделаешь – ни трудом, который, как известно, сделал из обезьяны человека, ни лютой прыткою. Частенько заканчивалось дело девятью граммами свинца. Правда, бывали случаи, когда миловали, заменяли расстрел заветными двадцатью пятью годами. А кто-то еще сомневается, что на свете существует божья милость!
Работы в государстве хватало – строительство железных дорог, судоходных каналов, урановые рудники, магаданское золото и необъятная Сибирь с бесконечными лесозаготовками – работай, исправляйся! Теперь, все это огромное лагерное хозяйство, равно как и порядок в стране курировал ни Маленков, ни Берия, а Никита Сергеевич Хрущев, он стал надзирающим над органами, а ведь никто не освободил его от управления Москвой, и порядок в Украине по-прежнему замыкался на Хрущеве.
Несколько лет назад вождь поставил задачу строить в столице небоскребы. Самым первым выстроили высотный дом Министерства иностранных дел на Смоленской площади. Иосиф Виссарионович собственноручно некоторые изменения в проект внес, шпиль на верхушке дорисовал: «А то какой-то обрубок получился!» Потом на всех многоэтажках архитекторы шпили сделали. Мидовский небоскреб, вернее его абсолютную копию, Сталин решил подарить полякам. Каждую неделю Никита Сергеевич держал перед вождем ответ: про стройку Московского университета докладывал, про окончание работ по гостиницам Украина и Ленинградская, про высотные жилые дома, все на плечах Хрущева лежало.
Никита Сергеевич завел правило спать после обеда. Как выручал этот лишний час сна! Если перед Сталиным клевать носом, он желчно выскажет неудовольствие. Но сегодня Хрущев не спал, а поехал в поликлинику. Еще с вечера разболелся зуб. Вчера он тупо ныл, а сегодня его дергало и крутило. После стоматолога правая сторона лица онемела.
С несчастным видом муж залег в постель, не заснул, но пролежал часа два. Зубная боль стихла, надо было готовиться к поездке на «ближнюю». Хрущев дотянулся до телефона и соединился с Маленковым.
– Егор, какие новости?
– От Иосифа Виссарионовича никто не звонил, и сам он не объявлялся, – ответил Георгий Максимович, – может, выходной себе дал. Я перезвоню, если что, – пообещал Маленков.
– А Лаврентий наш где?
– Где-то шляется, доволен, что тишина.
– Передавай ему мой привет!
Никита Сергеевич сел у окна и долго смотрел на лес. Через сиротливые верхушки дубов, лип и сосен, нещадно истерзанных зимой, проглядывала золотая маковка церкви, той самой, где последний русский император Николай II впервые увидел свою будущую жену, принцессу Гессен-Дармштадтскую Алекс. После революции великокняжеское имение национализировали и передали Московскому комитету партии, превратив в дом отдыха. Из трех отдельно стоящих строений – домиков врача, управляющего и садовника, сделали персональные дачи для высшего московского руководства.
– То цари здесь жили, а теперь мы обитаем – чудеса! – сказал Никита Сергеевич. Глаза слипались, в организме накопилась хроническая усталость. – Нин, ты меня не трогай, я в кресле подремлю!
Нина Петровна принесла подушку и накрыла мужа пледом.
Очнулся он внезапно. Приснилось что-то несуразное, но что – не вспомнить. Хлопая глазами, Никита Сергеевич уставился на часы.
– Ого, десять! Дрых без задних ног! Нина, Ниночка! – облокотившись на лестничные перила, прокричал муж: – Никто меня не искал?!
– Н-е-е-е-т! – отозвалась снизу жена.
Никита Сергеевич переоделся в костюм, наодеколонился и ближе к одиннадцати снова набрал Маленкова, узнать, когда выезжать в Кунцево.
– Движения нет, – словами сталинской охраны ответил Георгий Максимович.
На «ближней» всегда так отвечали. Двери сталинской дачи были оборудованы специальными датчиками, которые реагировали на открывание. Когда Иосиф Виссарионович передвигался по дому, на табло дежурки загорались соответствующие лампочки, и можно было безошибочно знать, в каком помещении находится Хозяин.