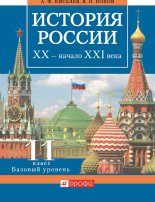Царство. 1951 – 1954 Струев Александр
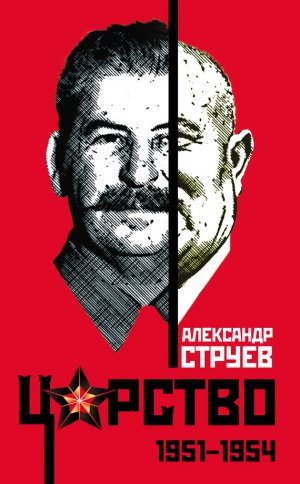
© Струев А.Л., 2015
© ООО «ТД Алгоритм», 2015
8 июля 1951 года, понедельник
Из кабинета заместителя председателя Совета министров они вышли в коридор, потом спустились на первый этаж и оказались на улице.
Обращаясь к Саркисову, Берия распорядился:
– Гони машины к пушке, туда идем!
– К Царь-пушке, понял! – козырнул начальник бериевской охраны.
Солнце стояло над головой, яростный свет резал глаза, глядеть вокруг было трудно. Жарко, нестерпимо жарко для лета, просто несносно! Воздух в Москве раскален, асфальт на дорогах почти плавился, испаряя мутные смолы, хорошо, кремлевские дороги сделаны из гранитной брусчатки, не коробились под солнцем, к тому же вдоль дорог росли могучие деревья, в тени которых жар ослабевал.
– Дышать нечем! – обтирая носовым платком пот, проговорил Маленков. Полные люди совсем плохо переносят жару. – Пошли! – Он махнул рукой, и троица двинулась дальше.
– Абакумову крышка! – проговорил Берия.
– Да. Ничего нельзя сделать, разгневал Хозяина. И Вознесенского с Кузнецовым на эшафот! – затряс головой Георгий Максимович. – Теперь тебе, Никита, за органами надзирать, он тебя назвал.
– Я органы не потяну, я с их работой плохо знаком, – буркнул Хрущев.
– Тут сложного нет, быстро освоишься, – глядя на товарища, изрек Лаврентий Павлович. – А вот вместо Абакумова кого – думать надо.
– Промахнуться нельзя, должность ключевая, – заметил Георгий Максимович и поправил на голове белый картуз. – Главное – товарища Сталина к правильной кандидатуре подготовить.
– Хрущев его заговорит! – усмехнулся Берия. – Он как начнет гундеть, кого хошь с ума сведет!
– Зачем говоришь! – обидно скривил губы Никита Сергеевич.
– Самого Сталина задуришь!
– Причем тут задуришь, я свое доказываю!
– Угомонитесь, ребята! – прикрикнул на спорщиков Маленков. – Хорошо, что Хрущева в кураторы, а то б двинул кого со стороны, и что? От Хозяина сейчас всякого можно ожидать.
– Стал непредсказуем! – бросил Берия.
– Никите Сталин верит.
– Никита лепит что ни попадя! – опять подтрунил Берия.
– Ну, чего ты, Лаврентий!
– Радуйся, надзиратель!
– Сегодня по телефону товарищ Сталин свое решение утвердил, – кивал Маленков. – Придется тебе к нему в Пицунду лететь.
– Попал! – сокрушался Никита Сергеевич и тер нос, хотелось чихнуть.
Георгий Максимович похлопал его по плечу:
– Теперь, Никита, твоя очередь потеть!
У Хрущева сделалось неприветливое лицо – он будет отвечать за работу всей карательной надстройки, значит, находиться под пристальным вниманием Сталина, а Сталин промахов не прощал. Виктор Семенович Абакумов на пост был поставлен сразу после Берии. Берия от счастья прыгал, когда его на оборонную промышленность определили, напился тогда в хлам и без конца повторял: «Не съели, не съели!» Правильно твердил, всех министров до него ждала пуля – и твердолобого Ягоду, и малоразборчивого Ежова. Ежов морально был к работе в органах не готов: выходец из рабочих, двигался по партийной линии, возглавлял Комиссию партийного контроля и Орготдел Центрального Комитета, став Секретарем ЦК, курировал общие вопросы. Сталина слушал неукоснительно. Когда на отдыхе в Германии, в санатории, переспал с медицинской сестрой и чуть не угодил в лапы вражеской разведки, товарищ Сталин отмазал его от Менжинского, которому передали откровенные фото и обличающие донесения на члена Центрального Комитета. На почве баб он сходил с ума, но после прискорбного случая с медсестрой-немкой, которая прямо в палате бросалась ему на шею и лезла в штаны, низкорослый рабочий проклял женский пол, и, поговаривали, стал заглядываться на мужиков.
Все это товарища Сталина устраивало, и Молотову фигура Ежова на пост народного комиссара внутренних дел показалась подходящей. Сталин и Молотов им и дирижировали. С приходом на Лубянку Ежова органы заработали с утроенной силой. Генеральный Комиссар Государственной Безопасности не выдерживал накала, не мог изо дня на день смотреть на истязания, при которых пытки инквизиции казались невинными прелюдиями, по ночам его преследовали нечеловеческие крики и хруст ломаемых костей. Понимая обреченность, подследственные не желали признаваться в злодеяниях, но поставленные старшими товарищами задачи надлежало выполнять, вытягивая признания. Для присутствия на таких карательных мероприятиях Ежов имел толстокожих замов. Они-то и толкали вперед неприхотливую машину правосудия, походившую скорее на мясорубку, а не на кодекс демократических основ. Благодаря неутомимой работе органов партия очищалась. Как ни старался главный каратель отвлекаться от тюремной мерзости в обществе миловидных мужчин – превратился в законченного алкоголика. Хотя, может, Иосиф Виссарионович его в алкоголика специально превратил: приглашая, всегда наливал водки и заставлял пить до дна. Николай Иванович быстро деградировал, Сталину докладывали, что Ежов с утра в стельку. Однако работа делалась, на ключевых постах соперников не осталось, товарищ Молотов с Иосифом Виссарионовичем вальяжно прогуливались по ковровым дорожкам, вычеркивая из списка нежелательных активистов.
Труднее всего пришлось с маршалами. Военные – это как накипь в кастрюле, бесконечно цепляются один за другого: безукоризненное военное братство – кто с кем учился, кто с кем служил; удивительная гадость, которую надо драть железным скребком! Но и их выскребли, как говорится, произвели санацию, война доделала начатое НКВД дело, военных подравняла, подправила; военачальники, хоть и считались героями, стали тихими, послушными, а недобитые вольнодумцы, типа генерала Власова, все равно угодили в руки госбезопасности. Власть – дело мудрое, хитрое, коварное, кровавое. Просто так власть не дается! Но власть стеречь надо, ох, стеречь! В суровой битве есть только один победитель, вторых мест при первом не бывает, так что органы не бездействуют.
Берия – тот находил к Сталину подходы, хорошо получалось у него лавировать, вот и не попал под раздачу, но и он до смерти трясся, ожидая над головой занесенный топор. Маленков был безобидным и настолько преданным первому лицу, что внимания на нем не заостряли. К тому же он всю бумажную работу тянул, куда без такого? И Никита вершителя судеб устраивал: с виду головотяп, но мысли в голове здравые, с определенной тупизной, но и с усердием. Выстраивать вертикаль не просто, опора по-любому нужна, а вот как с этой опорой дальше – вопрос…
– Значит, кончился Виктор Семенович? – вздохнул Маленков.
– Спекся Абакумов! – кивнул Берия.
– Что ж мне, соглашаться? – пробормотал, польщенный доверием, но не на шутку обеспокоенный новым поприщем Никита Сергеевич.
– А тебя кто спрашивает? Иди, трудись! – выпалил Георгий Максимович.
– Я, Егор, как в трясину ступаю!
– Хозяин стар, как-нибудь продержишься, если что, мы подстрахуем, – тихо добавил Берия.
– А ты нас страхуй! – Еще тише шепнул Георгий Максимович.
– Слышали, Сталин хочет состав Президиума расширить? Это значит – шапки полетят! – оценил ситуацию Лаврентий Павлович.
– Наши шапки! – вздохнул Маленков.
– Я пить начал, – признался Берия. – Раньше девок в постель волок, а сейчас залезу на бабу, а перед лицом смерть стоит!
– А Абакумов знает, что он уже… того? – поинтересовался Никита Сергеевич.
– На завтра его позвал, от работы отстраню, а как в коридор выйдет, там арестуют, – ответил Маленков. – И абакумовских замов в тюрьму.
– Вот уж, б…дь! – вздохнул Берия. – А расширение состава Президиума дело совершенно гадкое, понаберет новых людей, а мы – на хер!
– Не паникуй! – цыкнул Маленков.
– Катимся мы, ребята, черт знает куда! – в сердцах проговорил Хрущев. – А Булганин, почему не пришел?
– Звонка ждет, Хозяин обещал позвонить, по Василию, по сыну будет спрашивать. Опять Васька отцу наябедничал, что самолеты херово летают.
– Задаст Николаю! – хмыкнул Берия.
– Он его ценит. Недаром на Колю Министерство Вооруженных Сил повесил. Вот она, Царь-пушка, пришли!
– Когда мне в Пицунду ехать?
– Завтра лети.
– А если спросит, кого министром госбезопасности?
– Пусть сначала сам скажет, – проговорил Маленков. – По любому советоваться затеет.
– А если не скажет?
– Раньше времени высовываться нельзя! – тряс головой Маленков.
– Может, Рясного предложить? Он в Украине министром был, – предложил Хрущев.
– Рясной – жидковат! А вот Игнатьева Дениса обозначить можно, он от абакумовской шайки-лейки далек. Сталин к нему неплохо относится, и я Игнатьевым доволен, долгое время подо мной был, – высказался Георгий Максимович.
– Пустой человек и мямля! – отозвался о кандидатуре Игнатьева Берия.
– Пусть пустой, зато без амбиций и нам близок.
– Ну, смотри! – отпустил тему Лаврентий Павлович.
– Тогда я Рясного на Главное управление охраны рекомендую, а на кадры – Харьковского секретаря Епишева, а Миронова Кировоградского и Савченко к Игнатьеву замами.
– У него, Егор, уже весь расклад готов! – встрепенулся Берия.
– Чего готов, я с вами советуюсь! Эти парни мне как облупленные понятны, а если чужие придут, как будем действовать?
– Делай, делай! – поддержал Маленков.
И Берия не стал возражать:
– Главное, чтобы ты, Никита, устоял!
21 августа 1952 года, четверг
Молодость, ах, молодость! Молодость опьяняет, влечет на подвиги, молодость покоряет миры, окрыляет сердца! Рада танцевала весь вечер, летала по залу, захлебывалась радостью, и сейчас, скинув туфли, завалившись на кровать, лежала, раскинув руки, и понимала, что совершенно не устала. Она бы протанцевала еще полночи или всю ночь, ей хотелось танцевать еще и еще, хотелось во все глаза смотреть на обожаемого кавалера, и не только смотреть, хотелось держать за руки, заглядывать в глаза, вздрагивая всем сердцем, улыбаться, хотелось любить!
В субботу он позвал гулять в парк, каждые выходные там устраивались танцы. Алексей пригласил избранницу на танец раз, другой, третий, а потом они и вовсе перестали уходить с площадки, закончив танец, стояли, прижавшись друг к другу, и ждали, пока заиграет музыка. Алеша крепко прижимал ее и тоже радовался!
Рада посмотрелась в зеркало – румяная, разгоряченная, но совершенно не уставшая. Алексей обещал звонить завтра, значит надо поскорее заснуть, приблизить завтрашний день!
Скорей бы завтра!
20 февраля 1953 года, пятница
Илюше шел пятый годик, хороший рос мальчик, не капризный, любящий, только вот играть ему было не с кем, сверстников рядом не было, лучшими друзьями оставались взрослые.
При помощи нянечки Илюша выкрасил в красный цвет лист бумаги и нарисовал на нем сердечки. Неровные вышли сердечки у ребенка, но няня нестройные линии подправила, и, конечно, вырезать помогла, чтобы Илюша ножницами не укололся, да и не умел он в таком малом возрасте красиво вырезать. В результате получилось пять симпатичных сердец: одно – побольше, другое – поменьше, но все яркие, симпатичные. Илья сосредоточенно пересмотрел их.
– Думаешь, Ириша из школы пришла? – обратился он к няне.
– Еще учится.
Илья направился в комнату сестры.
– Вот так! – расположив сердечко по центру ее подушки, сказал мальчик, затем поспешил в комнату брата.
Сергей учился в институте на первом курсе, его тоже дома не оказалось. И у Сережи на кровати появилось сердечко.
Комната старшей сестры Рады стала следующей. Радочка заканчивала университет и лишь на выходных появлялась у родителей.
Обойдя этаж, мальчик отправился на поиски мамы: спустился вниз и первым делом пришел на кухню. Завидев малыша, кухарки заулыбались.
– Попьешь киселя? – предложила румяная Тоня.
Илюша отрицательно замотал головой – ему надо было отыскать мамочку. Он прошел столовую, пробежал вытянутую гостиную, громко затопал по лестнице, поднимаясь в родительскую спальню, и тут навстречу появилась Нина Петровна.
– Мое золотце! – мама подхватила сына на руки.
– Я тебя ищу, – сообщил Илья.
– Вот и нашел!
– Нашел. Сейчас, – он покопался в кармане, достал алое сердечко и протянул ей.
– Сердечко?
– Да. Тебе.
– Ты сам нарисовал?
– Сам!
– Спасибо, милый! – мама ласково поцеловала сына.
Он зажмурился, не любил, когда его целуют.
– Знаешь, что означает сердечко? – спросил малыш.
– Что?
– Любовь! Я всем по сердечку сделал. Знаешь, почему?
– Почему?
– Потому что мы любим друг друга, потому что мы – семья!
Нина Петровна еще крепче прижала к груди любимое чадо.
– А папа где?
– Папуля еще спит, его будить не надо. Ты поиграй пока, а после к нему сходим и сердечко отнесем.
– Ладно! – согласился Илья и неохотно поплелся в детскую.
28 февраля 1953 года, суббота
– Что топчетесь, входите, входите! – Генеральный Секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза, Председатель Совета министров, Верховный главнокомандующий, генералиссимус Сталин стоял в дверях и доброжелательно оглядывал гостей. Он был невысок, с крупными, резкими чертами восточного лица. – Покушаем, а то я проголодался!
На ужин приехали Маленков, Берия, Булганин и Хрущев. От центра Москвы до сталинской дачи в Волынском, которая располагалась перед станцией Кунцево, ходу было минут двадцать, поэтому и называлась дача «ближняя». Узенькая дорожка уводила автомобиль в еловый лесок. На опушке движение преграждали высокие ворота, показав пропуск и предъявив машину для осмотра, можно было двигаться дальше. Чтобы добраться до основного дома, приходилось миновать три высоченных забора, увитых колючей проволокой. Между первым и вторым зиял глубокий ров, заполненный водой. Повсюду висели провода под током, вышагивали бдительные патрули, гавкали свирепые собаки.
Дача правителя охранялась, точно заветная драгоценность. Подъездные дороги сюда можно было за считанные минуты забаррикадировать бетонными чушками, которые ловко выставлялись на проезжую часть опытным крановщиком. Замаскированные пушки и тяжелые танки, находившиеся в постоянной боевой готовности, завершали неприступную оборону. А за забором – красота! – лесок, кустики, полянки, подмосковная божья благодать.
Последние годы Сталин безвылазно жил за городом, в Кремль наведывался редко – кому положено, тот и сам на «ближнюю» подскочит. Жизнь текла своим чередом. Если Иосиф Виссарионович не температурил или не мучился слабостью желудка, то каждый вечер принимал гостей. С середины 1951 года приглашенными оставались Маленков, Берия, Булганин и Хрущев. Для разнообразия генералиссимус делал исключения: то украинского секретаря пригласит, то умудренного знаниями президента академии наук вызовет, то какого-либо министра вниманием удостоит, а иногда одаренного кинорежиссера примет – обсудит будущий фильм. И всех обязательно встретит с радушием, из собственных рук угостит, допьяна напоит и вопросы всякие задаст: и наивные, точно он, Сталин, с луны свалился, и каверзные, на которые и ответить что, не знаешь. Посмеивается Иосиф Виссарионович, подливает в бокалы спиртное, развязываются язычки за столом. Однажды Засядько, который за угольную промышленность отвечает, так накачал, что тот в беспамятстве навзничь упал и головой стул сломал – думали, убился. А Сталин тычет в него пальцем и приговаривает: «А говорил, Засядько меру знает! Ничего он не знает, уносите отсюда!» – Еле угольщика откачали.
В этот вечер Сталин был в хорошем расположении духа – Маленкова хлопнул по плечу, Булганину крепко пожал руку, Хрущева миролюбиво ткнул в живот и Берии Лаврентию Павловичу широко улыбнулся. За столом расселись как обычно: Маленков рядом с вождем народов, напротив – Берия в окружении Хрущева и Булганина. В столовую уже подавали закуски. Чахохбили из молоденьких цыплят да зеленое лобио в высокой глиняной миске – вот, пожалуй, и все из грузинской кухни. Остальные блюда были традиционными: несоленая селедочка, которую подсаливал каждый по вкусу, ее очень признавал Хозяин; холодный поросенок, нарезанный порционными ломтиками; тушенные в чугунке гусиные потроха, соленья, судачок под маринадом да холодец, который предлагался с ядреной волынской горчицей, – хватало чем закусить.
Чтобы не закапать одежду, Берия и Маленков заправили за воротники рубашек салфетки. Булганин разложил свою на коленях, он принимал пищу, интеллигентно орудуя ножом и вилкой.
– Проголодались? – во весь рот улыбался Сталин, показывая редкие мелкие зубы.
– Проголодались! – поддакнул Маленков, угодливо склоняясь над столом.
Хрущев потянулся за «Боржоми», в горле пересохло, жадно выпил и стал по примеру товарищей заправлять за ворот салфетку. Он постоянно улыбался, даже когда его ругали, на оттопыренных толстых губах не исчезала обескураживающая улыбка.
– Ты, смотрю, тоже голодный, – обратился к нему вождь и учитель.
– Как зверь! – заявил Никита Сергеевич, в обед он предусмотрительно отказался от второго, чтобы в гостях порадовать Хозяина, подналечь на угощения.
– По-ку-ша-ем! Надо было ехать скорее, а то заждался, – с укором проговорил Сталин. – А вы руки мыли?
– Забыли! – растерянно проскулил Булганин.
– Марш руки мыть! Что за несознательный народ!
Все послушно побежали мыть руки. Необъятный Маленков спешил в уборную, приговаривая:
– Да, гигиена, конечно, как же это мы…
– Неряхи! – хмурился Сталин. – Мойте с мылом!
Умывальник в уборной был один, и возле него образовалась очередь.
Каждодневные ночные застолья были очень похожи, менялись лишь времена года за окном, а в доме все оставалось по-прежнему – та же до мелочей знакомая аскетическая обстановка: добротная громоздкая мебель, непритязательные люстры, плотные, всегда наглухо задернутые портьеры, тот же, то ли затхлый, то ли кисловатый, пропитанный ветхостью дух величия; лицемерно предупредительные и дерзкие глаза охраны, приглушенные разговоры вполголоса, чтобы, не дай Бог, не обеспокоить его, Хозяина. Не менялся и сам вождь – походка, голос, жесты, знакомый серый френч, до блеска начищенные черные полуботинки.
– Эй! Где вы застряли?! – донесся в открытую дверь уборной недовольный голос.
В последний год Сталин стал особенно подозрительным, мстительным и беспокойным.
Берия первым устремился в столовую. Снова расселись по местам. Маленков, этакий неповоротливый, в три обхвата, педант, со съехавшим на лоб чубчиком, стал опять заправлять за ворот салфетку. Приземистый лысый Хрущев, также не отличавшийся худобой, по примеру Булганина в этот раз оставил салфетку на коленях.
– Э-э-э, про лекарство забыл, – протянул вождь и, раздраженно мотнув головой, поднялся из-за стола. – Вы берите, берите, налегайте! – позволил он.
Подойдя к буфету, Иосиф Виссарионович открыл дверку, достал с полки мензурку и флакончик рыжего стекла. Во флакончике был йод. Плеснув в мензурку воды, Сталин поднял пузырек на уровень глаз и, развернувшись к свету, стал сосредоточенно капать лекарство. Он стоял спиной к гостям, запрокинув седую голову так, что сидящим за столом было видно большую, во весь затылок, сталинскую проплешину. Ему шел семьдесят третий год. Старость беспощадно сжимала отца народов своими неумолимыми тисками.
– Пят, шест, сем, восем! – сосчитал он.
Каждый день вождь выпивал ровно восемь капель йода. Это было его универсальное лечение. После ареста врачей-убийц, опасаясь приступов неизлечимых болезней, Иосиф Виссарионович стал производить такую процедуру регулярно.
– Не хочу докторов звать, отравят, как Жданова отравили! Сам полечусь, – объяснял он. – Йод – отличное средство. Как его пить стал, почувствовал себя другим человеком, не хожу, а летаю!
Причмокнув, председатель правительства осушил мензурку.
– Теперь и сока можно. Что нам сегодня подсунули? А ну, прокурор, проверь!
С некоторых пор вождь стал величать Берию «прокурором». Отлучив от себя Молотова, Микояна, Кагановича и Ворошилова, он сделал его бессменным тамадой. Сталин постоянно пил грузинские вина, которые ласково именовал «сок». Берия послушно подошел к батарее бутылок, выставленной на краю стола.
– «Хванчкара», «Киндзмараули», «Оджалеши», «Твиши», «Манавицвани», – перечислял он. – С чего начать?
– Открывай все, что жалеть!
Лаврентий Павлович ловко откупорил бутылки и благолепно развернулся к Хозяину.
– Теперь пробуй! – велел тот.
Берия наливал в стакан по чуть-чуть и пробовал.
– Как?
– «Напареули» выразительно, – указывая на этикетку, похвалил тамада.
– Ты не ленись, лучше вкус познай! – Иосиф Виссарионович подошел к тамаде и налил добрую порцию: – А то пробовал, как воробушек, ничего не разобрал! – притянув Берию за шею, закончил он.
Лаврентий Павлович выпил, и не просто выпил, а как положено, сначала подержал напиток во рту, поболтал между небом и языком, а уж затем проглотил.
– «Напареули» лучшее! – подтвердил он стоящему над душой Сталину. – Если не веришь, сам пей!
Берии единственному дозволялось называть Хозяина на «ты».
– А это? – плеснув в бокал «Манавицвани» и подсовывая Лаврентию под нос, не унимался генералиссимус.
Пока напитки, выставленные на столе, не перепробуют, вождь к ним не прикасался.
– Я его уже пил, – отнекивался Берия.
– Не кривляйся!
Берия снова выпил.
– И это нравится! – оценил он белое, с умеренной кислинкой, «Манавицвани».
– Раз нравится, значит, пить будем! – отозвался владыка.
Он внимательно всматривался в лицо дегустатора – не пойдут ли вдруг щеки бордовыми едкими пятнами? Не перекосится ли корявой судорогой рот? Не перехватит ли дыхание трагический приступ удушья? Очень беспокоился отец народов, что в последний момент чья-то недобрая рука подсыпала в бутылку смертоносный яд.
Берия преданно, как собака, смотрел повелителю в глаза.
«Вроде жив, под стол не падает!» – успокоился вождь.
– Что стоишь? Сам напился, а другим не дал? А ну, разливай! – Говорил Сталин медленно, допуская долгие паузы, которые каждое его слово делали обстоятельным, весомым.
Булганин выпил, и Хрущев, проглотив солидную порцию, раскраснелся, и задумчивый Секретарь Центрального Комитета Маленков дышит. Яд ни на кого не действовал, получалось, что не было в вине яда.
– Как? – глядя на седовласого красавца Булганина, спросил Сталин, все еще не дотрагиваясь до собственного фужера.
– Обалденное! – нахваливал Николай Александрович. Он залпом проглотил терпкое, в меру прохладное «Оджалеши».
– Вот Булганин силач, пьет и не падает! – глядя на своего первого заместителя, усмехнулся Хозяин. – Недаром он военный министр! – Конопатое, изъеденное оспой лицо изобразило полнейшее восхищение.
Наконец председатель правительства тоже выпил и сразу целый бокал. Глаза Иосифа Виссарионовича забегали по столу:
– Тебе, Никита, чего положить? Ты, вижу, на потроха смотришь? – Правитель стал выкладывать на тарелку дымящиеся гусиные потроха, томленные в русской печи с золотистым луком, морковкой и лавровым листом. – Ешь, Никита, ешь, а то дома тебя не кормят! – в шутку приговаривал генералиссимус.
Никита Сергеевич с удивительным напором принялся за замечательное лакомство. Тут и печеночка попадалась, слегка сладковатая на вкус, и желудочки, и сердечки. Что ни говори, а вкуснятина! Хрущев за обе щеки уплетал восхитительные потроха, чуть ли не вылизывая тарелку. У Сталина потекли слюнки, но покуда доверенный человек потрохами не облопается, к блюду не прикасался.
Из присутствующих Сталин был самый голодный. Раньше полвторого дня он с постели не поднимался, около трех подавали завтрак, в семь вечера мог легонько перехватить, но чаще обходился чаем с ватрушкой, а как раз в полночь наступало самое время обедать или ужинать, – как хочешь, так и назови.
– Ну, потрошки! Ну, потрошочки! – от удовольствия жмурился вождь, мурлыча под нос: «Жили у бабуси два веселых гуся!» – наконец-то он добрался до еды.
В этот момент Валечка принесла эмалированную кастрюльку и поставила перед Лаврентием Павловичем.
– Ваша травка! – сказала женщина и отняла крышку.
Лишь ей одной позволяли здесь обслуживать. Она уже двадцать пять лет жила при Сталине. Простая русская женщина, малограмотная, но золотое, бесхитростное сердце.
– Опять Лаврентий траву жует! – усмехнулся Булганин, который все наливал себе хмельное «Оджалеши».
Берия всегда ел исключительно свое: не обращая ни на кого внимания, придвигал кастрюльку ближе и принимался за индивидуальное блюдо. Он объяснял, что желудок у него больной и приходится соблюдать строжайшую дисциплину. Лечебное питание готовили дома, и каждый вечер опечатанный судок привозил в Волынское сотрудник его личной охраны. Лаврентий брал пропаренную травку и безучастно клал в рот. Иосифа Виссарионовича страшно раздражало персональное питание Берии.
«Потравит нас этот хитрый мингрел!» – думал Сталин. С некоторых пор он не доверял Лаврентию. Может, поэтому Берия лишился всемогущего министерства и сосредоточился на главных военных проектах. Карательное министерство Сталин поделил; из одного ведомства получилось два: Министерство государственной безопасности во главе с молодым, во весь опор рвущимся на Олимп военным разведчиком Абакумовым и Министерство внутренних дел, где принял командование гулаговец Круглов. Круглов был старательный, немного самонадеянный, однако место свое знал и Хозяину в рот смотрел. И Абакумов перед Сталиным стелился, но мелкобуржуазные нотки лезли наружу. Расселив восьмиквартирный особняк, сделав грандиозный ремонт, Виктор Семенович переехал туда на постоянное жительство. Жена его распоряжалась пятью машинами, обзавелась многочисленной прислугой. Распустились при нем и приближенные генералы, появилась в поступках эмгэбэшников княжеская важность, вседозволенность, а они ведь – слуги народа, подчиненные рабочего класса!
Однажды Сталин прознал, что перед тем, как ехать на «ближнюю», Абакумов заезжает в Кремль и получает инструкции от Берии: что говорить, как говорить, на чем сосредоточить внимание, о чем – умолчать. И после доклада в Волынском хваленый министр прямиком мчит к Лаврентию. А еще Сталину донесли, что абакумовские замы, прежде чем представить донесения пред высочайшие очи, предъявляют их для прочтения, и многое потом переписывается. Утверждали, что именно по этой причине Сталин в гневе заменил Абакумова, бросив генерала на тюремные нары. На Абакумове владыка не успокоился: отстранил от работы личного секретаря Поскребышева, арестовал Власика, бессменного начальника собственной охраны, и задумал поменять персонал на «ближней». Но Берия вывернулся, доказал, что Абакумов – искусный интриган, специально так устроил: невзирая на запрет, припирался на доклад, целенаправленно стремился всех запутать, поссорить. Словом, убедил в своей непричастности к козням министра, а, наоборот, в том, что он только и старается для дела. Работал Берия, не филоня, его стараниями появилась в Советском Союзе атомная бомба, полетела ракета. Он часто наведывался в Тбилиси, навещая престарелую сталинскую мать, а после, со слезами умиления, рассказывал про мамулю вождю. Любую дыру мог заткнуть этот принципиальный руководитель, но уж слишком много в его руках сосредоточилось власти! Хоть дядя Лаврик и считался своим в доску, но и в здоровом теле заводятся глисты – всегда надо быть настороже!
В Министерстве государственной безопасности шло реформирование, шерстили руководящий состав. Хрущев привел в органы свежих людей, но методы организации не изменились – товарищ Сталин не поменял правил. Нет-нет, он возвращался к раздумьям о Лаврентии: то бесконечно его проверял, то превозносил. С большой помпой Берии первому присвоили звание «Почетный гражданин Советского Союза», а на следующий день еще не оправившего от празднования кавалера распекал недовольный Сталин:
«Почему у меня в обслуге одни грузины?!»
«Это преданные вам люди, они вас очень любят!»
«А русские что – не любят?!»
По дому и в хозслужбах у Сталина работали исключительно грузины, только с русскими именами. Тамаз был Толя, Резо – Роман, Гиви – Гриша и тому подобное. Каждого из них примечали, отмечали наградами, званиями. Дошло до того, что шашлычник был произведен в генералы. Другой генерал, духанщик, обеспечивал Сталина продуктами.
«Друг Иосифа, они вместе росли», – разъяснил Хрущеву Маленков.
Этот долговязый, с выпученными глазами снабженец часто пировал за столом вместе с членами Президиума Центрального Комитета и слышал все, о чем говорилось. Он никого не стеснялся – ни Маленкова, ни Булганина, ни Хрущева. Чокался, как равный, кивал головой, пел. Сталин любил послушать песни, да и сам был не прочь подтянуть знакомый мотив. Любимый шашлычник в конце войны вышагивал у мангала в погонах генерал-лейтенанта, да и наград у него на груди заметно прибавилось. А где он воевал, нанизывал на шампуры мясо и помидоры?! Стоит в мундире с лампасами, как елка, увешанный орденами, орлиноносый Вано-Ванечка и люляшки жарит.
Когда Сталин усомнился в абсолютной преданности Лаврентия, тогда-то и заменили обслугу на даче, и не только людей грузинской национальности, но и отдаленно напоминающих нацменов. Всех сомнительных сменили чистокровные курносые русаки. Не коснулись перемены лишь сердобольной Валечки, которую чья-то торопливая рука по ошибке занесла в список увольняемых, да вовремя спохватились.
«Так-то лучше! – бурчал Сталин, когда уволили грузин. – А то развели панибратство!»
Правда, опасность диверсий при этом меньше не стала. Ведь тот же Берия имел непосредственное отношение к подбору кадров, только действовал он теперь через Маленкова и через нового министра госбезопасности Игнатьева, который заменил Абакумова и так же, как все вокруг, заискивал перед непотопляемым лубянским маршалом.
Многолетняя усталость, преклонный возраст, пошатнувшееся здоровье – поговаривали, что Сталин перенес два тяжелых инфаркта, тормозили ход его размышлений. Спецпочта, те самые кричащие красные конверты, которые при получении следовало читать незамедлительно, грудами валялись на письменном столе совершенно нетронутые. Иногда для отвода глаз их подбирали, раскрывали и возвращали адресату, вроде содержимое просмотрено. Старческая прострация делала вождя не таким быстрым, не таким зорким, но злопамятным и немилосердным он оставался всегда.
– Ты бы не траву жрал, как кролик, а судачка попробовал, – обратился правитель к Берии и тыкнул вилкой в тарелку с судаком под маринадом. – Судак – это для любого желудка праздник!
– Рыбу врачи запретили.
– Врачи! Мало мы сажаем этих проклятых врачей! Сколько честных людей в могилу свели. Не боишься, что и тебя залечат?
В начале 1953 года разразилось громкое дело врачей-убийц. Доктор кремлевской больницы Лидия Тимощук написала в Центральный Комитет письмо, где сообщила, что ее коллеги, врачи правительственной больницы, специально неправильно лечат пациентов, точнее, залечивают до смерти. В своем письме она приводила убедительные доводы. По ее словам, не своей смертью умерли секретари Центрального Комитета Жданов и Щербаков, нарком здравоохранения Семашко. Сталин отреагировал резко, и в «кремлевке» пошли аресты. Генералиссимуса не смутило, что в числе виновных оказались доктора, много лет наблюдавшие его самого. На врачей началась повсеместная травля, газеты пестрели обличающими статьями, в поликлиниках люди грозили им кулаками, даже детвора во дворе выкрикивала нехорошие стишки в адрес людей в белых халатах, поголовно играя во врачей-вредителей, которых прямо тут, у песочницы, задерживала бдительная милиция. Только никто из детей не желал оказаться в команде злых докторов. Из-за этого разгорались горячие споры, часто даже взрослые вмешивались: «Никакой мой Ванечка не врач, он милиционером будет, когда вырастет!»
От народа досталось и медсестрам, и нянечкам, и фармацевтам. Студенты физкультурного факультета побили водителя машины скорой помощи, который на грубость ответил грубостью. Всех медработников мели под одну гребенку. Еще бы – врачи-убийцы! Во многих районах и городах вскрывались случаи медицинского вредительства. От таких вопиющих преступлений страна возмутилась. Поликлиники опустели, доктора увольнялись с работы. «Бегут! – визжали газеты. – Бей их!». Центральный Комитет забрасывали негодующими письмами трудящихся, которые требовали для врагов незамедлительной казни.
– Негодяев арестовали, поэтому лечиться стало не опасно, – спокойно отозвался Берия.
– А про письмо маршала Конева забыл? Его врач до последнего на свободе разгуливал! – оскалился Сталин.
На прошлой неделе Иосиф Виссарионович вслух зачитал коневское письмо. В письме Конев полностью поддерживал аресты среди кремлевских врачей. Врачи, по его мнению, на сто процентов были связаны с американской разведкой. Маршал утверждал, что его лечащий доктор специально назначал противопоказанные для здоровья медикаменты, и что вот-вот он бы, Конев, отправился на тот свет! Военачальник предположил, что не только кремлевские врачи состоят во вражеском заговоре, а среди врачей, работающих в Советском Союзе, существует разветвленная диверсионная сеть. «Молодец Конев, самую суть углядел!» – потрясал письмом Сталин.
– Мерзавцы твои врачи, твари! А находятся такие, кто пытается их защищать! Если уж священники, вроде бы божьи люди, народ обманывают, у нищих бабок последние крохи забирают, то чем доктора лучше? Ничем не лучше, даже хуже! Три шкуры с них содрать, три шкуры!
Берия перестал жевать свою траву.
– Я до такой низости додуматься не мог, как это врачи – враги? – заговорил Хрущев. – В голове не укладывалось, что врач, который приходит тебя лечить – убийца! Я был потрясен, когда узнал.
– Потрясен! – скривился вождь. – Хорошо, что их раскусили. Теперь они сознались, что заговорщики и убийцы. Конев, тот сразу понял, куда его лекари тащат – на тот свет! Говорит им: «Живот болит», а они – «Срочно на операцию!» – Это зарезать, что ли?! – поддел указательным пальцем генералиссимус. – Ему никакая операция была ни нужна, до сих пор как козлик прыгает. Э-э-э! – отмахнулся Иосиф Виссарионович.
Никто за столом уже не ел, все слушали Хозяина.
– Вот ты, Лаврентий, почему к врачам не бежишь, а свою травку, как корова, шамкаешь? Страх потому что, потому что в могилу не хочется! А ведь кто-то их надоумил?
– С Запада щупальца тянутся, – предположил Маленков.
– Слишком быстро мы успокаиваемся, слишком быстро! – тряс головой Сталин. – Наивные люди! Даже англичане с американцами друг друга боятся, даже они друг другу шпионов и убийц подсылают, так почему к нам засылать не будут? Будут и еще как! Ну, ничего, мы всех на чистую воду выведем, всех паскуд передушим, не только врачей, всех без исключения!
Вождь поднялся и стал расхаживать вдоль стола.