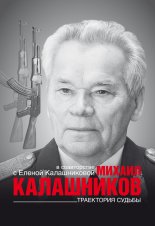Падение Хаджибея. Утро Одессы (сборник) Трусов Юрий

В сумерках берег у подножия килийской крепости озарили яркие костры и темно-синие волны Дуная зацвели красными пятнами отраженного пламени. Это казаки флотилии решили сварить себе на ужин юшку из только что пойманной рыбы. А где костры казацкие, там и песни запорожские. Услышал их Кондрат в крепости и пошел взволнованный, на берег. Расстегнул свою офицерскую гусарскую венгерку и, хмельной от радости, что снова среди родной вольницы, долго бродил среди костров, встречая знакомых. Здоровался с казаками, жал им руки обнимал друзей по оружию. Многие черноморцы дивились такому необычному обращению офицера с нижними чинами и улыбаясь, качали головами, поговаривая между собой что их благородие не иначе, как хватил где-то лишнюю чарку горилки.
У одного костра при неровном свете пламени вдруг возникло перед Хурделицей худое длинное усатое лицо Семена Чухрая.
Кондрат от удивления протер глаза, словно желая убедиться, что ему не померещилось. Никак не ожидал он встретить старого запорожца сейчас вот здесь, в Килии... Через миг, крепко обнимая его, не мог удержаться от упрека.
— Чего ты, старый, сюда, в это пекло полез? Сидел бы лучше возле своей Одарки в Хаджибее. Тихо там...
Слова эти обидели Семена. Он грубовато отстранил Хурделицу.
— Пошто ты меня так? Казаку, когда война, возле бабиной спидныци сидеть не можно. Сам знаешь... Разве я больше не казак?! — промолвил он и отвернулся
— Семен, да ты не обижайся! Я не со зла. Повоевал ты за свой век за десятерых таких, как я. Вот почему так сказал... — стал его успокаивать Хурделица.
Сердиться Чухрай долго не мог. Он был вспыльчив, да отходчив и, вздохнув, простил.
— Только ты другой раз такого мне не говори... — и пригласил Кондрата у костра посидеть, юшки отведать. — Сидай (садись (укр.)), — добавил шепотом: — Многое тебе сказать надо.
Семен незаметно подмигнул казакам, что сидели у костра, и те сразу удалились, чтобы не мешать беседе их старшого с господином офицером.
— Так вот. Как уехал ты, заскучал я в Хаджибее, — начал Семен. — Дуже заскучал. И стал на берег морской ходить, разглядывать гребные суда да дубки, которые казаки смолили, готовясь к походу. Горько мне стало. Одна думка сердце грызет. Браты мои на ворога собираются, а я тут в хате ховаюсь... Увидал я в один час на берегу войскового судью нашего, а ныне полковника Головатого, которого я по Сечи еще знавал, да к нему. Попросил, как никогда еще никого не просил: возьми меня, пане полковник, с собой в поход. Я, батько-атаман, сгожусь еще тебе! Посмотрел на меня Головатый, посопел люлькой и велел писарю, что был при нем, занести меня в бумагу на должность казака флотилии. Вот так я сюда и попал. Да, видно, вовремя.
— Верно... В самый раз, — согласился Хурделица.
Чухрай как-то грустно усмехнулся в усы. Кондрата удивила эта усмешка.
— Ты что?
— Не понял ты меня... А раз так — поясню. Слухаи! Неспокойно нынче в Хаджибее. Народу много туда понаехало и еще едут. Война с турком не кончилась, а люди все едут... Словно вода с горы, так разный люд в Хаджибей течет. И беглые, что от доли холопьей спасаются, и торговцы, и паны. Важные паны едут, чтобы себе крепаков добыть. Потому что великие земли, которые мы от турок и татар освободили, пахать надобно. Вот и ищут они для ярма людей.
— А нам с тобой пошто об этом думать? — отмахнулся Кондрат. Слова Семена его расстроили, а ему сейчас нельзя поддаваться грустным думам. — Ты лучше мне о Маринке поведай.
— О ней-то я речь и веду. Не торопи меня... Ну, так вот... Отпросился я у есаула жинку свою проведать. Иду из гавани и вижу у дома, где комендант живет, стоит карета панская в гербах золоченых. Глянул я на герб — сердце заныло. Отошел в сторону, спрятался за угол и смотрю: выходит из комендантского дома сам пан. Сразу я его узнал. Знакомый он нам, Кондратка, дуже знакомый!
— Тышевский?! — вырвалось у Хурделицы.
— Он. Тот, что в оковах тебя держал.
— Так что же ты с ним сделал? Говори скорее! Не томи! — закричал Кондрат.
— Что я мог сделать? Ничего не сделал. Сел пан в свою карету с гербами и поехал, окруженный конными гайдуками. А я бегом домой, к Одарке моей. Понял я, что не с добра пан к коменданту ездил. Сразу собрал весь свой скарб да на возок! И айда с жинкой моей к тебе, то есть к Маринке твоей! А в своей хате окна и двери досками заколотил.
— Правильно сделал, Семен!
— Ну, и сказал я Маринке, чтобы Одарку она мою всем чужим, кто придет, за свою тетку выдавала. А Луку и Николу Аспориди попросил, если надобно будет, под защиту наших жинок взять. Обещали они. В тот же день, сказывали мне, пан с гайдуками к моей хате наведывался. Постоял у забитой двери, покрутил носом и плюнул с досады... «Улетела птичка», — сказал, а затем к тебе поехал. Видно, комендант ему наши адреса дал.
— Ко мне?! — побелел, как снег, Кондрат.— А Маринка? Что с Маринкой?
— Да ты не бойся. Ничего пан твоей Маринке не сделал. Руки у него коротки. Слухай! Приехал с гайдуками к твоей хате. Вышел из кареты и прямо в горницу вошел. Встретила его Маринка. У нее тогда Лука с Яникой в гостях были, потом они мне про все и рассказали. Обвел их пан грозным взглядом и говорит: «Где мой беглый холоп Кондратка?» Маринка твоя даже бровью не повела. Сняла висевший на стене пистоль, взвела курок и навела его на пана. «Кто ты таков, чтобы без спросу в дом господина офицера Кондратия Ивановича ломиться?! Убирайся пока жив». Позеленел от злости пан, но пересилил свои лютый прав и сказал ласково: «Убери, красавица, не офицера Кондратия разыскиваю я, а уж какой год Кондратку-холопа, что из оков моих вырвался да лучших лошадей с разбойником Семкой Чухраем свел...» Не докончил пан своей речи, как стрельнула в него твоя жинка. Отчаянная она! Убила бы, наверное, наповал пана, не толкни ее под руку в этот миг Лука. Пуля мимо головы панской пролетела, парик сбила. Оцепенел пан, побелел от страха, как мертвец, лысой головой с испуга затряс. Тут Лука поднял с полу парик и на голову ему надел. «Счастье твое, пан, что не застал ты его благородия, Кондрата Ивановича мужа сей жинки. На войне он с турками бьется. Убил бы он тебя У него рука такая, что мне его пистолет с прицела не сбить бы...» Пошел пан к дверям, у порога обернулся и сказал: «Не знал я, что беглый мой холоп офицером стал и воюет с супостатами. За это прощаю его. Но лишь война кончится — за лошадей моих возьму с него сполна. Один жеребец англицкой породы — цены не имеет... Он дороже дома этого со всей землей вокруг,- и, обратившись к Маринке, добавил: — А тебе, красавица, надлежит поласковей со мной быть. Я люблю таких, как ты, строптивых».
Чухрай умолк, словно задумался.
— А дальше что было? — спросил Хурделица.
— Все. Сел пан. в карету и уехал. Никто его более в Хаджибее не видывал. А я с флотилией нашей в поход на Дунай ушел. Маринка тебе поклон шлет. Просит себя беречь и о ней тревогу не иметь.
— Спасибо тебе, Семен, за весть такую...
— Ты погоди благодарить-то. От пана Тышевского опаску теперь на всю жизнь имей. Я его добре знаю.
— Лютый он?
— Не только лютый. Зло помнит крепко. Спесивый, зело. Из поляков он. Война кончится - засудит тебя, по миру пустит, а жинку-то сведет с гайдуками своими. Вот каков он, Тышевский-то!
— За Маринку я боюсь, —тревожно сказал Кондрат.
— Пока не бойся. Она тебя любит. Верные други наши - Лука и Аспориди — ее в обиду не дадут. А воина кончится - уезжай с Маринкой из Хаджибея, чтобы с Тышевским век не встречаться, не то погубит он тебя...
— Не погубит, — упрямо покачал головой Кондрат. — Не погубит. Мне самому за оковы с него расчет взять треба.
— Тебе ли с ним тягаться? Подумай! У него сотни гайдуков.
— А у меня один, да зато верный, — вспыхнул Кондрат и обнажил саблю. — Видишь, какой гайдук!..
Вскоре, отведав ухи, Кондрат простился с Чухраем. Боевые друзья условились, что теперь их новая встреча состоится у стен Измаила.
XVIII. ЯССЫ
Хурделице пришлось со своими гусарами из Килии сопровождать принца Виттенбергского в Яссы, где находилась тогда ставка Потемкина, командующего всей русской армией на юге. Хурделицу, скромного офицера из казаков, совсем ошеломила та суетливая раззолоченная мишура, которой окружил себя Потемкин. Маленький тихий молдавский город он превратил в какой-то огромный шумный постоялый двор. Все узенькие кривые улицы его были забиты каретами, возками, бричками, кибитками. Многочисленная свита князя, гости, их слуги заняли все дома. Днем и ночью здесь шел бешеный круговорот веселья—попойки, балы, пиры, беспечные празднества. Играла музыка, раздавались то песни, то визгливый смех, то пьяные крики. Шум, несмолкаемый гомон порой неожиданно заглушался артиллерийскими выстрелами. Это для усиления эффекта десятипушечная батарея светлейшего сопровождала канонадой оркестровую музыку.
Кондрат со своими гусарами остановился на окраине Ясс, в землянке казачьего полка, далеко от ставки командующего. Но и сюда долетали звуки непрекращающегося там веселья. Хурделице не часто приходилось бывать на главной квартире, но то, что он слышал и видел там, вызывало у него тяжелое чувство тревоги и обиды.
«Мы под пулями турецкими не всегда вдоволь хлеба имеем. По полгода, а то и более, денег за службу не получаем, а здесь с жиру бесятся», — лезли в голову Кондрата бунтарские мысли.
Перед отъездом из Ясс ему удалось повидать и самого Потемкина. Хурделицу вызвали за пакетом к начальнику канцелярии генерал-майору Попову. Он вручил Кондрату пакет с приказом немедленно со всей сотней отправляться в Измаил.
— Сие донесение как можно скорее надлежит вам вручить его светлости кавалеру генерал-поручику Павлу Сергеевичу Потемкину. — Заметив недоумение на лице Кондрата, снисходительно усмехнувшись, пояснил: — Павел Сергеевич племянником приходится светлейшему.
Кондрат вышел из флигеля во двор, отвязал коня, вскочил на него и вдруг увидел стоящего на высоком крыльце капителя (главная квартира, штаб) рослого, могучего сложения человека в гетманском малинового бархата кунтуше, усыпанном бриллиантовыми звездами и орденами. Бледное лицо с хищным крючковатым носом, русые взлохмаченные волосы делали его похожим на степного орла-беркута. Он исподлобья смотрел куда-то вдаль, не обращая никакого внимания на суетящихся вокруг него офицеров. Потом повернул голову и перевел взгляд на Хурделицу. В этот миг Кондрат приметил, что один глаз этого степного орла блеснул стекляшкой.
«Ого! Да ты, брат, одноглазый! Значит, это и есть сам Потемкин, а по-нашему, по-запорожскому, Грицко Нечеса. И впрямь-то, по волосам ты и ныне нечеса», — подумал Кондрат.
— Он? — спросил Потемкин подбежавшего к нему Попова. ..
— Так точно, ваша светлость! Он. Уже наряжен с пакетом к Павлу Сергеевичу.
Светлейший сделал знак рукой, и Кондрат подъехал к самому крыльцу капителя.
— На словах от меня передай Пашке, — хмуро улыбнулся Потемкин Хурделице, —то есть племяннику моему, его светлости генерал-поручику и кавалеру Павлу Сергеевичу, чтоб от Измаила — ни шагу! Понял? Так... А то слух до меня дошел, что он уже отступил и с войском своим сюда прется, на зимние квартиры. Вот... Скажи, чтобы немедленно повернул на Измаил. Понял?
— Понял, ваша светлость...
— Коли так — с богом!
Построив сотню гусар в походную колонну, Кондрат повел свое воинство к Измаилу.
На другой день утром недалеко от излучины Дуная встретил он группу конников, за которыми нестройной толпой шла пехота. Подъехав ближе, Кондрат увидел чернявого грузно сидящего на гнедом жеребце генерала и приблизился к нему.
Хурделица спросил, где можно увидеть его светлость Павла Сергеевича Потемкина.
— Он перед тобой, — сказал генерал, и Хурделица вручил ему пакет, а также передал устное распоряжение светлейшего.
Выслушав посланца и прочитав донесение, генерал гневно сверкнул черными выпуклыми глазами и, побагровев, выругался.
— Плохую весть вы принесли мне, милостивый государь. Хорошо ему, светлейшему, в Яссах менуэты танцевать да приказы приказывать. Сам бы попробовал... — Но почувствовав, что он сказал лишнее, генерал осекся и тут же приказал повернуть войско вспять.
Обогнав идущую обратно в Измаил пехоту, Кондрат к ночи добрался до лагерного расположения русских полков.
XIX. АРМЕЙСКАЯ КРЕПОСТЬ
На другой день в расположении Херсонского полка Кондрат разыскал любезного своего друга Зюзина. Василий сильно похудел за время их разлуки.
«Оголодал, видно, на интендантских харчах», — подумал Кондрат, разглядывая осунувшееся лицо товарища, Тот под его внимательным взглядом невесело поморщился.
— Зябнем здесь в палатках полотняных на ветру. Подчас и хлебушка не видим. Все без толку турецкие бастионы разглядываем... — Он печально улыбнулся, кутаясь в свой видавший виды плащ.
Голодные, одетые в рваные летние мундиры солдаты и офицеры произвели тоскливое впечатление на Хурделицу.
— Светлейший день и ночь в веселых пирах пребывает, а здесь черных сухарей да квасу не хватает, — сказал с горечью Кондрат. Хотел еще что-то добавить, но Зюзин прервал его.
— Ладно! Лучше о викториях поведаем друг другу, — и кивнул на стоящих рядом солдат.
— Что ж... Это можно, — согласился Хурделица. Он понял товарища. — Говорят, что у вас тут настоящего дела еще не было.
— Какое!.. Вот только со стороны Дуная, — Зюзин показал рукой в направлении реки, — казаки капитана Ахматова захватили угловой бастион Табия, да турки снова его отбили. Без ума сию эскаладу (штурм) де Рибас затеял. Лишь головы казачьи зря погубил...
— Много?
— Свыше трехсот человек полегло да потонуло. Правда, турецкую флотилию почти всю истребили. Но она малое значение имела. И крепость этим не возьмешь. Взгляни, какая она. Недаром французы называют ее неприступной.
— Неприступная, — невольно повторил Кондрат и глянул в степь, туда, где верстах в четырех виднелся серый земляной вал Измаила.
— То-то и оно... Затаилась там целая султанская армия в тридцать пять тысяч человек при трехстах орудиях. Знаешь, как турки Измаил назвали? Ордукалеси! Ведаешь, что сие гласит?
— Как не ведать, — усмехнулся Кондрат. Это турецкое слово будет по-нашему «армейская крепость».
— Да, брат, пока это — неприступная армейская крепость, — вздохнул Зюзин. — Давай подъедем ближе, посмотрим.
И оба офицера, торопя лошадей, поспешили к каменным воротам Измаила.
Разглядывая ломаную линию земляного вала крепости, Кондрат слушал нервную торопливую речь друга.
— Сказывал мне нынче один молоденький офицер, что светлейший наш Потемкин приказ отдать изволил сию «ордукалеси» на шпагу взять. А кто брать-то будет? Не племянник ли светлейшего или де Рибас? У них ни ума, ни смелости на такое дело не хватит. Един, кто бы мог сей подвиг совершить, это...
— Суворов! — вырвалось у Кондрата.
— Верно. Только он. Да сказывают, что умер...
— Да что ты! Это турки распространяют слух о его смерти... Не умер Суворов! Живехонек. Я слыхивал в Яссах, что он в Белграде иль в Галаце, вроде как в опале, — с трудом пересиливая дующий в лицо холодный резкий ветер, крикнул Хурделица.
— Если так, то дела наши не столь уж плохи. Может, пришлют его к нам...
— Конечно, — согласился Кондрат и насмешливо прищурился. — Ты меня затем в степь и приманил, чтобы рассказать?.. Ведь вся армия об этом толкует.
— Не только, Кондратушка, затем. —- Зюзин обнял Хурделицу за плечи. Кони обоих всадников пошли рядом. — За месяц бесполезного сидения у Измаила истомились мы все тут... Мне стыдно в глаза голодным солдатам глядеть. Начальство наше здесь жидковатое. Для взятия такой крепости неспособное. Ведь одного войска турецкого за стенами этими поболе нашего. Пушек, пуль и ядер у супостатов тоже хватает. Даже у Ивана Васильевича Гудовича духу не нашлось штурм начать. И переведен он ныне, сказывают, аж на кавказскую линию... А промеж трех генералов наших — Самойлова, племянника светлейшего Павла Сергеевича и де Рибаса — грызня идет.
— Суворов приедет — порядок наведет.
— Наведет! — согласился Зюзин, и его зеленоватые глаза на какой-то миг повеселели. — Так вот я о том речь веду... — И он, хотя поблизости никого не было, понизил голос: — Говорил мне один секунд-майор, что если бы «князь тьмы», как зовут нашего светлейшего Потемкина, послушался Суворова, мы бы еще в прошлом году турка разбили и крепости все ихние с нашей земли срыли. — Он кивнул в сторону Измаила.
— А не брешет ли твой секунд-майор? — приостановил коня Кондрат. Зюзин тоже остановил лошадь и смерил Хурделицу сердитым взглядом.
— Нет, Кондратушка. Не брешет. Слова его истинны. Но что же мы остановились? Едем!
Василий пришпорил коня. Кондрат последовал его примеру. Они опять поехали рядом к крепости, и Зюзин снова по-дружески обнял Хурделицу.
— Майор сей приближен к светлейшему. Многое ведает... Он говорил, что в прошлом году, когда Суворов сокрушил под Рымной стотысячную турецкую армию, более войска у султана не было. Дорога на Константинополь нам открытой легла. Тут-то как ни просил Суворов светлейшего отправить его с войском за Дунай — султана кончать и мир добывать — не захотел Потемкин и с места не велел трогаться. На мелкие крепостицы армию всю свою распылил. А султан не зевал. За год турки, гляди, какую силушку собрали...
Друзья подъехали так близко к крепости, что турецкие часовые на каменном бастионе всполошились и открыли стрельбу из ружей. Одна из пуль прострелила медную каску Зюзина, но он показал туркам кукиш и предложил Кондрату подъехать еще ближе к крепости.
— Не привыкать нам к басурманским пулям. Стреляют янычары плохо. Глянем... — задорно сверкнул глазами Василий.
Удаль товарища передалась и Хурделице. Они галопом погнали коней к бастиону. В нескольких десятках саженей от крепостного рва обоих всадников встретил злобный собачий лай. Кондрат недоуменно покосился на скачущего рядом Василия, но тот, как ни в чем не бывало, продолжал мчаться к крепости. Они доскакали до обрывистой широкой канавы, которая тянулась вдоль крепостных стен. Кондрат направил коня вдоль рва и заглянул в него. На самом дне он увидел деревянные палисады и привязанных к кольям истошно лающих огромных ощетинившихся псов.
Турецким солдатам, очевидно, надоело стрелять по всадникам. Пальба прекратилась. Друзья перевели коней с галопа на тихую рысцу и стали объезжать зигзагообразную линию земляных укреплений. Во многих местах они смыкались с каменными башнями бастионов. Пришлось потратить около часа, чтобы объехать вокруг крепости.
В восточной части ее, так называемой Новой, в земляном кавальере (Высокий бастион, где сосредоточена артиллерия) размещалась двадцатиорудийная батарея турок В западной части крепости темнела другая высокая гранитная башня, из двухъярусных бойниц которой выглядывали жерла более десятка пушек.
— Вот об этом бастионе и я говорил тебе, — указал на мрачные, опаленные огнем стены Василий. — Это Табия. Ее-то и взяли было казаки. Помоги им тогда генералы — пожалуй, сейчас бы над всей Ордукалеси российский флаг уже реял...
Последние слова Василия потонули в нестройном грохоте пушечной пальбы, который донесли порывы ветра со стороны Дуная.
— Чьи пушки бьют? — спросил Кондрат.
— С острова Сулина, там стоят девять наших батарей. Бьют, да все без толку. Разве пальбою такую крепость возьмешь? Только порох зря жгем.
— Очень. Хотя там вала нет, да берег обрывистый. И десять батарей с восьмьюдесятью пушками и пятью мортирами на нем укреплены, одна из коих бросает ядра в пять пудов весом.
Зюзин хотел продолжать свой рассказ о крепости, но мрачный вид товарища заставил его умолкнуть.
— Ты чего закручинился? — спросил он Кондрата. Но тот не ответил и, тяжело вздохнув, круто повернул коня обратно к лагерю.
«У него, поди, своего горя хватает, а тут еще я добавил», — подумал Зюзин и помчался вслед за Хурделицей.
XX. СУВОРОВ ПРИБЫЛ
Турецкая крепость обоим друзьям показалась неприступной. После ее осмотра Кондрат возвращался в расположение войск еще более мрачным. Он тяжело вздыхал и все глядел, глядел пустыми глазами куда-то вдаль.
«Туманы с Дуная плывут. Дождя со дня на день жди. Размоют они глину на земляных валах, морозец ударит, заблестит гололед, и совсем тогда не взберешься на стены измаильские. Упускаем мы время для штурма. Проплясал светлейший крепость сию в Яссах», — невесело думал офицер.
Въехав в лагерь, они были удивлены необычным здесь оживлением. Солдаты и офицеры, собираясь в группы у гудящих на ветру палаток, взволнованно жестикулируя, обсуждали, очевидно, что-то важное.
— Не одержали ли наши викторию где? — сказал Зюзин и, приблизясь к группе, спросил: — Что, братцы приключилось?
— Суворов приехал! — хором ответили те. В их простуженных голосах звучала радость.
— Слава богу! — воскликнул Василий. — Теперь все по-иному будет...
Кондрат промолчал. Он слышал о Суворове много хорошего, но бедственный вид русских воинов настроил его на грустный лад, и он не мог принять сразу эту весть так восторженно, как Василий. У Кондрата лишь затеплилась слабая надежда на лучшие перемены...
Но никто не ожидал, что перемены эти начнутся в ту же ночь. Еще задолго до рассвета весь русский лагерь подняли на ноги звуки утренних горнов.
— Вот она, суворовская побудка, — говорили бывалые воины. — Так у него всегда. Ни свет, ни заря, а он, соколик, все войско поднимает.
И ночью же, при свете факелов, начались воинские учения и подготовка к эскаладе. Тогда каждому — от генерала до солдата — стало ясно, что штурм Измаила неотвратим.
Солдат для штурмовых отрядов не хватало, и многие кавалерийские полки тут же были превращены в пехотные подразделения.
Полк Кондрата не избежал этой участи. Гусары стали обучаться искусству вести бой в пешем строю. У новоиспеченной пехоты не было ружей, и ее вооружили укороченными пиками. С ними-то и повел Кондрат свою сотню в лихую учебную штыковую атаку.
Под барабанную дробь сомкнутым строем, ощетинившимся пиками бросались гусары с криком «ура!» вслед за Хурделицей на воображаемого врага.
После одной из таких атак Кондрат, потный и усталый от бега, едва успел вложить саблю в ножны, как услышал над собой негромкий, но звучный голос:
— Лихо, поручик! Помилуй бог, лихо!
Хурделица обернулся и увидел перед собой всадника. Пламя факела вырвало из темноты худощавое бледное лицо в струистых морщинах. Железная каска с зеленой бахромой закрывала его высокий лоб. И Кондрат, как и вся его сотня, мгновенно, по каким-то ему самому непонятным признакам, узнал, вернее, почувствовал, что это он, Суворов.
— Но толку так бегать по степи мало! Ведь мы турка не в степи бить будем. Так за мной, братцы! — Суворов взмахнул шпагой, тронул лошадь, и Хурделица снова повел своих гусар в темную степь.
Они остановились почти у самой турецкой крепости, у высокого неожиданно выросшего перед ними земляного вала, слабо освещенного чадящими на ветру факелами.
Кондрат остолбенел. Вал был, видно, только что насыпан. Он походил на Измаильский. Перед ним в сиреневой мгле рассвета чернел широкий ров. Тут же стояли возы с фашинами (Связки соломы или хвороста для заполнения крепостного рва) и лестницами.
Суворов по-юношески легко спрыгнул с лошади. Бросил подбежавшему адъютанту поводья. Тускло сверкнул клинок его шпаги.
— Валы измаильские высоки. Рвы — глубоки. А все-таки нам надо их взять!
По широкой степи прокатились слова команды. Зазвенело оружие. Грянуло «ура!».
Началось учение войск по подъему на крепостной вал. Гусары быстро забросали ров фашинами, перенесли через него связанные лестницы и приставили их к земляной стене. После ряда неудачных попыток, ободрав в кровь руки, Хурделица одним из первых поднялся на вал. С его высоты он оглянулся, ища глазами Суворова. Но главнокомандующего не было видно среди бегущих, кричащих людей.
Позже, возвращаясь с гусарами на исходную позицию, он снова увидел Суворова. Александр Васильевич уже с ружьем в руках показывал солдатам Херсонского полка, как с разбега надо колоть неприятеля штыком. Он ловко и быстро орудовал тяжелой гренадерской фузеей...
А потом уже суворовская каска замелькала среди других солдатских рядов. Главнокомандующий обходил батальоны, проверяя обучение и готовность воинов к предстоящему штурму. До каждого офицера и солдата он старался донести мысль: необходимо совершить небывалый подвиг.
— Помилуй бог! Последнее гнездо супостата на земле нашей взять надобно. И возьмем! Дунай-то — наша река! — донесся до Кондрата задорный, по-юношески звонкий голос Суворова.
— Видно, торопится Александр Васильевич, — поговаривали солдаты.
И командующий в самом деле торопился со штурмом. Ведь каждый день могла измениться погода — начаться дожди, промозглые придунайские туманы. Тогда земляные валы вражеской крепости станут скользкими — на них не взойти. Суворов спешил за несколько дней подготовить слабо обученные, плохо вооруженные войска к решительной битве. Предстояло совершить чудо...
Через пять дней после своего приезда в армию, осаждавшую Измаил, он писал Потемкину: «Уже бы мы и вчера начали, если б Фанагорийский полк сюда прибыл».
Никогда еще в мировой истории подготовка к такой сложной и ответственной операции не совершалась за столь короткий срок.
XXI. СЕКРЕТ ПОЛКОВОДЦА
Дунай вздымался свинцово-черными волнами. С севера все еще дул морозный ветер, и оледеневшие палатки продолжали гудеть, как корабельные паруса.
Но в русском лагере теперь никто не обращал внимания на холод, потому что каждому здесь, по меткому выражению ефрейтора Ивана Громова, уже стало «дюже жарко».
Учебные тревоги следовали одна за другой, днем и ночью.
Всю армию разделили на девять боевых колонн. Каждая колонна получила все необходимое для эскалады: фашины, лестницы, доски, топоры, пилы, ломы, веревки...
6 декабря к Измаилу прибыл, наконец, из Галаца его любимый. с нетерпением ожидавшийся Суворовым Фанагорийский гренадерский полк, а с ним сто пятьдесят человек апшеронцев, части донских казаков и арнаутов.
Можно было начинать штурм, но русский полководец сделал попытку уговорить упрямого врага сдать крепость без сопротивления, «дабы отвратить кровопролитие и жестокость».
С этой целью в Измаил был послан наш офицер с письмом от Потемкина для переговоров к начальствующему над тамошним гарнизоном сераскир Айдозле-Мехмету-паше.
Суворов от себя также послал турецкому командующему письмо, а с ним отдельно решительное требование:
«Сераскиру, старшинам и всему обществу.
Я с войском прибыл. 24 часа на размышление — воля. Первый мой выстрел — уже неволя. Штурм — смерть. Что оставляю вам на размышление».
Опытный военачальник и хитрый дипломат Айдозле-Мехмет-паша только на другой день прислал уклончивый ответ с явной целью выиграть, затянуть время. Его помощник с открытой издевкой сказал парламентеру: «Скорее Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил».
Все было ясно. Пришла пора действовать. Об этом высокомерном ответе врагов Суворов приказал оповестить каждую роту. Всю армию охватило негодование. Военный совет, на котором русские генералы еще десять дней назад постановили отступить от Измаила, теперь единогласно потребовал немедленного штурма.
...Александр Васильевич вышел из мазанки, где заседал военный совет, легко прыгнул в казацкое седло своего дончака и, окруженный свитой, помчался вдоль лагерной линейки, где были выстроены полки. Но как ни быстро мчался на своем коне Суворов, видно, радостная весть о решении военного совета успела его опередить. Он прочел это на лицах солдат и офицеров, услышал в раскатистом громовом «ура!», которым армия приветствовала своего полководца.
Через два часа адъютант доложил Суворову, что несколько черноморских казаков бежало к туркам. Александр Васильевич усмехнулся.
— Из тридцати тысяч человек войска российского только несколько человек оказались трусами. Совсем неплохо. У турок, поди, таких намного больше. Хорошо, что сами убежали, — и, уловив в глазах приближенных офицеров недоумение, пояснил: — Трус в бою — большая помеха!
— Не порассказывали бы о чем не следует басурманам, — высказал опасение адъютант.
Суворов хитро прищурился:
— И пусть, помилуй бог! Хоть самому сераскиру Мехметке все расскажут. Хоть весь план нашей эскалады. Турку ничего не поможет! Ничего! — И он раскатисто рассмеялся.
С диспозицией предстоящего штурма Суворов ознакомил не только командиров, но и солдат. Вся атакующая армия разделялась на три отряда по три колонны в каждом. Наступающим предстояло взять Измаил в кольцо. Одновременный натиск армии по всему фронту должен был принести русским победу.
Главное направление ударов было нацелено на места, где противник меньше всего их ожидал: на Новую крепость, на Килийские ворота, каменный бастион Табия и приречную сторону. Для штурма этих позиций выделялось более половины всей армии — две колонны генерал-майора Михайла Илларионовича Кутузова и Бориса Петровича Ласси, а также три колонны черноморских казаков под командованием де Рибаса. Остальные четыре штурмовых колонны должны были отвлечь внимание турок от мест основных наших ударов.
Суворов понимал, что этой части диспозиции — основного ее замысла — пока никому знать не надобно. В этом был секрет будущей победы. И, вглядываясь в озабоченные лица своей свиты, полководец обронил, как будто совсем не к месту, любимую поговорку:
— Тот не хитер, кого хитрым считают!
XXII. «ПОЧЕКАЙ НIЧЕНЬКИ!»
(подожди ноченьки! (укр.))
10 декабря весь день громили ядра Измаил. Вышки минаретов, зубцы бастионные то и дело обволакивались черными клубами дыма. От бомбежки в крепости то и дело вспыхивали пожары. Особенно метким был огонь двух двадцатипушечных батарей, выставленных на флангах наших войск. Они били прямой наводкой с предельно близкого расстояния - 160 и 200 саженей — по Ордукалеси.
На Дунае суда нашей флотилии также развернули боевые порядки и стали стрелять по крепости изо всех своих пушек. Их огонь поддерживали девять наших батарей, установленных на острове Сулин.
Измаильские янычары ответили жаркой и небезуспешной канонадой. Картечь и ядра засвистели по палубам, кося людей. Но ни один наш корабль не отступил, не обратился в бегство. Казаки мужественно продолжали артиллерийскую дуэль. Ведь сам Суворов приказал черноморцам сбить все батареи султанцев и проникнуть в крепость со стороны Дуная.
И флотилия твердо стояла под самыми жерлами огромных турецких пушек. Даже когда пятипудовое каменное ядро попало в пороховой погреб бригантины «Константин» и корабль взлетел на воздух, черноморцы не прекратили сражения. Шестьдесят отважных моряков вместе с капитаном пошли на дно, но их товарищи на казачьих дубках и лансонах продолжали осыпать противника ядрами и подошли вплотную к измаильским обрывам. Не останови черноморцев их храбрые атаманы Харько Чапега и Антон Головатый, казаки бросились бы тотчас в стихийную атаку, чтобы рассчитаться с басурманами за гибель товарищей.
— Почекай ніченьки! — крикнул Чапега и распорядился повернуть свой корабль от Измаила.
Слова его охладили пыл черноморцев. Штурм крепости отложили, но по турецким батареям продолжали палить еще яростней. Дубок, кормилом которого правил Чухрай, дважды добирался до самого турецкого берега. Новому канониру Якову Рудому удалось из корабельной пушечки разбить в щепки лафет турецкой мортиры. Он совсем недавно научился палить из пушки, но уже успел так прокоптиться пороховым дымом, что его золотистые волосы совсем почернели от сажи.
Пальба русских усилилась. Ядра стали все чаще и чаще попадать в султанские батареи. Турецкие солдаты и канониры не выдержали натиска и прекратили артиллерийскую дуэль. Они скрылись за толстыми стенами казематов, попрятались за земляные валы бастионов, залегли по траншеям и окопам.
Хотя пушки противника замолчали, наша артиллерия продолжала огонь не только весь день, но и большую половину ночи.
XXIII. НЕСПРОСТА
Ночью под грохот пушечной канонады Суворов обошел войска, уже построившиеся в девять штурмовых эшелонов.
По всему фронту полков то там то здесь взвивались к небу яростные языки пламени. То пылали огромные костры — солдатам приказано было не жалеть более скудных запасов топлива.
Вражеская крепость казалась охваченной, огненным кольцом.
— Возьмем Измаил, там, поди, дровишек предостаточно найдем. Так что не жалей, бросай поленцы в огонь! — говорил командующий, здороваясь с воинами. Он подходил к офицерам, сверял карманные часы, напоминал предписанное время.
— Начнем по сигналу, который последует в пять часов.
Александр Васильевич казался особенно веселым, шутил, а сам зорко проверял готовность войск к штурму, присматривался к каждой мелочи.
Пожимая руки солдатам и офицерам, подбадривая молодых, еще не побывавших в бою, он вселял спокойную уверенность в сердца закаленных ветеранов. Как-то особенно внимательно вглядывался Суворов в знакомые лица. За его веселой бодростью крылась большая человеческая грусть. Александр Васильевич знал, что многих из этих здоровых, сильных людей, его добрых товарищей по оружию, через несколько часов уже не будет в живых.
Была уже полночь, когда Суворов вернулся к себе в палатку, где жарко пылал очаг. Канонада умолкала. Александр Васильевич, оставшись наедине с офицерами своего штаба, сразу переменился. Погас веселый блеск в его серых глазах, морщинистое лицо утратило задорное выражение Он безучастно взглянул на только полученное от австрийского императора письмо, которое принес ему адъютант и, не распечатав отложил его в сторону. Потом молча жестом руки отпустил офицеров и, оставшись в палатке один, прилег у горящего очага.
До штурма оставалось немного времени. Можно было поспать еще пару часов, но он не мог заснуть. Ему хотелось как бы побеседовать с самим собой, оглянуться на прожитую жизнь, полную ратных трудов, подвигов, тревог, горечи лишений и славных побед.
Да, славных побед! Ибо всегда водимые им в сражения войска поражали неприятеля.
Вот и недавно еще, всего год назад, он, командуя небольшим отрядом при Рымнике, разгромил главные силі противника — стотысячную султанскую армию. А его начальник Потемкин в то время совершал с огромным войском маневры около Бендер.
После победы под Рымником можно было добиться мира. Ведь турки не имели сил для сопротивления, путь в их столицу был открыт. Надо было лишь всей армией идти за Дунай, вперед, и русские флаги взвились бы над древней Византией...
Но главнокомандующий Потемкин не внял его совету, не двинул русскую армию за Дунай. Нерешительность светлейшего, который целый год занимался осадой незначительных крепостей, дала возможность туркам сосредоточить ныне на Дунае огромную армию и подготовить Измаил к длительной обороне.
Сильно ухудшилось положение русских оттого, что союзница России Австрия заключила с Турцией перемирие, по которому обязалась не пускать русских в Валахию. Теперь наша армия должна была воевать в тяжелых условиях, на узкой болотистой местности между черноморским берегом и Галацом.
Вот в какое тяжелое положение вверг российскую армию светлейший, любимейший фаворит императрицы, год назад высокомерно отвергнув спасательное предложение Суворова.
Но России нужна эта победа! И он, Суворов, дал согласие светлейшему взять штурмом Измаил. Потому что России нужна эта победа, а не потому, чтобы, как думают иные, затмить подвигом всех других полководцев российских и желанный жезл фельдмаршала получить...
Его сердце волнует другое. Он-то знает, что никто из российских полководцев — ни сам Потемкин, ни Репнин, ни Салтыков, ни Каменский, ни Гудович, ни прославленный фельдмаршал Румянцев-Задунайский — никто не решился бы на такой штурм. Никому из них, кроме него, не удалось бы успешно выполнить такую задачу. Тут нужен его, суворовский, расчет и опыт. Итак: погибнуть или победить! Но он победит. Ведь Измаил — последний оплот иноземных захватчиков на родной земле. Возьмем Измаил, и освободится от турецко-татарского ига родная земля по самый Дунай...
Александр Васильевич приподнялся на своем ложе и подбросил охапку сухих веток в очаг. Вспыхнувшее пламя озарило внутренность палатки и осветило его нервное лицо ярким светом.
«Так и народная храбрость солдат русских: дай ей только пример, вдохни в нее любовь к земле родной — как очаг этот, вспыхнет пламенем славного подвига. И любой Измаил сокрушит», — подумал он.
Улыбка пробежала по тонким сухим губам старика. Суворов снова опустился на лежанку и немигающим взором стал смотреть на яркие, веселые язычки пламени в очаге.
Да, российские орлы возьмут сегодня ночью неприступную крепость! Возьмут штурмом вопреки мнению всех иностранных авторитетов. Знаменитый маршал Вобан, например, твердит: крепости надо брать измором, постепенной осадой. А если и решаться на штурм, то лишь имея подавляющее преимущество в численности войска...
А он возьмет Измаил, хотя у него меньше солдат, чем у турецкого паши, сидящего за крепостным валом. Пусть дивятся иностранцы русскому солдату... Кстати, этих сиятельных и несиятельных иностранцев сейчас видимо-невидимо понаехало сюда из Петербурга и штаба светлейшего. Все они, как воронье, слетелись, почувствовав поживу — битву измаильскую! И французы, и немцы, и англичане, и итальянцы, и шведы: принц де Линь, Дюк де Ришелье, графы Дама и Ланжерон и много других, рангом пониже. Есть среди них и опасные соглядатаи, и агенты враждебных нам иностранных держав.
Все они прибыли сюда в надежде на легкую карьеру, новые чины, но он, Суворов, сразу направил всех их, невзирая на громкие имена, в штурмовые колонны.
В бой, господа! Понюхайте пороха! Отведайте турецких ятаганов и пуль!
— Видимо, зело интересуются иноземцы нашими делами под Измаилом. Неспроста это, помилуй бог! Неспроста!..
XXIV. НОЧЬ
Конечно, неспроста! Многого он не знает, лишь догадывается, чувствует. Видно, недаром турки упорно распространяли среди европейских дипломатов слухи, что он, Суворов... уже умер. Неспроста все это...
Не зря беспокоился Александр Васильевич. В далеком Константинополе султан Селим этой же ночью получил известие о прибытии Суворова и, полный яростной тревоги, заметался по своему сералю. Только красноречие советников несколько успокоило его тревогу.
Не знал Александр Васильевич, что в это же время и престарелый немецкий король, и глава английского правительства лорд Пит-Старший тоже встревожились не на шутку, узнав о предполагаемом штурме Измаила. Они не очень-то верили в то, что голодная, плохо вооруженная русская армия может взять первоклассную турецкую крепость, но даже малая вероятность того, что русские одержат победу и окончательно прогонят турок со своей земли, твердо встанут на берега Дуная и Черного моря, бросала их в дрожь.
Прусский король уже передвинул свою сорокатысячную армию к границам России и стремился теперь как можно быстрее заручиться поддержкой англичан, чтобы прийти на помощь турецким янычарам. И Пит-Старший подумал о том, что, в случае падения Измаила, надо будет направить британский флот в Балтику против русских.
Русскую царицу также беспокоили многие события в мире. И разразившаяся французская революция — штурм Бастилии, в котором приняли участие некоторые ее подданные, — и растущее вольномыслие вокруг. Лишь недавно за крамольную книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» сослала она в Сибирь Радищева. А вольнодумие в стране все же не искоренено. Призрак новой пугачевщины навис над голодными деревнями, истощенными войной.
Августейшая правительница хорошо понимала, что надо как можно скорее кончать затянувшуюся войну с султанской Турцией, пользуясь моментом, пока отпал ее союзник Швеция. Ох, скорее бы взять Измаил! Лишь тогда, видимо, султан запросит мира. И Екатерина стала в уме подбирать суровые слова срочного письма к Потемкину с новым решительным требованием о незамедлительном овладении турецкой твердыней.
Все эти тайные и явные мотивы хитрой международной политики сплелись сейчас в один важный узел, называвшийся Измаилом.