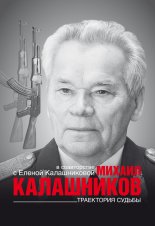Падение Хаджибея. Утро Одессы (сборник) Трусов Юрий

Кузьма быстро выскочил из комнаты. Зюзин подошел к Кондрату и взял его за руку.
– Слушай, вчера из разведывательного поиска вернулся командир донских казаков майор Иван Петрович Кумшацкий. Он видел нашего лазутчика Николу Аспориди, который держит в Хаджибее кофейню. Аспориди поведал, что еще до взятия нашими войсками Очакова Саид-Магомет-паша перевел оттуда весь свой гарем и невольниц в Хаджибей, к брату своей жены паше Ахмету, чтобы затем отправить их в Стамбул. Невольницы сейчас живут в доме Ахмета под неусыпным надзором евнухов. Но турки не решаются отправить «живой товар» в свою столицу. Они боятся, как бы в море их корабли не перехватила наша эскадра. Видать, памятную острастку дал им под Фидониси адмирал Ушаков. Среди невольниц, говорит, есть красивая казачка по имени Маринка…
Его рассказ Кондрат прервал радостным возгласом:
– Василь, да ведь то же моя, моя Маринка! — Однако через мгновенье лицо его стало мрачным. — Эх, Василь, Василь! Хороша твоя весть, да недолго она радует. Ведь Маринка моя все еще там. — Кондрат безнадежно махнул рукой. — Там, в когтях турецких…
– Не горюй, Кондратушка. Дай срок — вырвем ее! Скоро скрутим вязы чертям хаджибейским, — загорячился Василий. — Ух, и надо мне с ними за Очаков расплатиться! — продолжал он.
Тонкие сильные пальцы Зюзина до боли сжали руку Хурделице. В задорной убежденности субалтерна было столько юношеского огня, что есаул грустно улыбнулся: Ничего его, чертяку, не берет. Гляди, и в самом деле опять первым на крепостную стену полезет, как тогда в Очакове», — подумал Кондрат. И перед ним возникла картина одного памятного ему декабрьского дня.
… Картечь, которой турки осыпали наши полки, со свистом рвала морозный воздух. Русские только что пошли на штурм очаковской твердыни. Хурделица, вручив приказ Потемкина командиру пикинерного батальона (вооруженная пиками легкая кавалерия), возвращался на своем вороном коне к командующему. Выполнив поручение, есаул не мог удержаться, чтобы не проскакать вдоль крепостной стены, штурм которой только что начали зеленомундирные гренадеры. Внимание Хурделицы привлек по-юношески стройный офицер, который с обнаженной шпагой в руке карабкался по тряской лестнице, приставленной к крепостному валу. Несколько гренадеров, последовавших за ним, были сбиты турецкими пулями.
Выстрел турецкого янычара сорвал медную шапку с головы офицера, и он рухнул в глубокий крепостной ров. Хурделица, не колеблясь спрыгнул с лошади и бросился к нему. Кондрат нашел в глубоком рву раненого офицера. Тот лежал без памяти.
Вряд ли субалтерн Василий Зюзин остался бы жив, не подоспей тогда на помощь Хурделица. Есаул вытащил его, окровавленного, из заснеженного рва и, закутав в свой бараний полушубок, отнес в землянку. Больше двух месяцев Кондрат ухаживал за Василием. Гусиным салом смазывал его раны, поил крепкой варенухой, настоенной на перце и кореньях степных трав. Субалтерн стал поправляться. В один из зимних вечеров Кондрат поделился с Василием своим горем. Рассказал ему, как ордынцы во время набега увели в неволю его невесту Маринку и продали в турецкий полон.
Шли дни. Срослась переломанная ключица субалтерна, и весной Зюзин снова зашагал в гренадерском строю. В его зеленоватых глазах уже не осталось и следа от пережитых страданий. Только две резкие морщины появились над уголками всегда улыбающихся припухлых губ…
Очнувшись от нахлынувших воспоминаний, Хурделица пристально посмотрел на своего товарища. Кондрату вдруг стало неловко перед ним за свою минутную слабость. «Размяк, словно баба какая, а не казак», — подумал есаул.
– Это я так, Василь, сердце у меня чего-то занедужало, — сказал он глухо. — Как пойдем на Хаджибей турка рубать — пройдет.
В комнату вошел Кузьма и поставил перед друзьями глиняные кружки с красным волошским вином. Они чокнулись. Василий поймал благодарный взгляд есаула. Субалтерн почувствовал себя счастливым, хотя понимал, что еще ничем не помог другу. Но разве не приятно человеку сознавать, что он искренне готов сделать все для любимого товарища.
III. НОЧНОЙ МАРШ
Этой же ночью корпус Гудовича, состоящий из пехотинцев, драгунов, казаков при тридцати трех осадных и полевых орудиях, вышел из Очакова и направился к Хаджибею. Войска двигались медленно, соблюдая тишину. Запрещено было петь, громко говорить, высекать огонь, курить — вообще производить какой-либо шум. Офицеры вполголоса отдавали команды. Казалось, что бесчисленные ночные призраки молча движутся по степной дороге на турецкую крепость.
В арьергарде, замыкая колонны полков, медленно ехал на коне Гудович. Его сопровождали чернявый бригадный генерал Иосиф де Рибас, высокий поджарый полковник Хвостов, круглолицый курносый граф Илья Безбородко, майоры Воейков, Меркель, Кумшацкий, капитан Трубников и другие офицеры. Мягко покачиваясь в казачьем седле, полузакрыв глаза, командующий слушал тихий разговор приближенных.
– Не кажется ли тебе, Иосиф, — промолвил на плохом французском языке Безбородко, обращаясь к де Рибасу, — что для турок наше шествие — слишком уже почетная церемония?
– А почему бы нам, дорогой граф, не приучить этих варваров к церемониям? — дипломатично сострил де Рибас.
Но граф не улыбнулся. Он был зол на командующего за отказ назначить его начальником авангарда. Как он ни просил, а Гудович назначил на эту должность не его, а де Рибаса. И, не привыкший прощать обиды, Безбородко пустил стрелу:
– А фельдмаршал Петр Александрович Румянцев поступил бы проще. Да, наверно, и умнее…
Воцарилось неловкое молчание. Все затаили дыхание. Гудович нахмурил ключковатые брови. И все же эта дерзкая выходка не вызвала у него гнева. Он искоса взглянул на освещенное луной курносое обиженное лицо графа и почувствовал к нему не злость, а презрение. Он понял досаду этого еще молодого, но уже располневшего, изнеженного человека, прибывшего на войну лишь затем, чтобы у его брата, могущественного канцлера императрицы, был предлог выхлопотать для него новые чины, ордена, поместья… Увы! К сожалению, он, Гудович, никак не может доверить Безбородко авангард, потому что граф, хотя и храбр да горяч, но не слишком умен, и сие дело лучше доверить де Рибасу.
Однако нужно как-то проучить зазнавшегося вельможу, и Гудович лениво, словно нехотя, спросил его:
– Ваша светлость, откуда вы знаете, как поступил бы на моем месте Петр Александрович?
– Я хорошо изучил его. Недаром, как вам известно, я был у фельдмаршала в ординарцах, — нагловато прогудел Безбородко.
– Ординарцы не всегда знают мысли своих командиров, — по-прежнему спокойно ответил Гудович. — Я, граф, у фельдмаршала в генералах служил, но этого сказать не могу. Все же одну его мысль вам напомню: «Виктория приходит от неожиданного и хорошо подготовленного удара по врагу». Сие, как видите, мы сейчас с вами и делаем.
Безбородко досадливо усмехнулся:
– Напрасно меня поучать, ваша светлость, — отрезал он.
– Учиться никогда не поздно, друг мой. Я вот три университета окончил: Кенигсбергский, Галльский и Лейпцигский, но почитаю за честь великую у каждого сведущего человека перенять, что мне еще неведомо, — сказал командующий ровным, спокойным голосом, словно не замечая надменного тона графа.
Но Безбородко невыносимо было слушать поучения генерала. Ежась от ночной сырости, он застегнул на бриллиантовые пуговицы свой бархатный плащ и пришпорил коня.
– Граф все еще не может отвыкнуть от своих старых ординарских привычек — позлословить, — процедил сквозь зубы ему вслед де Рибас так, чтобы отъехавший Безбородко не мог расслышать его слов. В черных глазах де Рибаса светилось торжество.
Командующий взглянул на него и отвернулся. Он не выносил коварства.
Всматриваясь в ночной мрак степи, вдыхая солоноватый, дующий с недалекого моря ветерок, Гудович задумался.
Перед ним возник образ славного фельдмаршала Румянцева, лицом и ростом похожего на Петра Первого. Блистательными победами над Фридрихом Прусским и над турками фельдмаршал доказал всю несостоятельность западной линейной тактики, превращавшей солдат в бездушные механизмы. Он сменил напудренные букли и узкие мундиры, годные лишь для парадов, на удобную для походов одежду.
Он, Гудович, почитает заветы Румянцева. Ведь на войне, чтобы одержать полную викторию над противником, надо не только занять его крепости, но достигнуть главного — истребить живую силу. Разумеет он и замыслы Потемкина, который идет по тропе, Румянцевым проторенной. Ивану Васильевичу ведомо, что поиск на Хаджибей — часть генерального движения русских войск на неприятеля. Оно предполагает одновременные удары по врагу, дабы сковать его силы. В Молдавии полки Суворова и Репнина уже завязали баталии. Значит, надо спешить и нам. Промедление в бою — смерти подобно! Вот почему, когда майор Кумшацкий, возвратясь из разведки, доложил, что в Хаджибее много больших и малых кораблей вражеских, Гудович немедленно выступил в поход. Его не страшит, что весь многопушечный турецкий флот сейчас стоит на рейде Хаджибея, что турки готовы огнем орудий поддержать крепость. Тем более славы российскому оружию будет!
Мысль о скорой встрече с врагом, как ни странно, успокоила генерала. Он взял за локоть ехавшего рядом с ним полковника Хвостова. Тот, неловко горбясь, наклонился к командующему.
– Мы ночь не спим, торопимся, а турки нас в гости, поди, и не ждут, — весело подмигнул полковнику Гудович.
IV. ЗАБОТЫ ПАШИ АХМЕТА
После обильного обеда хаджибейский двухбунчужный паша Ахмет прилег на ковер и, затянувшись кальяном, стал обдумывать свои дела. Паше было о чем поразмыслить.
С тех пор, как русские взяли Очаков, проклятые гяуры каждый день могли напасть на Хаджибей. Правда, со стороны Молдавии должна была скоро появиться могучая армия правоверных, чтобы снова отбросить русских за Днепр. Но пути аллаха неисповедимы, и, надеясь на лучшее, неплохо подумать и о худшем… Ведь русское войско возглавляет грозный «топал-паша» — Суворов.
Ахмет только погрузился в эти невеселые размышления, как вдруг тишина его дворца была возмущена громкими женскими криками. В гареме опять ссорились женщины.
– Шайтан в образе человека, как только наш паша поместил тебя под одной крышей с нами! Видно, аллах ослепил его светлые очи, что он позволил тебе и твоему щенку здесь жить! — вопила одна из женщин.
Паша узнал голос своей некогда любимой, а теперь опостылевшей ему старшей жены Зейнаб.
– Порождение крысы и змеи! Только отсутствие красивых женщин заставило пашу выбрать тебя в жены. Старая шелудивая обезьяна! — кричала ей другая женщина, бывшая жена Сеид-Магомета, а теперь новая супруга паши татарка Селима.
Затем крики обеих перешли в сплошной визг — очевидно, женщины начали потасовку. Это было уж слишком!
Разгневанный властелин Хаджибея вызвал старшего евнуха Абдуллу, разжиревшего, задыхающегося от астмы тунисского мавра.
– Певзен! Балбес! Гнусный ленивый ишак! Разве я тебе так поручал оберегать покой в гареме? — заорал на него Ахмет. — Чтоб сейчас же было тихо! Не то я прикажу начинить твою тупую баранью башку навозом!
Перепуганный евнух со всех ног бросился выполнять приказание паши.
Однако тишина наступила не скоро. Долго еще дворец оглашали вопли усмиряемых евнухом женщин, крики и плач детей.
Проклиная всех женщин на свете, паша стал затягиваться зеленоватым дымом кальяна, чтобы уйти от суетных мыслей. С тех пор, как очаковский сераскер Сеид-Магомет-паша прислал в хаджибейскую крепость своих жен и наложниц, а также пленниц, паша Ахмет потерял покой. Женщины очаковского паши сразу не поладили с обитательницами его гарема. С утра до поздней ночи покой дворца, где прежде царила безмятежная тишина, оглашали крики и брань.
Дело приняло еще худший оборот, когда при штурме русскими Очакова погиб Сеид-Магомет. Паша Ахмет, как родственник погибшего, стал законным обладателем его гарема. Теперь между старыми и новыми женами Ахмета началась настоящая война. Много волнений доставляли хаджибейскому паше и невольницы. Сделать их своими наложницами Ахмет не решался, так как они предназначались для отправки в Стамбул в дар самому султану. Ахмет знал: сделай он невольниц своими наложницами, и его же друзья и ближайшие помощники немедленно пошлют об этом доносы владыке Турции. Ведь все эти лукавые бинь-баши, аги, байрактары (офицерские чины турецкой армии) только и мечтают о том, чтобы сесть на его место. Тогда никакие прежние заслуги не спасут его, пашу Ахмета, от ужасного гнева султана. И быть ему посаженным на кол на одной из базарных площадей Стамбула…
Но нет — аллах велик! Он наградил пашу мудростью. Никогда Ахмет не впадет в соблазн, на радость своих тайных врагов, присвоить хотя бы одну из невольниц, предназначенных для султана. Нет!
Однако уж больно они хороши, эти молодые невольницы-украинки!
Каждый день шел паша в их покои. Там огромный, тучный Ахмет ложился на тахту и, поглаживая седую бороду пухлой усыпанной драгоценными перстнями рукой, долго рассматривал пленниц. Особенно нравилась ему одна — молодая казачка по имени Маринка.
В ее взоре не было страха, когда она смотрела на пашу. В каждом движении ладной, гибкой фигуры девушки чувствовался непокорный свободолюбивый характер. Старый турок все больше и больше очаровывался девушкой. О, если бы можно было купить ее, он дал бы самую высокую цену на невольничьем рынке. Тысячу полновесных пиастров и в придачу пригоршню крупного цейлонского жемчуга! Гордая казачка стала бы украшением его гарема…
Но нет! Аллах наградил пашу мудростью, и он никогда, на радость своих тайных врагов, не присвоит невольницу, предназначенную для самого султана.
V. В РАЗВЕДКЕ
Пришпоривая коня, скакал с отрядом казаков Кондрат Хурделица.
Высокими травами заросла степная дорога. Ее нелегко найти ночью. Даже старые опытные казаки, которые всю жизнь кочевали по югу Украйны, и то сбивались с пути. Но Хурделица, хорошо запомнивший эти места, по каким-то ему только ведомым признакам находил верную дорогу в ночной степи и указывал корпусу путь на Хаджибей. Хурделица получил приказание задерживать всех, кто мог бы сообщить противнику о движении наших войск. Кондрат должен был также присмотреть места, где после ночных маршей армия могла бы укрыться от глаз турецких разведчиков.
Лишь шорох волнуемой ветром травы нарушал тишину ночи. Да порой раздавался лисий лай или крик серокрылой совы. Нигде не было видно и признаков человеческого жилья.
Опередив на десять верст армию, Хурделица вместе с отрядом свернул с дороги в глубокую заросшую лесом балку. Казаки спешились и повели потных коней в лощину. Здесь они сделали остановку, пока не остыли лошади. Напоив коней в ручье, протекающем по дну балки, казаки стали осторожно подниматься по склону к дороге.
Неожиданно послышался конский топот и людские голоса.
Вскоре показался небольшой отряд конников, направляющихся в сторону Очакова. Хурделица насчитал десять всадников. На фоне звездного неба отчетливо вырисовывались головы в чалмах и в лисьих татарских шапках. Казаки поняли: это турецкие разведчики.
Есаул сразу принял решение. Он разделил весь отряд на две группы. Пять человек под начальством опытного старого казака Максима Коржа были посланы навстречу туркам. Большую группу, состоящую из пятнадцати сабель, Кондрат повел в обход противника, чтобы перерезать ему путь на Хаджибей.
Обойдя турок, есаул построил отряд в виде полумесяца и стал ожидать врагов. Вскоре раздались первые выстрелы, а затем послышался приближающийся цокот копыт. Это неприятель, как и предполагал Кондрат, встретил группу Коржа. Не приняв боя, он повернул своих коней назад к Хаджибею. Увидев казаков, перерезавших им дорогу, турки на миг оторопели. Затем бросились в атаку, чтобы вырваться из окружения.
Хурделица сразу наметил себе рослого турка, скакавшего впереди своего отряда на вороном жеребце. Кондрат решил выбить всадника из седла и взять его в плен.
Но вышло иначе.
Приблизившись к казаку, турок выхватил пистолет и почти в упор выстрелил в Хурделицу.
Простреленная шапка-кабардинка, сверкнув золотым позументом, слетела с головы Кондрата. Встав на дыбы, сшиблись кони всадников. Опережая на какой-то миг взмах кривого меча противника, Хурделица сильным косым ударом сабли сбил его. Разгоряченный конь унес есаула на несколько саженей вперед от места поединка.
Когда Кондрат повернул коня, битва уже закончилась. Двух прорвавшихся из окружения турецких всадников прикончили посланные им вдогонку казачьи пули. Третьего турка седоусый Корж вырвал из седла арканом.
Сброшенный на землю полузадушенный турок оказал отчаянное сопротивление: размахивал саблей, пока ее не выбили у него из рук прикладом ружья. Он протяжно, по-волчьи, завыл и смолк, лишь когда Корж связал ему руки. Это успокоило турка: он понял, что убивать его не собираются.
– Видишь, — добродушно сказал Максим Корж Кондрату, — он думал, что мы, как и они, поганые, головы пленным рубим.
Подойдя к месту схватки, Кондрат увидел на дороге свою шапку-кабардинку. Ее малиновое донышко сверкнуло в ночной мгле позументом. Казак поднял пробитую пулей шапку и внимательно осмотрел ее. «Взял бы турок прицел только на полпальца ниже — и лежал бы я сейчас мертвым на степной дороге», — подумал он.
Теперь простреленная шапка показалась ему намного дороже. Не без тайной гордости он надел ее на голову.
Скоро, однако, пришлось снять ее. Он узнал, что двух казаков насмерть порубили турки. И встав на колени возле лежавших на земле товарищей, Кондрат простился с ними, троекратно поцеловав мертвых в губы.
Стараясь заглушить чувство тоски, он занялся делами. Велел поймать коней, что потеряли в бою хозяев, и зарыть трупы врагов, а сам стал направлять зазубрившееся лезвие сабли.
Через час подошло войско.
Хурделицу подозвал Гудович. Есаул рассказал ему о ночной стычке.
– Ни один турок не утек, — закончил Кондрат свой короткий рапорт.
Убитых казаков отпевал полковой поп. По запорожскому обычаю похоронили их на высоком кургане.
Когда взошло солнце, на степной дороге не осталось никаких следов ночной схватки. Пролитую здесь кровь жадно впитала в себя влажная от осенней росы земля.
Самый зоркий наблюдатель, проходя мимо лесистой балки, вряд ли обнаружил бы, что здесь расположилось большое войско.
VI. В ГАРЕМЕ
Скоро Маринке пришлось испытать на себе ревнивую злобу Зейнаб. Бывшая старшая жена паши смертельно ненавидела всех жен, которые обращали на себя внимание ее господина. Всю жизнь Зейнаб вела непрекращающуюся борьбу с другими женами за первое место в переменчивом сердце паши. Она умела почти всегда выходить победительницей из этой борьбы. И не только ее красота — смуглое, с тонкими чертами лицо, пронзительные черные глаза, — но и изворотливый, гибкий ум позволяли Зейнаб долгие годы сохранять привязанность Ахмета. Старшая жена, в случае нужды, ловко умела плести интриги. Только теперь, когда красота Зейнаб стала блекнуть, ее место в сердце паши сумела занять молодая татарка Селима. С болью наблюдала эта тучная рано поседевшая женщина, как паша то удалялся в покои Селимы, то часами не сводил глаз с юной казачки Маринки.
Этого было достаточно, чтобы Зейнаб возненавидела девушку. Теперь старшая жена только и ожидала удобного случая, чтобы вцепиться ногтями в лицо Маринки. Она-то уж сумеет напугать, унизить, а при случае даже изуродовать навеки гордую гяурку, чтобы та никогда больше не привлекала взоров паши.
Зейнаб подготовила расправу. Исподволь восстановила она остальных жен и наложниц против Маринки. Распустила слух, будто бы казачка — хитрая чародейка и хочет околдовать властелина Хаджибея.
– Гяурка спозналась с самим шайтаном. Без его помощи она бы не сумела так приворожить к себе пашу! — нашептывала Зейнаб в уши другим женам, когда Ахмет приходил в гарем, чтобы полюбоваться Маринкой. Завистливые суеверные женщины легко поверили в это. Вскоре ничего не подозревавшую казачку окружило плотное кольцо тайного недоброжелательства и злобы.
После полудня, когда евнух ушел из гарема, Зейнаб решила, что подходящий момент настал. С искаженным от злобы лицом вошла она в покои невольниц и направилась к Маринке. Девушка в это время сидела на ковре в окружении подруг и вышивала цветной украинский узор на своей холщовой свитке.
Зейнаб с размаху ударила пленницу по щеке.
– Поганая, ленивая гяурка, набери в таз воды и вымой мне ноги, — повелительно прошипела турчанка.
Девушка вскочила, выпрямилась во весь рост. Нападение не испугало, а только ошеломило казачку. Светлые глаза Маринки сузились от гнева. Она с такой ненавистью в упор посмотрела на обидчицу, что та растерялась. В следующий миг сильным ударом Маринка сбила турчанку с ног и далеко отшвырнула от себя. Толстая Зейнаб завизжала от страха:
– Убивают! Спасите! Гяурка убивает правоверную! Спасите от проклятой колдуньи!
Крики взбудоражили всех женщин гарема. Жены и наложницы бросились спасать Зейнаб. Их охватила ярость: как осмелилась презренная невольница поднять руку на жену паши?!
Лежа на ковре, вопя сколько сил было, Зейнаб зорко наблюдала из-под опущенных ресниц за всем, что творилось вокруг. Увидев прибежавших женщин, она обрадовалась: гяурка получит за все в десятикратном размере!
Пусть не Зейнаб расцарапает лицо казачки — это сделают за нее другие женщины. Но не миновать тебе, злая гяурка, ужасной расправы!..
Но тут случилось то, чего никогда еще не бывало в гареме.
Другие невольницы встали на защиту своей подруги. Смелый поступок Маринки придал им мужества. Высокие и сильные, девушки легко оттеснили изнеженных женщин паши. Увидев, что невольницы полны решимости отстоять свою подругу, жены сразу потеряли воинственный пыл. Одно дело сообща избить рабыню, а другое — вступить в единоборство с гяурками…
– Ах вы, черные вороны! Чего вы напали на сиротину? Разве она вам что плохое сделала?! — кричала чернобровая Ганна, оттесняя от своей подруги нападающих.
Одна из турчанок, маленькая желтолицая Фатима, попробовала было вцепиться в пышные волосы Ганны, но, получив от нее увесистую оплеуху, отлетела в сторону.
– Гяурки с ума сошли! Да покарает их аллах! — испуганно завопили жены паши.
Привыкшие к молчаливой покорности рабынь, они в испуге разбежались по своим покоям, проклиная гяурок.
Их бегство привело в бешенство Зейнаб. Она потеряла всякое самообладание. Неужели гяурка избежит уготованной ей расправы! Мысль эта не давала ей покоя. Теперь Зейнаб уже не вопила о спасении, о защите от проклятой колдуньи. С воплем турчанка бросилась на девушек, стараясь прорваться к Маринке.
В дверях показалось оливковое морщинистое лицо евнуха Абдуллы. Услышав вопли, он прибежал в покой невольниц. Увидев, что старшая жена яростно нападает на них, евнух хитро усмехнулся. Он сразу понял обстановку. После того, как любимой женой паши стала Селима, евнух перестал считаться с Зейнаб. Он вспомнил, сколько унижений пришлось ему испытать, когда она была любимицей его господина. Теперь час расплаты настал, и мавр решил свести с Зейнаб старые счеты.
Свирепо закусив одутловатую лиловую губу, он неслышно подкрался к Зейнаб и изо всей силы хлестнул ее по толстому заду плеткой. Турчанка, завопив от жгучей боли, резко обернулась и встретилась с ехидным взором мавра. Крик мгновенно оборвался, словно замер на побелевших губах Зейнаб. В глазах евнуха старшая жена прочла свою дальнейшую суровую судьбу. Никогда в жизни она не испытывала такого позора. Все евнухи гарема еще недавно трепетали перед ней. Настолько, значит, поблекла ее красота и охладел к ней паша, что теперь презренный мавр, который некогда ползал у ее ног, осмелился поднять на нее руку!..
Зейнаб уже не чувствовала ни гнева, ни боли. Страх, мелкий противный страх, охватил турчанку. А евнух снова взмахнул нагайкой и закричал:
– Старая разжиревшая ведьма, ты опять буянишь! Убирайся отсюда!
Закрыв лицо руками, Зейнаб выбежала из покоев невольниц.
Недолго радовались пленницы победе над обидчицами. Заметив веселье на лицах девушек, Абдулла выразительно пригрозил им плеткой.
Улыбки сразу угасли. Печальные, молча разошлись они по своим углам.
Маринка упала на постель — солому, покрытую жестким войлоком. Все время ее поддерживала надежда на скорое избавление от турецкой неволи, вера в то, что русское войско, взяв Очаков, освободит и Хаджибей. Но уже почти год прошел со дня взятия Очакова, а от освободителей не было никаких известий. «Где же вы, храбрые солдатушки, где вы, удалые казаченьки, где ты, мой Кондратко? Разве не знаете, родные, как страдают в басурманском полоне ваши сестры, ваши жены, ваши невесты? Когда же вы придете и избавите нас от рабской недоли?.. Или сила басурманская одолела вас в ратном поле?» — горько вздыхала Маринка.
Быстро стемнело — сентябрьские вечера коротки. Сквозь железную решетку узкого окна скупо просачивался мглистый свет. Начал густеть полумрак. Черные тени легли по углам комнаты.
Тоска по дому, дорогим, близким людям, по родной степной шири сжала сердце Маринки. Слезы потекли по щекам. Беззвучные рыдания подкатили к горлу. Не в силах с ними справиться, желая скрыть душевную боль от подруг, девушка уткнулась лицом в подушку, чтобы задушить рыдания, и вдруг чья-то теплая, ласковая рука коснулась ее плеча.
– Ганна? Не тревожь меня, не надо, — прошептала Маринка, думая, что это подруга.
Но рука так же ласково скользнула по щеке и дотронулась пальцами до губ девушки, как бы подавая ей знак молчать.
Маринка обернулась. Две женщины, присев, склонились у ее изголовья. Присмотревшись, Маринка узнала немолодых рабынь паши Ахмета: сербиянку Янику и полтавку Одарку.
– Тише, тише, любонька моя,— зашептала сербиянка. — Мы пришли к тебе с хорошей вестью. Толичко сначала три раза крест святой поцелуй, что никому на свете — ни подругам, ни поганым ворогам никогда не скажешь о том, что узнаешь от нас. Ведь бабий язык нелегко удержать. А это тайна великая. — Яника протянула к губам Маринки свой медный нательный крестик.
Удивленная Маринка перекрестилась и три раза поцеловала пахнувшую потом медь.
Обе женщины пристально посмотрели ей в глаза. Дыхание Яники снова коснулось уха Маринки:
– Слушай, наши, русские, идут на Хаджибей, — прошептала сербиянка. Густые, сросшиеся брови Яники радостно взметнулись. Но, словно предупреждая порыв девушки, она крепко, до боли сжала руку казачки.
– Молчи и слушай дальше. Сейчас мы с Одаркой решили бежать. Каждую минуту турки могут посадить нас на корабли и увезти в Туреччину. Тогда нам всю жизнь придется пропадать в рабстве. Для побега нам еще нужна одна подружка. Мы долго присматривались к тебе. Ты смелая, умная… Согласна?
Женщины опять испытующе взглянули на Маринку.
Взволнованная, девушка крепко обняла каждую из них.
– Так слушай, — зашептала Яника. — Кондратко твой с мужем моим Лукой — друзья. А Лука здесь. Верные люди помогут нам бежать отсюда. А пока каждый должен делать свое… Ты должна будешь отвлечь внимание паши — мы тебе поможем…
Женщины подробно разъяснили девушке весь хитрый замысел побега, который им устраивают люди, что живут здесь, под самым носом паши.
VII. ПОДКОП
В каменном лабазе, что примыкал одной стороной к стене, окружающей сад хаджибейского паши, шла работа. Здесь при тусклом свете фонаря два обнаженных до пояса человека копали продолговатую яму. Один из них, плотный, обросший до самых глаз черной волнистой бородой, не спеша набрасывал лопатой мокрую рыжеватую глину в аккуратную горку. Его товарищ — высокий, худой, с длинными седыми усами — работал тороплиио, нервно. По временам он испуганно посматривал на стоящего рядом невысокого одноглазого человека в чалме. Тот с явной тревогой наблюдал за работой. Когда яма подошла к самой стене сада и железо лопат заскребло по камням фундамента, одутловатое лицо одноглазого перекосилось от страха и злобы.
- Тише, тише, христианские собаки! Вы разбудите весь Хаджибей, — прошипел он.
Те на миг приостановили работу. Чернобородый почтительно скосил на турка карие лукавые глаза и сказал вкрадчиво:
– Достопочтеннейший Халым, да будешь ты славен на долгие годы, успокойся! Мы сейчас лишь подкопаем фундамент, и больше никакой шум уже не будет терзать твои нежные уши….
Его слова, а главное ласковый тон, каким они были произнесены, подействовали успокаивающе на Халыма.
Сердито сверкнув своим единственным глазом, он вздохнул и, насупившись, смолк.
Однако стоило только товарищу чернобородого снова звякнуть лопатой о камни, как Халым, потрясая кулаками, зашипел с прежней яростью:
– Проклятые гяуры! Вы хотите, чтобы паша с меня вместе с вами содрал живьем шкуру? Прекратите работу или я крикну стражу. За такой малый бакшиш (вознаграждение (турецк)) я не хочу рисковать своей головой.
– Успокойся, успокойся, Халым, больше Семен ни разу шума не учинит, — ответил по-прежнему ласково чернобородый, кивнув головой на товарища.
Но турка было нелегко успокоить. Гневно вращая единственным глазом, он схватил огромный ржавый замок и, произнося шёпотом проклятие, направился к дверям лабаза. Выпрыгнув из ямы, Лука схватил его за полу кафтана.
– Достопочтенный Халым, да ниспошлет тебе аллах счастье, не торопись! Мы еще прибавим тебе золотых талеров и полновесных пиастров, только не торопись!
Эти слова подействовали на Халыма. Он перестал вырываться из сильных рук Луки.
– Сколько прибавишь?
– Еще десять пиастров, достопочтеннейший.
– Сто! Или я, христианская собака, сейчас же крикну стражу.
– Побойся аллаха, Халым, мы ведь и так отдали тебе все свое состояние — все деньги, что получили от Ашота. Разве это мало — триста пиастров? — взмолился Лука.
Но Халым был неумолим.
– Сто и только сто! Я и так беру с вас дешево. Риск слишком велик. Одни только невольницы, которых вы похитите, стоят дороже. А немилость паши! А кара в случае, если вас и ваших невольниц поймают! О, я и так слишком мало прошу с вас…
– Халым, достопочтеннейший Халым! Сбавь цену, — по-преженему не отпускал турка Лука. Он подмигнул Чухраю.
Поймав взгляд товарища, Семен выбежал из ямы и загородил проход. Халым пришел в ярость. Он снова стал вырываться:
– Пустите меня, гяуры, или я сейчас же кликну стражу. — Одноглазый уже открыл было рот, но Семен вынул из своих широких штанов пистолет и приставил дуло ко лбу турка.
– Тогда, достопочтеннейший Халым, ты погибнешь…
Бледное одутловатое лицо турка позеленело от страха.
– Видишь ли, Халым, если нас схватят, то и тебе несдобровать, — по-прежнему ласково ворковал чернобородый Лука, словно ничего особенного не случилось. — Мы скажем паше, сколько пиастров ты взял с нас, прежде чем дозволил сделать этот подкоп. Тогда не уберечь и тебе головы от гнева паши. Послушай нас, Халым, возьми еще двадцать пиастров, да продлятся дни твоей жизни!
Двадцать золотых монет, тут же отсчитанных и вложенных в руку Халыма, сломили сопротивление одноглазого. Он недовольно кивнул им в знак согласия и молча уселся на бочке.
Лука и Семен взялись за работу. Вскоре узкий, глубокий лаз прошел под фундаментом стены. Вот уже лопата Семена стала срезать корни травы, растущей в саду гарема паши.
– Хватит копать, Лука, — сказал он своему товарищу. — Хватит, а то сам паша провалится нам на голову, если выйдет погулять в свой сад.
Лука в ответ крепко стиснул локоть Семена и, пятясь, тяжело дыша, первый вылез из душного лаза. За ним последовал и Семен.
Их встретил тревожный вопрошающий взгляд Халыма.
– Кончили, — коротко бросил ему Лука, сплевывая землю, что набилась в рот. — Теперь, Халым, передай Янике, Одарке и Маринке, чтобы завтра, как стемнеет, были в саду и ожидали совиного крика.
Лука и Семен накинули на потные плечи чекмени, осторожно прикрыли дверь лабаза и исчезли в прохладной темноте сентябрьской ночи.
VIII. В ПОХОДЕ
Весь день армия находилась в балке. В лагере, где расположилось несколько тысяч человек, стояла тишина. Люди разговаривали только шепотом.
Хорошо отдохнув после ночного марша, солдаты и казаки поднялись на заросший дубняком склон. Лежа в кустарнике, воины делились своими думами, вглядывались в озаренную вечерними лучами солнца широкую степь. К ним присоединился Василий Зюзин. Субалтерна всегда тянуло к простым ратным людям. Солдаты знали, что их благородие сам много лет служил рядовым — из гренадерских сыновей он, — и уже привыкли к молчаливому присутствию младшего офицера.
Зюзин залюбовался шумящим морем высокой тронутой осенней желтизной травы. Солдат — русоголовых светлоглазых крестьянских парней — волновал могучий простор непаханной земли.
– Ох, и силища громадная в ней, родимой! Глянь-ко, какую травищу вымахала! Зря она, эта землица наша, под турком пропадает, — кручинился гренадер Сергей Травушкин.
– И верно! Турок насчет земли — дурак. Ничего он в ней не понимает. Ему бы по степи, как татарину, только коней гонять, — поддержал Сергея его однополчанин ефрейтор Иван Громов — суровый темноусый богатырь.
И снова слышен голос Сергея Травушкина, веселого, бойкого солдата.
– Братцы, а знаете, как турка с татарвой отсель погоним, так земля эта станет насовсем нашенской, вольной…
– Как это вольной, нашенской? — недоуменно переспросил Громов.
– А вот так: кто ее зачнет пахать, тот и владеть будет землицей этой…
– Так тебе ее бары и отдадут! — махнул безнадежно рукой Громов.
– А на что, посуди сам, барам эта земля? У них земли и без того досыта… Вот так, — яростно провел ладонью по горлу Травушкин.
Это убедило всех.
Зюзин заметил, что у казаков, как и у солдат, от слов Травушкина повеселели глаза. Еще бы! Хотя черноморские казаки и называли насмешливо по старой запорожской привычке тех, кто пахал землю, обзаводился хозяйством и семьей, гречкосеями и гнездюками, но мечта о вольной, своей, пашне волновала и их. Большинство казаков были бедняками-сиромахами. Всю жизнь мечтали они о своем вольном пшеничном поле, о белой хате, окруженной вишневым садочком, да о чернобровой жинке. Лишь немногим удавалось обрести это.
Седоусый казак Максим Корж, совершивший за свою жизнь немало походов еще в товариществе сечевом, много порубивший в битвах супостатов земли родной, пристально посмотрел на Травушкина.
– Хлопец правду каже, святое дело это — вражину с земли нашей изгнать, — сказал казак.
Слова эти запали в душу ратным людям. Когда огромное солнце стало опускаться в степную траву, солдаты и казаки с посветлевшими лицами, начали дружно готовиться к ночному маршу.
Семь переходов по очаковской степи сделала армия Гудовича, нигде не встречая ни местных жителей, ни их следов. К концу седьмого перехода в предрассветной мгле показались плоские холмы Куяльницкой возвышенности. Сергей Травушкин почувствовал, что идет по стерне.
– Братцы, — зашептал он идущим рядом гренадерам. — Братцы, да это же пашня.
Он вырвал из рыхлой земли пучок срезанной пшеничной соломы и передал ее товарищам.
– И впрямь стерня. Значит, где-то здесь наши, крещенные, живут, пашут…
– А если это не наши, а турки пашут, — взволнованным шепотом высказал догадку один из солдат.
Но товарищи его запротестовали:
– Да что ты! Будет тебе турок или татарин землю пахать!
– Не иначе, как наши тут живут или волохи, — порешило большинство.
Утром, когда войско отдыхало, расположившись лагерем в лесистой балке, Хурделицу разбудили часовые. Перед есаулом стоял высокий худой старик в залатанной холщовой свитке В больших жилистых руках он держал кошелку, набитую пучками сухих трав.
Кондрат протер глаза, чтобы окончательно удостовериться, не снится ли ему сон: перед ним стоял дед Бурило — постаревший за полтора года разлуки, но Бурило, живой-здоровый!
– Диду! — есаул крепко обнял старика.
Тот тоже так обрадовался неожиданной встрече, что не мог скрыть слез.
– Крестник, не гадал я тебя встретить. Не гадал… Дай-ка глянуть на тебя хорошенько. Ой, какой пышный стал! — разглядывал Бурило есаула.
Хурделицу смутила эта похвала, и он, посадив деда на свой походный сундук, тут же начал расспрашивать его о Маринке.
– Слава богу, с помощью Луки, Чухрая и Озен-башлы узнал я, что Хаджибейский паша ее в неволе держит. И теперь, коли нам самим не удастся ее из лап Ахметки вырвать, так ты за это берись, крестник, — ответил Бурило.
– Я этим, дед, давно забочусь.
– И добре…
– А кто еще с тобой Маринку вызволяет? — спросил Кондрат.
– Кто? Многие, крестник, — скупо ответил Бурило.
Зная нрав старика, есаул понял, что дед больше ничего не скажет об этом, и перевел разговор на другое:
– Ну, как вам здесь, диду, у Хаджибея живется?
– Лучше не спрашивай об этом, сыну, — вздохнул Бурило. — Терпят нас турки лишь потому, что нужны мы им. А не то — давно бы всех вот так… — Он провел рукой по горлу. — С Лукой я, — продолжал старик, — устроился, пашем землицу у турецкого бея. Озен-башлы тоже возле нас. Иногда и Чухрай заходит. Он у Ашотки в джигитах, что ли… Кто их там разберет! За последнее время Чухрай с Лукой дружбу водит. У них обоих жинки в неволе, в доме паши… Трудно нам. Вся надежда на вас, что скоро поганых с земли нашей сгоните. Сил больше нет, Кондратушка, терпеть супостатов проклятых… В Хаджибее ныне слух прошел среди наших, что скоро туркам конец. Вот я этой ночью присматривал за скотиной на выпасе, вздремнул было маленько, а проснулся — боже правый! Сила несметная идет на Хаджибей. Подполз ближе, пригляделся (звездный воз уже на край неба ушел) — да это ж наши казаченьки да солдатушки. Я в догляд за вами до самой балки шел, не помня себя от радости… Все люди хрещенные радуются, как и я. — Голос старика задрожал, и снова по морщинистым щекам потекли слезы.
Хурделица обнял его.
– Успокойся, диду, скоро ударим по туркам так, что они за море синее убегут.
В тот же день, 11 сентября, войска Гудовича поднялись на Куяльницкую возвышенность. Отсюда, с плоских рыжеватых холмов, было видно море. Оно, словно ширь непаханной земли, манило и волновало сердца солдат и казаков. Во время похода они постоянно называли его ласково, как в старинной песне: морюшко. Когда, бывало, в ночной степи дул влажный, пахнущий иодистыми водорослями ветер, солдаты говорили: морюшко дышит. Когда в походе сталь штыков и чугун пушек покрывались каплями солоноватой росы, то это значило: морюшко слезы шлет. А когда со стороны берега, по степи, начинал клубиться туман, то объясняли: к нам с морюшка белый гость идет.
И теперь, хотя люди понимали, что пришло время смертной битвы, бодрость духа их не покидала. С вершины холма Кондрат зорко всматривался в далекий противоположный берег подковообразного залива. Там он отыскивал знакомые очертания зубчатых стен Хаджибея.
С какой бы радостью, не медля ни секунды, помчался он туда на своем коне и с обнаженной саблей бросился на штурм этого разбойничьего гнезда! Он бы вырвал из плена свою Маринку и по-казацки расправился за ее муки с проклятыми супостатами! Нетерпение охватило есаула. Каждая минута промедления приводила его в отчаяние.
Василий Зюзин, встретив Хурделицу, взглянул на его обострившееся от бессонных походных ночей лицо, пылающие лихорадочным румянцем скулы и понял душевное состояние есаула.