Ратоборцы Югов Алексей
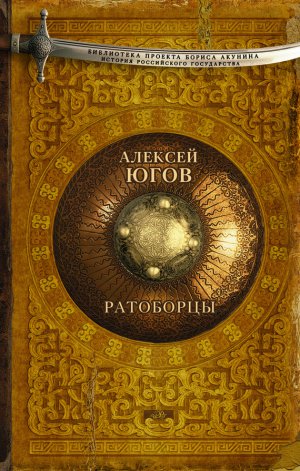
Большинство совета требовало жестокой расправы над Александром.
— Надо обить ему крылья! — прохрипел князь Бурсултай.
— Это не дело — дать ему возвратиться и злую вину его оставить, не покарав!..
— Ты посмотри, до чего дошел в вероломстве своем князь Данило!..
Берке нахмурился. Будучи в походе, он долго не получал вестей от Бурундая, и его беспокоила судьба посланной им на Даниила новой армии.
— А Данило и Александр — это два кулюка, два столпа народа русского! Нехорошо сделал брат твой, что позволил обмануть себя, и они оба вместе покрылись крышею родства и приязни, — закончил свое слово Биутнойон.
Снова заговорил Берке:
— Чего вы хотите от меня? Чтобы я ожесточил окончательно этот затаенно думающий и многочисленный народ?.. Александр — не ильбеги! Он — царь народа, платящего дань… И что я могу с ним сделать?.. Войско свое, об этом вы знаете, он держит вне досягаемости нашей руки, в Новгороде… Если я убью его, то я положу этим пропасть вечной вражды между собою и народом русским. А тогда удастся ли нам дойти через эту страну до океана франков, как завещал дед мой, Великий Воитель? Я знаю, что он, Искандер, обманывает меня. Будем и мы его обманывать. Вы должны помнить: у нас, кроме собственной тени, нет друзей, опричь хвоста лошадиного, нет плети. Конечно, было бы лучше, если бы он отдал руку свою, вооруженную мечом, в распоряжение того, кто охраняет лицо всей земли, но, однако, пойдет в пользу нам и то серебро, которого столько саумов исправно и безотказно доставляет нам Искандер!.. Думайте дальше. Теперь — совет. Завтра — повиновенье! — закончил Берке.
— Не верь Искандеру, хан, — заговорил снова князь Егу. — То, что он садится перед тобою на колени уважения, не означает еще, что очистил сердце свое от помыслов против тебя. Ты говоришь: он привозит много серебра. Но это потому, что серебро не прозрачно и покрышкою из серебра хорошо скрывать свои подкопы.
— Он хочет, он ждет, когда станет подписывать наравне с тобою договорную грамоту. Не нравится ему служилая грамота!..
— Надо обить ему крылья!
— И вслед за тем нанести смертельный удар этому народу! — послышались голоса.
Берке взглянул вверх, на отверстие кибитки, откуда проникал свет, и закрыл свои вывернутые трахомой веки… Эти люди говорили по сердцу его!..
Тем неприятнее ему стало, когда послышался наконец голос и в защиту Невского — голос одного из старейших нойонов Орды, девяностолетнего Огелая.
— Государь! — прохрипел нойон. — Ты знаешь, что в день, когда родился дед твой, Священный Воитель, я ел мясо с пира его… — Берке чуть наклонил голову. Все прочие склонились едва ли не до ковров, на коих сидели. Огелай-нойон продолжал: — Искандер — Грозные Очи — человек, имеющий сильную страну, питающий войско и хорошо содержащий улус свой. Не мешай ему сокрушать враждебных государей!.. Дед твой никогда не убивал сильных государей, и, если только они признавали над собою силу его, он оказывал им почести… Он считал их драгоценными алмазами венца своего!..
Слова Огелая-нойона, священного для татар уже одним тем, что это был сподвижник Чингиз-хана, возымели большое действие. Казалось, многие из говоривших князей и нойонов устыдились всего того, что говорили они против русского князя.
Тогда снова заговорил Чухурху.
— Какие жалкие слова я слышу! — воскликнул он. — Словно бы старая баба говорила!.. Ты недостоин доить кобылицу, Огелай, — тебе корову доить!..
Послышался тихий смешок среди князей и нойонов. Царица обнажила свои крупные зубы, изображая улыбку. Берке закрыл глаза. А Чухурху продолжал гневно и беспощадно:
— Не верь Огелаю, Берке… такие советники расслабляют царство!.. Я воевал под началом брата твоего… Я умею с одного взгляда определять существо человека… Я дважды видел Александра-князя!.. Хорошо иметь сына такого!.. Но если он — не сын тебе, то такого лучше уничтожить, если не хочешь, чтобы он уничтожил тебя!.. Он повелителем смотрит!.. Не может быть двух ног в одном сапоге, не может быть двух государей на земле!..
Одобрительные возгласы послышались в шатре.
И, одобренный этим, Чухурху закончил:
— Тебя смущает, что Искандер-князь копит войска свои в Новгороде — в местности, якобы недоступной тебе. Да, это так, что касается весны, лета и осени. Но как только вода тамошних рек, и озер, и болот станет подобна камню и затвердеет на глубину дротика, наши кони легко пройдут туда, и ты возьмешь Новгород!.. А рыцари-немцы помогут тебе с запада!..
— Да! Мы поможем тебе, великий государь! — послышался голос с чужестранным выговором.
Многие взглянули в ту сторону. Рыжеватый, сухощавый нойон попросил у Берке разрешения говорить.
Это был Альфред фон Штумпенхаузен… Хан разрешил ему слово.
Штумпенхаузен глянул снизу вверх на другого рыжего человека, по виду также не монгола, но одетого в монгольский наряд, — исполина, с чудовищной нижней челюстью и с далеко залысевшим, как бы граненым лбом, с плешью на рыжем кудреватом затылке и с презрительно-полусонным выражением мясистого лица.
Гигант, почувствовав вопрошающий взгляд Штумпенхаузена, молча кивнул головой и закрыл глаза. Это был знаменитый Пэта, полководец Батыя, потерпевший некогда, еще в молодости, пораженье от чехов, плененный ими и за то отставленный от вождения войск, однако приобретший едва ли не большую власть в Орде — как советник по делам Руси и Европы.
И надо сказать, они со Штумпенхаузеном не напрасно ели ордынскую конину и баранину. Пэта, или, иначе, Урдюй, зналтаки европейские дела, ибо родом был англичанин из Лондона и не из последних рыцарей среди тамплиеров!
— Ты благоволил мне приказать говорить, — начал свою речь Штумпенхаузен. — Не скажут ли другие покоренные государи: «Этому Александру прощается все… почему бы и нам не пойти его стопами?» И не забудь, хан: в древности еще одного воителя звали Искандер!
Заметив, что при этих словах лицо хана передернулось, Альфред испугался.
— Ты благоволил мне приказать говорить, — повторил он.
Однако Берке и не думал гневаться.
— Александр осторожен и осмотрителен: он умеет ступать, не оставляя следов!.. Он чтит наши обычаи, как никто! — сказал хан.
— Да, он глубоко разведал Орду, как никто! — послышался медлительный и как бы свистяще-шипящий голос великана.
Эту смелость — перебить речь самого Берке — не позволил бы никто другой в Орде, кроме этого англичанина в монгольской одежде.
Все ждали, что сейчас гнев Берке обрушится на него. Но сэр Джон-Урдюй-Пэта оставался невозмутимо спокоен.
Берке часто-часто заморгал слезящимися веками, на лице его изобразилось любопытство. Разрешение говорить произнесла за него ханша.
— Говори, Урдюй! — благосклонно сказала она. — Ты хорошо знаешь этих русских и Александра. Что же ты посоветуешь нам? Чем должны мы почтить приезд этого князя?
— Колодка для столь могучей шеи — самое лучшее ожерелье! — ответил Урдюй. — Александр силен, как Самсон, о котором повествует наша священная книга — библия. И если дать ему хорошую пару жерновов, то он намелет в день ячменной муки столько, что хватит для дневной потребы всего твоего двора!.. Он будет молоть спокойнее, если над ним сделать то же самое, что филистимляне сделали над Самсоном.
— А что они сделали над ним? — спросила ханша.
— Они ослепили его! — ответил сэр Джон-Урдюй.
Англичанин добавил:
— Братья-рыцари уведомили меня только что: Александр подымал на тебя грузин.
Лицо Берке пошло синими пятнами. Сэр Джон-Урдюй увидал, что отравленная стрела его попала в цель.
Берке сидел некоторое время молча. Затем, вздохнув, произнес, как бы обращаясь не к одному Джону-Урдюю, но и ко всем присутствующим:
— Было бы далеко от пути царственного гостеприимства, если бы государя чужой страны, прибывшего к нам с изъявлениями данничества и послушания, мы ослепили бы или предали бы иной какой казни!.. Это дурно отразилось бы на готовности прочих царей и владетелей безбоязненно приезжать к нам… Когда бы Искандер-князь оскорбил какое-либо из священных установлений наших, и я поступил бы с ним, как поступают с тем, кто осмеливается попирать ногою порог шатра, — в этом случае я не был бы осужден от людей благочестивых и мудрых!
— Потребуй от него совершить нечто такое, что возмутило бы в нем гордость! Поступи с ним так, чтобы он не стерпел! — сказал Джон-Урдюй.
До самой поздней осени 1262 года Невский и сопровождающая его дружина и придворные принуждены были следовать за кочующей ставкою Берке. Это было похоже на лишение свободы. Правда, в самом русском стане Александр не был стеснен ни в чем и поступал и действовал как вполне самостоятельный государь, чье стойбище на время прикочевало бы к стойбищу татарского царя. Невскому не препятствовали даже развлекаться соколиной охотой, творить над своими суд и расправу, принимать и отправлять гонцов, однако ему упорно не давали возможности увидеть хана и в то же время не отпускали домой.
Требовать свидания с ханом — это, по ордынским обычаям, было бы делом неслыханным: жди, когда позовут! Однако Александр пытался через своих приятелей в ставке хана, которых было у него немало, добиться аудиенции. Одни обещали помочь, другие лишь разводили руками.
За это время стан сторонников Александра в Орде понес большую потерю: суд нойонов приговорил царицу Баракчину к смерти через утопление в мешке, набитом камнями, что было и приведено в исполнение. Баракчину изобличили в тайных пересылках с ханом Хулагу. Был пойман гонец из числа ее личных подданных. При нем не нашли никаких тайных писем или сообщений, но только ханский халат без пояса и стрелу, у которой выдрано было оперение. Это означало: «Золотоордынский улус не подпоясан и плохо вооружен: стрелы его не могут летать прямо и далеко. Не бойся Берке!»
Александру Ярославичу почему-то до боли сердца сделалось жаль эту маленькую, кичливую, с птичьим голосом и лицом юного Будды монголку, некогда супругу Батыя, о которой они когда-то — о, как это было давно! — снисходительно посмеиваясь, беседовали с Даниилом в глухом возке, мчавшемся среди буранной ночи по льду Волги.
После этого убийства еще больше усилилась мучительная тоска, часто посещавшая Невского в последнее время. Ему представилось, что он сам словно бы с жерновом на шее опущен на самое дно монгольского океана и что уже не подняться ему оттуда вовек.
Выматывали душу незваные гости! Иные из них были явно подосланы, и Александр видел это. А что ж было делать? Не отказать же в приеме князю правой руки Егу или нойону Чухурху? Не выгнать же их! И вот часами сидели, уплетая баранину, выпивая по доброму меху вина. Русский кравчий за голову хватался: «Олександра Ярославич, ну съедят они нас… не напасешься!..» В поварском шатре роптали и ругались повара: «Ордынскую утробу — разве ее насытишь?»
Досадовал и Александр: отымали время! А потом, наверстывая, приходилось засиживаться за полночь со своими дьяками, сверяя свои ясашные книги со свитками ихних дефтерей, где записывались — и, увы, довольно-таки недобросовестно! — русские дани и выходы.
Китат уже несколько раз грозил Ярославичу:
— Народу у тебя много, а ясак мал привозишь. Укрываешь народ свой?..
И затихал на время, получив очередной слиток серебра, или шкурку соболя, или золотой перстень.
Любили подарки!..
И все эти князья правой и левой руки, батыри и нойоны, сидя за кумысом, бараниной и вином в теплом, зимнем шатре Александра (ибо уже осень стояла), соглядатайствуя и вымогая подарки, находили явное наслаждение в том, чтобы с таинственным видом сообщать Невскому о намерениях Берке — сегодня одно, а завтра другое и прямо противоположное.
— Ай, ай князь! — говорил, к примеру, Чухурху. — Плохо твое дело — хочет приказать умереть тебе без пролития крови!..
Это означало, что Александра задушат тетивою лука.
Проходил день-другой, и тот же самый гость сообщал Александру, захватывая китайскими костяными палочками грудку плова и отправляя ее в рот:
— Все хорошо, Искандер, все хорошо: одной ногой ты вынес душу из бездны гибели на берег спасенья! В ряду царевичей будешь посажен.
А в следующее посещение Невский принужден был выслушивать рассказ о новом повороте своей судьбы:
— Царь решил не убивать тебя. Но ты будешь до конца дней своих молоть на жерновах с волосяной веревкою на шее…
И это один за другим, изо дня в день неделями и месяцами!
Но однажды в шатер Александра был впущен и заведомый друг: сын того самого девяностолетнего Огелая, который на чрезвычайном совете нойонов советовал хану как можно бережнее обойтись с Невским. Сыну Огелая было около семидесяти лет. Его послал к Невскому с предупреждением отец.
— Князь, — говорил участливо татарин, — повяжи себе на чресла пояс повиновенья… Злоумышляют на тебя!.. — Сын Огелая опасливо оглянулся на войлочные стены шатра, обтянутые шелком, с вытканными на нем птицами и цветами, и придвинулся к самому уху Александра. — А лучше всего, князь, — сказал он, — в момент благоприятного случая ударь плетью коня и гони, чтобы не догнали тебя!..
…Великое кочевье приближалось меж тем к пределам Сарая. Александру стало известно, что кочевой столице Орды предстоит великий выход хана и прием царей, владетелей и послов.
«Ну, значит, и меня приберегал, старый паршивец, для сего случая, чтобы похвалиться мною!» — подумал с горечью Александр.
Догадкой своей он близок был к истине.
У ордынских ханов существовал обычай, чтобы время от времени, на больших курултаях, дабы явить свою славу и для устрашенья народов, совершать восхождение на трон по согбенным спинам и головам побежденных царей. Стоя на коленях, каждый на своей ступеньке, они изображали как бы живой примосток к трону. Ставили шестерых — трое на трое — так, что супротивные друг другу соприкасались теменем низко склоненных голов.
Четвертая пара побежденных владетелей должна была лечь плашмя ничком, прямо на полу, дабы не пришлось хану высоко подымать свои ноги.
По обе стороны престола стояли грозные телохранители с обнаженными ятаганами. О таковых пела песнь: «Если колоть их в глаз — не моргнут. В щеку — не посторонятся!..»
Главный вазир ханского двора Есун-Тюэ, хрипящий от жира маленький татарин-мусульманин в большой чалме, явился к Невскому, в его шатер, и передал веленье хана, чтобы Александр занял место в живой лестнице перед троном. Но тщетно жирный вазир впивался глазами в лицо Александра: и ресница не дрогнула.
— Скажите хану, что его воля будет исполнена.
Берке с нетерпением ждал возврата Есун-Тюэ.
— А что сделал он? — спросил Берке.
— Ничего, государь, — отвечал вазир. — Он смотрел как голодный беркут, прикованный к рукавице охотника. Однако отвечал почтительно и сказал, что исполнит волю твою, государь.
Берке откинулся на спинку трона и закрыл в блаженстве глаза…
…И вот наконец настал для Александра страшный миг еще неслыханного в их роду, в роду Мономаха, униженья. Он — гроза тевтонов и шведов, тот, кто при жизни проименован — Невский! — он стоит на коленях, на самой первой от ханского трона ступеньке, и ощущает упругим касанием своих волос темя чьей-то склоненной головы, какого-то осетинского князька, приведенного к покорности.
Судя по тому затаенному шороху, который послышался вдруг в жарко надышанной огромной юрте приемов, хан уже выступил из своего спального шатра, сейчас выйдет в дверь и двинется к трону. Сейчас он, Александр, почувствует на затылке, на шее, подошву ханской туфли… Ворот кафтана становится тесен Невскому. Жар бьет в опущенное лицо. Узоры ковра плывут… «Ну, погоди ж ты, ишачий выкидыш! — думает, стиснув зубы, Александр. — Только бы вырваться, а будешь ты у меня лайно возить из-под мужиков новгородских».
Слышится громкий голос распорядителя шествий:
— Александр — князь русских! К тебе слово от господина соединения планет и времени и от повелителя сорока племен и народов, от Берке-хана: хан и нойоны его изъяснения твои касательно мятежа и злоумышлении в народе твоем порешили принять во внимание. Вину твою смягчаем. Будь гостем! Прошу тебя, выйди и займи твое место в ряду царевичей!..
Распорядитель шествий протягивает Невскому руку и помогает встать с колен. Мальчик-прислужник подносит Александру в золотой чаше кумыс. Это кумыс особый. Они именуют его кара-кумыс — это напиток господ и высоких гостей. Беднякам и незнатным не полагается его пить…
С молчаливым поклоном Александр принимает чашу… Между тем на его место в живой ступени уже поставлен кто-то другой из владетелей: очевидно, тот, чья шея, по выражению татар, оказалась чрезмерно упругой…
Истязующая бессонница. Тоска завела черную руку свою под сердце.
Наконец-то отпущен из этого недостойного балагана, наконец-то один он в войлочной тьме своего спального шатра! Одни и те же образы перед его остановившимся духовным взором, одни и те же думы, размалывающие душу, словно жернов… Князь лежит полуничком, обхватив подушку, прижав ее прохладною стороною, чтобы скорее уснуть.
Истязующая бессонница. Хочется дотянуться рукою до колокольчика и позвонить, чтобы отрок позвал Настасьина: дал бы чего-либо усыпляющего, — а меж тем недостает силы, чтобы поднять руку… Снаружи доносится упругий и все наддающий и наддающий шум проливного дождя о шатровую крышу. «Этак вот, верно, и с ума сходят! — подумалось Александру. — Надо, надо заснуть!.. Все ужасное еще впереди, это только цветочки!.. Сон — телу строитель!..»
Александр понимал, что его решили убить. Иначе разве осмелились бы подвергнуть его столь неслыханному глумленью?.. Только предопределив ему смертную участь, осмелились они так поступить с ним!..
…Тяжко прошла зима… Князь стал прихварывать. Однако на людях он показывался неизменно добрым, дышащим уверенностью и силой. Он ободрял своих:
— Ничего, ничего, ребятки! Тоску свою — под сапог! Уж как-нибудь уладимся с ханом… Скоро женушек, детушек своих обымете!.. Да смотрите, татарушками здесь не обзаведитеся! Знаю я вас, вы у меня народ удалой!
И не привыкшие к такой шутке князя дружинники смеялись:
— Ну, что ты, государь, что ты, Александр Ярославич!.. От русской женщины разве на чужестранных посмотришь?.. Да все равно как щепки под ногой: и видишь их и не видишь!..
…Однажды Александр, сидя на ложе своем, укутанный плащом на меху, придвинув к самой тахте стол, просматривал ясашные свитки. Настасьин подавал ему требуемые столбцы. Посредине кибитки тлел очаг. Время от времени юноша вставал и подбрасывал в пламя кусок сухого аргала.
— Да, — сказал князь, глядя через стол, как возится Григорий у очага, — полено увидал бы наше, русское, березовое, и то легче бы стало!.. Топят какой-то дрянью!.. И огонь не тот… не русский… не греет, все время зябну… И никогда со мной этого не бывало!..
Омыв руки из кружки над ведром, юноша возвратился к прерванному занятию. Несколько раз, украдкою от князя, он всматривался в его лицо. Затем, застыдившись немного, задал князю некий вопрос как врач.
Невский тоже несколько смутился.
— Вот ведь ты какой у меня, а? — удивленно и одобрительно произнес он. — Читаешь, как в книге. Третьего дня я и сам обратил внимание, будто бы чуть с кровью стал помачиваться…
И тогда в откровенной беседе юный медик высказал подозрение, что князя отравляют.
Александр Ярославич на мгновенье нахмурился, а потом спокойно сказал:
— Весьма возможно. У них это в ходу. Родителя моего зельем опоили… в Большой орде… Правда, поварня у нас своя… но ведь корм, продовольствие — все у них покупаем. Не уследишь! Да и ведь то и дело у них приходится пить-есть… Не со своим же будешь к ним в гости ходить!.. А без того в Орде нельзя…
Приглушив голос, да и то не прямо, а иносказаньем, Настасьин отважился посоветовать князю бегство.
— Александр Ярославич… государь… — сказал он. — «Комонь во полночи Овлур свистнул за рекою: велит князю разумети: князю Игорю не быть!..» Александр Ярославич, — прижимая руки к груди и умоляюще глядя на князя, — беги, государь!.. Ведь тебя и народ заждался!..
Пламя гнева вспыхнуло в глазах Александра. Синие глаза его потемнели. Нет, нет! — то не человек, то Держава смотрела из его глаз!.. Юноша побледнел.
— Замолчи! — сказал Александр. — Не таким народ меня ждет — не наводчиком поганых!.. Чтобы я бежал?.. Да они только этого и ждут, татары! Еще след коня моего не остынет, а уж триста тысяч сих дьяволов начнут резню по всей Владимирщине!.. Что я на них кину, кого?.. Земля обезлюдела!.. Отборный народ погибнул, ратник!.. Десять лет тому назад нашелся один удалый… ну, да не тем будь помянут, покойник!.. А и доселе кровью, рабством платимся за то… Да что я с тобой говорю про это?.. — с досадою сказал князь. — Не твоего ума дело!.. Знай свое… врач — врачуй!..
Но уж этот ли врач не знал своего дела? Он вовремя заметил подпухлость подглазниц у Ярославича и сейчас же своим лекарством — отваром каких-то трав да еще порошком каким-то — вернул своему князю здоровье.
— Да ты прямо Иппократ! — ласково сказал Невский. — У меня и силы будто прибавилось… право!.. А то совсем занедужил!..
Настасьин взял с князя слово, что ежедневно — и утром и на ночь — Александр Ярославич станет принимать из его рук лекарство. А если князю предстоит выход — посетить когонибудь из нойонов и там принять угощенье, то чтобы из его же, Григорьевых, рук и в глубокой тайне князь принимал бы всякий раз предохранительные против отравы порошки и вдобавок какую-то пахнущую сырым белком яйца болтушку.
Порошки были черные, похожие на толченый, мелко просеянный уголь.
— А ведь похоже, дружок, что ты угольком меня угощаешь! — посмеялся Невский, рассматривая разболтанный в воде порошок.
Настасьин обиделся.
— Государь, — сказал он, — уж в моем-то деле дозволь мне…
— На шутку не обижайся, Гриша, — сказал Невский. — Я тобою сверх меры доволен!..
Однако в той же мере, в какой доволен был своим врачом великий князь Владимирский, был гневен на своего врача хан Золотой орды.
Наедине, в спальном шатре своем, разъяренный хан схватил теленгута за его льняную бородку лопаточкой и рванул ее книзу.
— Ты лжец и самозванец!.. Ты бессильный и невежественный обманщик! — кричал он. — Ты говорил, что он через месяц не сможет сесть на коня! А вчера ему привели еще не знающего подков скакуна, и Александр-князь своею рукою укротил его!.. Я прогоню тебя!.. Я пастухом овец тебя сделаю!..
Голова теленгута моталась из стороны в сторону, вослед ханской руки.
Отпущенный, он горько восплакался.
— Хан! — говорил старый отравитель. — Я не обманывал тебя! Я видел сам, уже болезнь показала ему лицо свое… Но разве есть трава, против которой не было бы другой травы? Разве есть яды, на которые природа и мудрость медика не нашли бы противоядия?.. Его спасли. Возле него есть умудренный в нашей науке человек. Дозволь мне испытать еще одно средство…
Готовый к верховой вечерней прогулке перед сном и уже натянув длинные, вишневого цвета, ездовые кожаные перчатки с раструбом, Александр стоял перед серебряным полированным зеркалом, что держал перед ним отрок, и поправлял надетую слегка набекрень невысокую шапку с бобровым околышем и плоским верхом из котика.
Вошел Настасьин, обычно сопровождавший его на прогулках.
— Сейчас иду, — сказал Александр, думая, что его юный доктор пришел напомнить, что кони заседланы.
— Государь, — сказал Настасьин, — там опять у тебя двое ждут… бояр ихних!..
Невский выругался с досады:
— А пес бы их ел совсем! Покоя нету от них!.. Уже и на ночь глядя приходить стали!..
Он отложил выезд и проследовал в свой приемный шатер. Войдя, он не вдруг при слабом свете свечей рассмотрел, кто перед ним. Двое людей, один — огромного роста, другой — маленький, в больших татарских шапках и в стеганых тангутских халатах, поднялись при его появленье.
Он, слегка поклонясь, приветствовал их по-татарски, именуя князьями и прося их почтить его жилище гостьбою и приятием трапезы. И только тогда рассмотрел их: это были Альфред фон Штумпенхаузен и сэр Джон-Урдюй-Пэта.
На мгновенье оторопевший Невский поднял правую руку, как бы запрещая им садиться.
— О нет! — воскликнул он. — Для холуев ордынских у меня — там вон, возле поварни, корыто для объедков!.. Туда прошу!..
Александр слегка отступил в сторону и рукою в перчатке показал на дверь.
— И ряженых я тоже не звал — не масленая неделя!.. Ну? — нетерпеливо вскричал он. — Вон отсюда!..
Штумпенхаузен мигом очутился у двери.
Рыжий гигант остался на месте.
— Меня не испугаешь, князь, — сказал он. — Я — Пэта!.. Ты радуешься, что ханский сапог не наступил на твой затылок, на твою русскую выю… Напрасно!.. Из ханской кладовой принесена уже добрая тетива, и, быть может, завтра же тебя удавят. Дай пройти!..
Джон-Урдюй толкнул князя кулаком в плечо.
— Ах ты, Иуда!.. паршивец!.. наемная собака татарская! — во весь голос заорал князь, уже не помня себя.
И рукою, от одного удара которой оседали на задние ноги могучие степные кони, Александр швырнул рыжего исполина на колени перед собой, скинул перчатку и, голой рукой взяв тамплиера за горло, сломал ему гортанные хрящи.
— Ну вот, — с тяжелым дыханьем сказал он, — и без тетивы!
Кровь пошатывала его!.. Он вышел из шатра. Вороной конь рвал копытами землю… Александр вскочил в седло и принял повод.
— В шатер не допускать никого! Я скоро буду здесь! — приказал он.
Невский сам решил уведомить ханского букаула, что проникший в его шатер рыцарь Пэта, посмевший оскорбить его, убит им на месте…
Тоскливый посвист ветра… Черная холодная степь… Кибитки, озаренные луной. Лай собак. Александр поднял голову, взглянул на небо. Вспомнились Переславль, Новгород, Дубравка… «Боже мой, как далеко все это… словно бы из темного колодца гляжу!..»
Слегка ущербленная с краю луна была словно татарская запрокинувшаяся башка в тюбетейке…
…Когда Александр, не застав букаула, вернулся в свой стан и вступил в шатер и глянул на то место, где распростерт был труп тамплиера-англичанина, то он так и оцепенел, окованный ужасом: труп исчез!..
Не мог ведь ожить он, не мог уползти сам: ощущенье, оставшееся на пальцах и в ладони Александра, слишком явственно убеждало в этом. Рыцарь, несомненно, был мертв. Но тогда кто же мог унести мертвое тело?
Александр позвал стражу: вошли два воина и с ними — шатерничий.
— Кто входил? — крикнул Александр.
Воины сперва стали клясться, что никого не впускали, но затем припомнили, что лекарь княжеский Григорий был впущен ими, ибо они знали, что он всегда вхож в спальный шатер князя, даже и в полночь…
Ужасная догадка мелькнула в мыслях князя.
— Боже мой, безумец мой милый, что ты наделал?.. — крикнул он и кинулся к боковине шатра: ну, так и есть, вот и снег, вброшенный ветром под плохо опущенную стенку шатра. Сюда, значит, и проволок его, мертвого Урдюя-Пэту, бедняга Настасьин. Увидя, что в шатре валяется труп знатного татарина, испугался за князя… А дальше все было ясно!..
Князь нарядил тот час же во все стороны стана тайный поиск из самых надежных и молчаливых дружинников, во главе с Михайлой Пинещиничем, как человеком, показавшим неоднократно редкостную сообразительность и хладнокровие. Приказано было искать Настасьина. Приказано было, без малейшей огласки, во что бы то ни стало, найти его…
Утром, один за другим, измученные и угрюмые воины вернулись ни с чем…
Но Гриша Настасьин в это время уже был схвачен в степи конным дозором татар. Его подстерегли и схватили как раз в тот самый миг, когда он приготовился сбросить в овраг тело убитого Пэты.
— Ты убил?! — закричал на него начальник ордынской стражи, когда Настасьина доставили к нему на допрос.
— Я, — спокойно отвечал юноша.
На дальнейшем допросе он рассказал, будто рыцаря он убил в запальчивости за то, что тот оскорбил его, Настасьина. А опомнившись, решил, дескать, скрыть следы своего преступления. На этом своем показании он стоял твердо.
Согласно законам Чингиз-хана, чужеземец, умертвивший ордынского вельможу, подлежал смертной казни немедленно. «Если, — гласил этот закон, — убийство было совершено после заката солнца, то убийца не должен увидать восхода его!»
Так бы все и произошло, но начальник ордынской стражи видал этого русского юношу в свите князя Александра и знал, что это личный врач князя. Поэтому решено было доложить обо всем самому хану Берке, вопреки строгому запрету беспокоить хана ночью.
Сперва разбуженный среди ночи Берке злобно заорал, затопал ногами на стражника, пришедшего будить хана, стал грозить ему всякими ужасами, но сразу же поутих, как только узнал, что преступник, приведенный на его суд, не кто иной, как лейб-медик Александра, тот самый медик, которого старый тангут сравнивал с Авиценной и против которого признавал свое бессилие…
…Хан Берке был не способен перенести, чтобы у кого бы то ни было из окрестных государей, князей, владетелей был в их соколиной охоте сокол или кречет резвее, чем у него. И те, кто знал об этом и хотел угодить верховному хану Золотой орды, приносили ему в дар своих лучших охотничьих птиц…
В ту памятную ночь, когда впавший в неистовую ярость Берке тряс за бороду своего тангута-отравителя и вырвал у него признание, что против Настасьина он бессилен, хану долго не спалось. Как?! У русского князя его личный медик бесконечно превышает познаниями прославленного медика, который обслуживает его самого, Берке?! Не есть ли это позор ханскому достоинству — такой же, как если бы чей-либо кречет взвивался выше и сильнее бил птицу, чем ханский кречет?!
И вот сейчас перед ним предстанет этот самый чудесный юноша врач, предстанет как преступник, обреченный казни! И в злобной радости, в предвкушении полного торжества своего хан Берке немедленно приказал одеть себя, а затем ввести Настасьина.
Настасьина ввели в его шатер со связанными руками. Он молча поклонился хану, восседавшему на подушках, брошенных на ковер.
Берке отдал приказание после тщательного обыска развязать юношу. Рослые телохранители стояли по обе стороны шатерного входа и по обе стороны от Берке.
Настасьин спокойно оглядел хана. Берке был одет в шелковый стеганый халат зеленого цвета, с золотою прошвою. На голове шапка в виде колпака с бобровой опушкой. Ноги старого хана в мягких красного цвета туфлях покоились на бархатной подушке.
Настасьина поразило сегодня лицо Берке. Ему и раньше приходилось видеть хана, но это всегда происходило во время торжества и приемов, и щеки Берке, по обычаю, были тогда густо покрыты какой-то красной жирной помадой. А теперь дряблое лицо хана ужасало взгляд струпьями и рубцами.
Не дрогнув, повторил Настасьин перед ханом свое признание в убийстве.
— А знал ли ты, — прохрипел Берке, — что ты моего вельможу убил?
— Знал.
— А знал ли ты, что, будь это даже простой погонщик овец, ты за убийство его все равно подлежал бы смерти?
— Знал, — отвечал Настасьин.
Воцарилось молчание. Затем снова заговорил Берке.
— Ты юн, — сказал он, — и вся жизнь твоя впереди. Но я вижу, ты не показываешь на своем лице страха смерти. Быть может, ты на господина своего уповаешь — на князя Александра, что он вымолит у меня твою жизнь? Так знай же, что уши мои были бы закрыты для его слов. Да и закон наш не оставляет времени для его мольбы. Ты этой же ночью должен умереть, говорю тебе это, чтобы ты в душе своей не питал ложных надежд!
Настасьин в ответ презрительно усмехнулся.
Берке угрюмо проговорил что-то по-татарски.
Стража, что привела Настасьина, уже приготовилась снова скрутить ему руки за спиной и вывести из шатра по первому мановению хана. Но Берке решил иначе.
— Слушай ты, вместивший в себе дерзость юных и мудрость старейших! — сказал старый хан, и голос его был полон волнения. — Я говорю тебе это, я, повелевающий сорока народами! В моей руке законы и царства. Слово мое — закон законов! Я могу даровать тебе жизнь. Мало этого! Я поставлю тебя столь высоко, что и вельможи мои будут страшиться твоего гнева и станут всячески ублажать тебя и класть к ногам твоим подарки! Оставь князя Александра!.. Над ним тяготеет судьба!.. Своими познаниями в болезнях ты заслуживаешь лучшей участи. Моим лекарем стань! И рука моя будет для тебя седалищем сокола. Я буду держать тебя возле моего сердца. Ты из одной чаши будешь со мной пить, из одного котла есть!..
Презрением и гневом сверкнули глаза юноши.
— А я брезгую, хан, из одной чаши с тобой пить, из одного котла есть! — воскликнул гордо Григорий Настасьин. — Ты кровопивец, ты кровь человеческую пьешь!
Он выпрямился и с презрением плюнул в сторону хана. Грудь его бурно дышала. Лицо пламенело.
Все, кто был в шатре, застыли от ужаса.
Берке в ярости привстал было, как бы готовясь ударить юношу кривым ножом, выхваченным из-за пояса халата. Но вслед за тем он отшатнулся, лицо его исказилось подавляемым гневом, и он произнес:
— Было бы вопреки разуму, если бы я своей рукой укоротил часы мучений, которые ты проведешь сегодня в ожидании неотвратимой смерти!.. Знай же: тебе уже не увидеть, как взойдет солнце!
Юноша вскинул голову:
— Я не увижу — народ мой увидит!
…Эта ночь была последней в жизни Настасьина.
Князь лежал, закинув руки под голову, тяжело дыша и вперяя очи во тьму.
Александру сильно недужилось.
С ним в шатре пребывал теперь неотлучно Михаила Пинещинич. Новгородец то и дело подходил к постели князя и спрашивал: не подать ли ему чего? Может быть, снегу набрать в ведро да холодную тряпицу поприкладывать к голове — жар отымает?!
— Спи ты, пожалуйста!.. Пройдет!.. — трудно и досадуя ответствовал князь.
Новгородец тяжело вздыхал…
Неладное творилось с Ярославичем: он чувствовал нарастающий жар, бред, понимал, что это болезнь, и не мог никак отделаться от чувства, будто пылающее жаром лихорадки тело его стало необъятно огромным… Шатер чудился ему как бы огромным, обитым кошмою гробом, в который велено было ему лечь, дабы примерить — по росту ли? Слова кружились все одни и те же:
«Гроб!.. Крышка пришлась. Как на Святогора. Не выйду… Гроб…»
Князь всю ночь не смежал очей. Под утро забылся. Солнце принесло облегченье. Взор стал снова ясен и тверд.
К полудню князю и вовсе полегчало. Он встал, обулся в легкие валенки, чтобы не дуло в ноги, поразмялся сперва по шатру и, откушав, сел за работу — за разбор грамот и донесений, а потом стал диктовать письма и распоряженья на Русь.
Посланный от хана Елдегай известил Невского, что ему надлежит явиться сегодня на прощальную аудиенцию к хану…
Срочно велено было готовить прощальные дары хану Берке и Елдегаю и достойные подарки четырем ханшам: тем, которые пребывали на точке полного уваженья; каждая получила по кафтану из черных соболей, а Тахтагань-хатунь — зимний халат из выдры и такую же шапку.
Михаила Пинещинич чуть не заплакал, видя, что этакое добро уходит из русской пушной казны — и на кого же!..






