Ратоборцы Югов Алексей
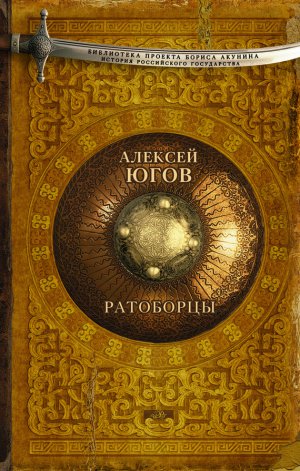
И княжое слово опять взяло верх.
Но и противники его не унимались. Опять все чаще и чаще стали раздаваться из толпы выкрики и жалобы:
— Пошто хлеба не даешь новгородцам с Низовья? Слыхать, в Татары весь хлеб гонишь!..
— Голодуем, княже! Обезножели, оцинжели!.. Ребятишки в брюхо растут!..
— К соли подступу нет — за две головажни куну отдай! Куда это годится?
— А хлеб? Осьминка ржи до гривны скоро дойдет!
— Богатинам пузатым — им что? Не чутко!.. Купцы да бояре — большие люди — оборони господь!
— Ты бы так сделал, как при Михаиле-князе, при посаднике Водовике: тогда селянину добро было. На пять лет льгота была смердам не платить!..
Невский нахмурился: этот выкрик о сопернике его отца, о князе Михаиле Черниговском, и о посаднике Водовике мало того, что был ему крайне неприятен, — он показывал, что враждебные ему силы — сторонники князей Смоленских, Черниговских, а и купцы западной торговли — опять осмелели.
Насторожились и посадник и тысяцкий. Расторопнее задвигались, беспокойно засмотрели и вечевые служители — биричи, и управлявшие ими — подвойские.
Вечевой дьяк со своими двумя помощниками, вечевыми писарями, устроившимися на ременчатых складных стульях под рукой посадника Михаилы, тоже принял какие-то свои чрезвычайные меры, дабы встретить надвигающуюся бурю во всеоружии. Он что-то шепчет на ухо и тому и другому из писарей.
На коленях как того, так и другого писаря поставлен прикрывающий колени невысокий, из некрашеного дерева, крытый ящик, с покатой кпереди столешницей. В этой столешнице, на верхней кромке, врезана чернильница — глиняный поливной кувшинчик. В правом углу, на той же кромке, из круглого отверстия белеется усатый пух гусиных перьев, очиненных для писания. Перед лицом каждого из писарей, упираясь нижним обрезом в кромочку на доске, лежит по тетради из выбеленной, как бумага, телячьей кожи, — пергамент, телятинка.
Ни тот, ни другой писец не смеют занести что-либо в тетрадку, покуда вечевой дьяк не скажет, что именно. Телятинка до того дорога, что сплошь и рядом предпочитают соскоблить старую запись, чтобы нанести новую. А потом и эту соскоблят, когда придет час еще что-нибудь записать…
Однако тот, что сидит поближе к посаднику, — писарь, в синей скуфейке, сильно выцветшей, в стеганом, ватном подряснике, длинноволосый, — не дожидаясь дьяка, заносит в свою тетрадку какие-то записи.
Его все знают в Новгороде: это пономарь церкви Святого Иакова, Тимофей Локоток, уж более десяти лет — самочинный, без благословенья владыки, как бы непризнанный летописец великого города. Ему и пергамента не дают — покупает за свой счет, принимая иной раз за это жестокую трепку от своей пономарихи. Чтобы подработать на телятинку, он взялся быть вечевым писарем.
Придя домой, он впишет в свою большую, в досках, покрытых кожей, пергаментную летопись и сегодняшнюю затаенную запись:
«Безвестные проходимцы смущают народ. Народ мятется, что рыба в мотне. Ох, ох, Александр наш Ярославич, бедной… не покинул бы он нас! Что тогда станем делать?! Сыроядцы, детогубцы, татары проклятые дани требуют. Народ вопит на князя великого, на Александра. Александр Рогович, а мирски — Милонег, который горнчар, иконник у владыки, а и на потребу людскую горшки делает, кувшины, сильную злобу в людях подымает на князя на Александра. Ох, да и увы нам, грешным! А видно, опять быть крови пролитию: вчерась плакала богородица в Людине конце!..».
…Вече клубилось!.. И самые крики, казалось, тоже как бы схлестывались, переплетались, дрались и рушились книзу в сизом ноябрьском воздухе — и сызнова подымались. Уж трудно было понять стороннему, что здесь происходит и кто чего добивается. Однако сами хозяева — те прекрасно разбирались, кто чего хочет и кто за кого тянет.
— Господа новгородцы, тише! Хочу речь к вам держать! — восклицает во весь голос посадник Михаила Степанович и слегка поднимает посадничий жезл свой, с короткой, слегка изогнутой рукоятью. Седая борода глушит его голос. — Господа новгородцы, вы все хорошо знаете, кто я и какого кореня! Кто еще в Новгороде за меньших, за весь господин Великий Новгород, столько пострадал, как покойный родитель мой?! А и меня помнят не последним в битвах те, кто пути военные деял с князем!..
Слева от помоста, где сбился люд во главе с Александром Роговичем, раздается один крик, потом другой, третий:
— Ты нечестно посадництво принял!
— Нашего выбора на тебе нет! Князь Олександр тебя ставил!..
— Ты пошто под Ананьей копал?
— Мы мертвую грамоту на тебя положим!..
Старик пытается отойти шуткою:
— Да уж знаю, господа новгородцы! — говорит он. — И сам ведь бывал молод — шумливал на вече: известно, посадник — всему миру досадник!..
Но его уже не слушают. Крики Гончарского конца (а он же — и Людин конец) перекидываются на Александра.
— Князь! — орут ему. — Ты пошто посадника Ананью лишил? Ты нам хрест целовал: без вины мужа не лишать!..
— Хуже его вины нет! — мрачно возражает Александр. — Город русский от Русской Земли хотел отколоть! С мейстером рижским пересылаться задумал!.. Да я бы его и казни предал, да только чести вашей уважил — что посадник новгородский!..
— Самодержец! — несутся в ответ ему, и все из того же края веча, неистовые возгласы.
— Обсажался приятельми своими!.. Кого — хлебцем владимирским, кого — землицей, кого — серебром!..
— В ответ кто-то из неистовых сторонников князя оглашает студеный воздух пронзительным вскриком:
— Да здравствует Александр Ярославич!..
Невский улыбнулся.
— Экий вопило! — добродушно и слегка насмешливо говорит он.
И это производит благотворное действие на всех, кто внизу вечевого помоста, — даже и на врагов. И из стана друзей вырывается дружное и уже многоголосое:
— Братья, потягнем по князе!..
— Александр Ярославич на худое не поведет!..
— Суздальские — такие же русски, да взялися по дань!
— Верно. Головою повалим за князя, за Святую Софию!..
Вече начинает перекачиваться на сторону князя Александра.
Однако не этого алчет Александр Рогович со своими. Быстро подходит он к самому краю помоста, на котором стоит Невский и сидят на своих скамьях старейшины Новгорода. Его молодцы проламываются следом за ним и останавливаются крыльями — справа и слева от главаря.
И, вызывающе подняв голову, гончар бросает князю:
— Ты зачем в наши грамоты торговые с немецкими городами вступаешься? Пошто ты грамоты наши любецкие, а и рижские подрал? Не ошибись, князь! С немецким берегом торговля не при тебе стала — не тебе ее рушить! Ты Юрьев у немцев хочешь отвоевать, Нарву, а торговлю нашу в мешок завязал! Кто ты тут есть? Не ты наш князь, а сын твой!..
И это упоминанье о шестнадцатилетнем сыне Александра, о юном Василии Александровиче, словно бы исполинскими кузнечными мехами дунуло в костер вечевой распри. Уже третьи сутки грозный отец-государь держал своего сына в заточении, в земляном порубе. Василий изобличен был в заговоре против отца. Гордый юноша не хотел и помыслить о том, чтобы в его княжение Новгород согласился платить дань татарам. Но отец в этом был непреклонен. И Василий замыслил, вместе с другими роптавшими на Александра боярами и горожанами новгородскими, убить татарских послов, а князя Александра изгнать. Однако Невский вовремя раскрыл заговор сына. И, как всегда, был скор на расправу с изменниками и беспощаден.
— Где наш князь Василей? Куда ты его дел, сына своего? — кричали Невскому из толпы.
— Поставь его перед нами!..
— В темнице он у него! — выкрикнул чей-то голос. — В железа забит князь наш Новгородский!.. Вот он как с нами!..
— Ударил еси пятою Новгород!.. — взревели гневные и грозные голоса.
— Где он? Выведи к нам Василья!.. Отдай нашего князя! Самовластец!..
Александр Ярославич с гневным прищуром глянул вниз на требующий ответа народ.
— Отцу перед единым богом за сына своего ответ держать надлежит — не перед кем иным! — отвечает князь.
— Тебе он — сын, а нам — князь!.. — послышался возмущенный голос.
С мгновенье времени Невский молчал. Затем ответил — и сурово и громко, во услышанье всего веча:
— Вашему суду предан будет! Зане против Новгорода измену умыслил!.. А меня знаете: от меня — пощада плохая: что сын, что брат, а топора от ихней шеи отводить не стану, коли заслужили!.. Скоро сами судить будете своего Василья…
Помолчав, добавил — уже другим голосом: величественным и спокойным:
— Великий князь Владимирский — за всю Землю ответчик!.. А Новгород — не неметчина, не Литва!..
И эти последние слова князя — о предстоящем над Васильем суде и о том, что князь великий Владимирский — ответчик за всю Русскую Землю, словно бы тяжелая плита, легли поверх всего этого вздыбившегося вопля, криков и прекословии и как бы сломали хребтовину сопротивленья.
Александр Ярославич с чувством торжества кинул взор на это необозримое толпище, чьей границей были дальние стены кремля: вече было на его стороне.
Вечевой дьяк с выражением благоговенья на лице, поклонясь, уже протягивал посаднику Михаиле заранее заготовленную грамоту, в которой «весь господин Великий Новгород и младший брат его Псков» изъявляли согласие обязаться уплатою ежегодной дани ордынскому царю.
Княгиня Васса вспыхнула всем своим бледным византийским ликом от внезапного счастья, что в этот поздний час боготворимый ее государь-супруг пришел к ней, на ее половину терема. Она порывисто двигалась по своей опочивальне, берясь то за одно, то за другое, не зная, что ей надо сперва делать.
Наконец она усадила мужа в его обычное кресло, насовала ему за спину и под затылок маленьких расшитых подушек, взяла своими белыми длинноперстыми руками его ноги и уложила их на подножной скамейке, поверх ковровой подушки:
— Ну полно тебе хлопотать вкруг меня, посиди ты хоть немножко! — улыбаясь, проговорил Александр.
Оставив мужа, княгиня Васса зажгла высокий четырехсвещник и вновь подошла к супругу.
— Как я истосковалась по тебе!.. — сказала она и застыдилась.
Зажженные ею свечи лишь немного прибавили света в ее спальне, похожей скорее на келью игуменьи, ибо в комнате и без того было светло от множества больших и малых лампадок, теплившихся перед иконами большого углового кивота.
Большими глазами княгиня украдкой, словно девчонка, взглядывала на супруга, прижимала обе стиснутые руки к груди, слегка прикусывала алые губы и медленно покачивала головою, как бы бессильно осуждая в себе греховное чувство неутихающей, страстной любви к мужу.
Александр отдыхал, вытянув ноги на скамейку, откинувшись в кресле, закрыв глаза. Перед его внутренним зреньем все еще мреяли и метались возбужденные лица только что отбушевавшего веча. Приехав из Новгорода к себе, на Рюриково Городище, сразу после веча, уже ночью, при свете факелов, князь почувствовал себя настолько усталым, почти больным, что не принял вечерних докладчиков, приказал не беспокоить его и прошел на половину княгини.
Сейчас это веянье монастырской кельи, которое прежде раздражало его, было ему даже приятно.
Александр знал, что княгиня его слывет едва ли не святою в народе, подобно высокородной землячке и сроднице своей, Евфросинье Полоцкой.
Княжна Евфросинья приходилась ей бабкою-теткою по отцу. В семье хранился ее молитвенник, и крест, и четки. Еще живы были старцы-монахи, которые видывали княжну Евфросинью, помнили, как отбывала она из Полоцка в Иерусалим, через Константинополь, где она изумляла и услаждала своею беседою патриарха. Еще живы были в Полоцке воспоминанья о глубокой учености княжны, об ее прениях о вере с латынским епископом, коего она посрамила в том диспуте; о том, как трудилась Евфросинья над переводами с греческого и над списанием святоотческих книг. В Полоцке в дни отрочества Вассы еще не разрушены были странноприимный дом, убежище для калечных и больница, созидательницей коих была Евфросинья.
И девочке больше всего на свете хотелось стать такой же святой и милосердной, как тетка. Она возмечтала о монастыре. Но ее на четырнадцатом году выдали замуж за Александра, которому только что исполнилось тогда девятнадцать лет.
Ярослав не скрыл от сына, что город Полоцк — это щит Новгорода и что не беда, если этот щит держат руки Смоленского князя, но поистине бедою обернется дело, если из некрепких этих рук город-щит вырвут руки тевтонского магистра или же Миндовга. Надо было подтянуть Полоцк к Новгороду.
И Александр не противился намереньям и уговорам отца. Свадьбу сыграли в Торопце, но трехдневный пир задан был и всему Великому Новгороду, а иначе новгородцы обиделись бы. «Первую кашу в Торопце чинил, а другую — в Новгороде», — заботливо отметил в день свадьбы князя Александра новгородский летописец…
Первые годы, несмотря на то что брак их был чисто династическим, он любил свою княгиню. Ее строгая красота затмевала полнокровную красоту новгородских боярынь.
Княгиня нарожала ему добрых детей. Сперва — дочку Евдокию (теперь уже второй год замужествует за Константином Смоленским), потом — сынов: Василия, Дмитрия… Васса была хозяйственной и рукодельной; супруга своего она любила страстно, и если бы господь еще умудрил ее войти в державные заботы мужа, то его любовь к ней вряд ли бы иссякла. Ибо, против обычая и нравов других князей, Невский был строг в семейной жизни и глубоко убежден был, что государь, первее всех своих подданных, должен хранить брак честен и ложе нескверно.
Но, к несчастью, Васса оказалась неспособной разделить бремя державных трудов своего супруга. Она признавала это сама, в простоте душевной сетуя на невысокий, не воспаряющий ум свой. Новгорода она боялась. В дни усобиц и побоищ на мосту, в дни грабежей и пожаров она уходила в дальние комнаты двухъярусного терема своего, хотя от буйного города их поместье в Рюриковом Городище отдалено было расстоянием в целых две версты.
Первые юные годы она, бывало, с плачем начинала просить Сашу, чтобы он перебрался совсем в свой тихий Переславль. Особенно когда новгородцы принимались в очередной раз прогонять Александра, показывать ему путь от себя.
— Вот видишь, вот видишь, Саша, — говаривала тогда она юному супругу, пылающему гневом на неблагодарный и строптивый город. — А ты за них жизнь кладешь!.. Да брось ты их совсем: ведь во Владимире тебя ждут не дождутся, на руках будут носить…
— Дура!.. — вырывалось у Александра. Но, увидав ее слезы, он горько каялся в несдержанности своей и принимался утешать ее и оцеловывать от слез ее большие черные глаза. — Ну, полно, полно, не плачь!.. Успокойся: ведь знаешь, какой я!..
И — в который раз! — Александр принимался растолковывать ей, почему для великого князя Владимирского никак нельзя попуститься Новгорода, что такое Новгород для Русской Земли и как худо будет, если немцы, датчаны, шведы совсем оттиснут новгородцев от моря:
— А пока я стою одною пятою на Клязьме, а другою здесь — на Волхове, — не отсадят они меня от моря! Николи!
Неоднократно в такие минуты княгиня Васса грустно говаривала мужу:
— Нет, Саша, разве тебе такая нужна, как я?.. Я разве помощница тебе!.. Только деток твоих лелеять да помолиться о тебе!.. Другому жена нужна, а тебе… царица!
— Ну, пошла, пошла!.. — неодобрительно прерывал ее Александр. — Да полно тебе!.. А вот что замолишься ты да запостишься когда-нибудь до смерти, то это вот верно… Княгиня ведь, не монахиня!..
Его тоска по настоящей государыне-супруге и явилась там, в Переславле, быть может, истинной основой вспыхнувшей в его сердце любви к Дубравке.
Почти с первой же встречи, когда Дубравка покинула свадебный пир, оскорбленная появленьем Чагана, открылась ему в ней прирожденная супруга властителя. «Да! Это не то что моя Васса!..» — думалось ему, как ни стыдился он этих мыслей, как ни боролся с ними.
Александра Ярославича и сейчас раздражала Васса тем, что, любовно хлопоча вкруг него, ради того, чтобы отдохнуть ему телесно, она совсем не полюбопытствовала, откуда он только что приехал, и совсем не заметила, что супруг ее ныне приходит к ней победителем — и победителем из такой битвы с буйным городом, котбрая еще вряд ли когда прежде выпадала на его долю. А он-то шел к ней — и отдохнуть у нее, и рассказать ей, какое страшное вече сегодня переборол он!
И Александру захотелось, в раздражении на Вассу, сказать ей что-либо неприятное и осуждающее.
— Вот что, княгиня, — суровым голосом, которого она страшилась больше всего на свете, молвил он. — Давно собираюсь тебе сказать, да все забываю. Распустила ты этих паломников своих, ходебщиков по святым местам, пилигримов, что дальше некуда! У тебя ведь все — святенькие. Доверчива ты очень. И многие из них и не монахи, не попы. И ни в каком Ерусалиме они и в жизнь свою не бывали. Беглые. От оброка скрываются. От боярина своего бегают. Я вот велю Андрей Иванычу как-нибудь всех их перебрать, кто чем дышит, — эти твои богомольщики, ходебщики — не сидится им дома!
Княгиня Васса смиренно опустила голову.
— Хорошо, Саша, — отвечала она. — Скажу Арефию-ключнику, чтобы строго проверил всех…
Она придвинула к его креслу маленький восьмиугольный столик, накрыла его белым как снег полотенцем и поставила взятые из погребца и для него припасенные курицу и кувшин с кахетинским, и его любимую большую чару, из которой пил в день свадьбы, уж почти скоро двадцать лет тому назад, и которую она свято берегла на эти его приходы.
— А ты? — спросил он, готовясь приняться за еду.
Она покачала головой и смутилась. Он понял.
— Ну понятно, — сказал он, улыбаясь, — ведь пост сегодня… Ну, не осуди!
— Да что ты, Саша!.. Где ж тебе посты соблюдать!.. То — на войне, то — в дороге, то — у татар!.. Да с тебя и сам бог не спросит!..
Александр, как бы в сомненье, покачнул головою.
— Ну не знаю!.. — сказал он. — Хотя на днях Кирилл-митрополит говорил мне: дорожному, да недужному, да в чуждых странах обретающемуся пост не надлежит!..
Тем временем княгиня устроилась на подлокотнике его кресла, взяла блюдо и принялась бережно отделять от костей куски куриного мяса — белые, длинные, волокнистые — и кормить ими Александра и время от времени подносить к его устам чашу с вином.
Он снисходительно-ласково потрепал ее белоснежную узкую руку.
— Да у тебя здесь чудесно!.. — сказал он. — Однако дайкось я сам: люблю с косточки кушать.
Он взял из ее рук остатки курицы и, разламывая и разворачивая своими сильными пальцами сочно похрустывающие косточки, принялся есть с той отрадной для глаза мужественной жадностью, с какою вкушает свою заслуженную трапезу пахарь и воин.
Горячая слеза капнула на щеку Александра. Княгиня, державшая чашу с вином, поспешила поставить ее на место.
Александр перестал есть, поспешно отер пальцы о полотенце на столике и обеспокоенно повернулся к ней:
— Что с тобой?
Она склонилась молча к его голове и плакала. Когда же он стал отымать ее лицо от своего плеча, чтобы заглянуть ей в глаза, она выпрямилась, стряхнула слезы, и у нее стоном горлинки, терзаемой ястребом, вдруг вырвалось:
— Господи!.. А что же Вася-то наш кушает — там, в темнице в твоей, в порубе? — И она зарыдала.
Невский вздрогнул от неожиданности. Он полагал, что ей, матери, ничего еще не известно о заточении сына. Он запретил ей что-либо сказывать. Сам же он хотел сказать, что Василий отбыл на время во Псков.
Стужей пахнуло на княгиню от слов, которыми он ответил на ее жалобный возглас:
— А право, не знаю, чем их там кормят! — сказал он. — Не любопытствовал!.. Да надо полагать, курятинкою не балуют, вином не поят… Приказывал я, чтоб хлеб-вода дадены были…
— Господи! — опять скорбно воскликнула княгиня, глядя молитвенно на иконы. — Да как помыслю, что он, Васенька мой, отрок еще, — и в темнице, с убийцами… и на земле спит, на соломе гнилой, — сердце кровью подплывает! Да что же это такое? — выкрикнула она и заломила над головой сплетенные руки и завыла, как воют простые бабы над покойниками.
Невский вскочил на ноги.
— Чего запричитала? — крикнул он. — «Васенька, Васенька»! А с кем же ему сидеть, как не с убийцами, головниками? А кто он сам-то есть?.. Да он сто крат хуже убийцы. Знаешь ли ты, что сей сынок твой, отрок твой умыслил?.. Нет? Так слушай: Василий ладил послов татарских убить, новгородцев напустить на них. Меня хотел в город не допустить! Ведомо ему было, мерзавцу, что я без полков здесь, да и что дружины при мне не много… Хорош отрок!.. На соломе, говоришь, на земле сырой спит?.. Ничего! В земле ему будет постель постлана… с которой не подымаются!..
При этих неистовых словах князя слезы княгини словно бы враз высохли, рыданья пресеклись. Теперь это была царица, но царица-мать!
— Будет мне плакать! — вскричала гневно она. — У тебя разве сердце?! То жернов! И кто под него попадет, тому не быть живому!.. Да и будь он проклят, этот Новгород твой!..
— Княгиня!
В дверь постучали. Александр подошел и открыл. Сквозь распахнутую дверь к нему поспешно подошел Андрей-дворский. Он был одет по-уличному и запыхался. Приветствовав князя, он проговорил:
— Беда, Олександр Ярославич, — опять мятутся, окаянные!
— Сюда ступай, Андрей Иваныч, — здесь скажешь! — прервал его Невский и втянул за рукав через порог и захлопнул двери.
Он не дал даже перекреститься Андрею Ивановичу на иконы и приветствовать княгиню.
— Ну, что там опять стряслося? — сразу преображаясь, словно взявшийся за гриву коня, готовый вскочить в седло, спросил он.
— Ох, княже! — воскликнул Андрей-дворский. — Опять вече созвонили, другое!.. Повалили все на Торговую сторону, с факелами, — боюсь, сожгут город!.. И все — при оружии, а кто — с дрекольем. Крови не миновать!.. Стражников я укрепил, добавил, сколько мог… а не знаю, удержат ли! Кричат: «Василья-князя отдайте нам!» На посадника, на Михаилу, самосудом грозятся: вышел он уговаривать. Боюсь, Олександр Ярославич, не убили бы старика!.. Сильно ропщет народ!
— Подожди, сейчас выйду, — сказал Александр.
И дворский вышел, закрыв за собою дверь.
Князь обернулся к супруге:
— Вот, вот он, отрок твой, Васенька твой!.. — грозно-угрюмым голосом, в котором, однако, слышались слезы, выкрикнул он вне себя, и прекрасное лицо его исказилось.
Второе вече, в Неревском конце, у церкви Святого Иакова, — вече крамольное — созвонил Александр Рогович — гончар. Да и какое там вече! «Вечити» не давали никому. Не было тут ни посадника, ни тысяцкого, ни дьяка, ни подьячего, ни сотских, ни подвойских, ни биричей: это было диковечье, это было восстание!
— Тут — наше вече! — кричали. — Теперь спуску не дадим!
Сперва, еще в сумерках, народ на князя и на посадника Михаилу копили не здесь, а во дворе усадьбы Роговича. А когда уже столько скопилось, что и забор повалили, то Александр Рогович велел своей дружине перегонять народ на другое место, к церкви, и там бить в колокол.
Слугам и дружине своей велел возжечь факелы, быть при оружии и в доспехах. А кричать велел так: «Бояре себе творят легко, а меньшим — зло!», «Кажный норовит в свою мошну!», «Князь татарам Новгород продал!..», «Дань по достатку надо раскладывать, а не по дворам!», «Посадник измену творит Новгороду, перевет с князем Александром держит!..»
Это и кричали в народе на разные голоса.
Площадь церковная не вмещала людей, а улицы со всех четырех сторон все накачивали и накачивали новые оравы и толпы.
Страшен мятеж людской!..
Сперва взбулгачили чуть не всех своим колоколом. Натекло народу и такого сперва немало, у которого и в мыслях не было супротив самих себя идти: ведь только что отвечили и грамоты вечевые князь-Александру выдали, так чего же уснуть не дают хрестьянам?!
Разузнав, чего домогается Рогович, одни стали заворачивать обратно, сшибаясь на возвратном пути с теми, кто приваливал к Роговичу, а другие и в драку ввязались. Жерди, колья, мечи, сабли, буздыганы и копья — все пошло в ход!
Завзятый вечник — небогатый мужичонка Рукосуй Иван ввертелся в толпу с диким воплем, показывая всем разодранную и окровавленную на груди рубаху:
— Вот, православны, глядите: ударили стрелою в пазуху!..
— Кто тебя ударил?
— Приятели княжеские, клевреты!.. Милостивцы Олександровы!.. Предатели наши!..
— Бей их!..
На крыльцо церкви вскочил Александр Рогович. Двое рослых дружинников стали рядом с ним с дымно клубящимися и кидающими огненные брызги факелами.
Староста гончаров был в кольчуге и в шлеме. Сбоку, на поясе, висел его неизменный чекан. Шлем был застегнут. Он снял его. Толпа притихла.
— Господа новгородцы!.. Граждане новгородские! — воззвал Рогович. — Дело большое зачинаем! Либо свободу себе возворотим, либо костью падем! Кричите: ставить ли щит против великого князя Олександра, против татар, для которых он дани требует?
— Ставить щит!.. — закричали единым криком зыбившиеся перед ним толпы.
— Нас не охомутают!.. Владимиру Святому дань — и то не стали возить, и ничего с нами не сделал, а тут — поганому татарину, скверноядцу, покоряйся?!
— Что это за князь, да еще — и великий?! Оборонить Новгород не может!.. Тогда нам и князей не надо!..
— И дедам нашим такое не в память!.. Нам дань платят, а не мы!..
— Ставить щит!..
— Ты нас веди, Рогович!.. Умеешь!.. Человек военный!..
— Тебе веруем!..
— Ишь ты! — послышался опять злобный крик против Ярославича. — О татарах пекется… Как бы не обедняли!..
— На нем будет крови пролитие! А мы с себя сымаем!..
— А посаднику Михаиле — самосуд!..
— За Святую Софию!..
— За Великий Новгород!..
Рогович Милонег прислушался: явственно доносился звон клинков о доспехи, хрясканье жердей. Слышно было, как вышатывают колья из частоколов и плетней.
Кто-то из толпы выкрикнул весело:
— Драча! Пружане с козьмодемьянцами схватилися!..
Из маленькой каменной сторожки, приоткрыв дверь, высунул голову летописец-пономарь. Он тут же и проживал, при церкви Иакова, близ которой ревело дикое вече. Он испуганно перекрестился, увидав, что творится. Некоторое время он, превозмогая страх, вслушивался. Вдруг обнаженная по локоть сухая женская рука схватила его сзади за ременный поясок подрясничка и рывком втянула обратно, в сторожку. Это была пономариха. Большие дутые посеребренные серьги ее качались от гнева.
Пономарь, слегка прикрывая голову — на всякий случай, если рослой супруге вздумается ударить его, — проследовал бочком к своему налою для писанья, на котором раскрыта была его летопись.
Трое пономарят, белоголовые, от десяти до четырех годочков, кушали просяную жидкую кашу, обильно политую зеленым конопляным маслом. Четвертый ребенок лежал еще в зыбке, почмокивая соскою на коровьем роге.
Пономариха, закинув крючок двери, принялась отчитывать мужа. А он уже обмакнул перо и вносил в свою тетрадку все, чему стал свидетель. Он лишь с пятого на десятое, как говорится, слышал слова, которыми его честила супруга.
— Окаянный! — бранилась пономариха. — Ровно бы и детям своим не отец! Вот ударили бы тебя колом по голове твоей дурной, ну куда я тогда с ними? Много ты мне добра оставишь? И мое-то все прожил, которое в приданое принесла.
— Не гневи бога, Агаша! — ответствовал пономарь. — Коровка есть… порошята… курочки, утки, гуси!.. У других и этого нету.
Пономариха только головой покачала.
А пономарь Тимофей, время от времени успевая кинуть ответное словцо супруге, продолжал писать свою летопись, произнося вполголоса то, что записывал.
— «О боже всесильный! — и вычерчивал на пергаменте, и произносил он. — Что сотворим? Раздрася весь город на ся! Восстань велика в людях. Голк и мятеж!.. Александр Рогович, окаянный строптивец, иконник, горнчар, злую воздымает прю на князя Олександра!.. И чего ему надо? Всего у злоокаянного много: и чести от людей, и животов!.. Несть ли в Деяниях: „Князю людей твоих да не речеши зла! Начальствующего в народе твоем не злословь!..“ Ох, ох, творящие непотребное! Полно вам складывать вину на князя! Ну, да ведь солнышка свет сажей не зачернишь! „Александр“ же эллински означает „защита мужей“!.. Добрый страдалец за Русскую Землю, как деды и отцы его!..»
Летописец вздохнул. Печально усмехнувшись, пробормотал:
— Злая жена — хуже лихоманки: трясца — та потрясет, да и отпустит, а злая жена и до веку сушит!..
— И пишет, и пишет, только добро переводит!.. — со злостью отвечала ему супруга.
Этого не мог снести пономарь.
— А не твоего ума дела!.. — огрызнулся он. — Труд мой потомки благословят!..
— Ну как же! — воскликнула пономариха. — Дожидайся! Вон ходил ко князю со своей книгой, у самого владыки, у Кирилла, побывал, а здорово он тебя благословил!..
Это напоминанье было одним из самых больных для пономаря. Он и впрямь представлял Невскому летописание свое, ища пособия, ибо дорог был пергамент и киноварь, а и тем паче — золото, растворенное для заставиц. Однако Александру Ярославичу было не до того, он передал дееписание пономаря владыке Кириллу, а тот, прочитав ли или же только просмотрев, сказал с грустной и снисходительной улыбкой, когда князь спросил его, есть ли что дельное в труде пономаря Тимофея:
— Что может простец сей потомству поведать о тебе? Сам невежда и умом грубый поселянин. Дееписание его токмо повредить может. Ты сам посуди, государь: пишет сей простей: «Взяли князь Олександр, и Василей, и вси новгородцы мир с дворянами рижскими, и с бискупом латынским, и с княземмейстером на всей воли своей». И тут же, в одном ряду и того же дня, означено у него: «Буренушка наша отелилась. Теля доброе. Ребятки радуются: молочка прибыло. И — Огафья…»
Владыка рассмеялся.
— Нет, князь, — сказал он вслед за тем с глубоким убежденьем. — Не сочти сие лестью. Деяниям твоим — Иосиф Флавий… Георгий Амартол… Пселл-философ… А из древле живших — Иродот, Плутарх!..
И пономарь Тимофей получил вместо ожидаемого пособия суровый выговор от владыки.
— Советую тебе престати, — сказал Кирилл. — Не посягай на неподсильное тебе. А жить тяжело, то готовься: велю поставить тебя в попы!..
Молчал пономарь. Крепился. Зане — владыка всея Руси глаголет. А потом не выдержал и, поклонясь, ответствовал:
— Прости, владыка святый, но где ж мне худоумному — в попы: я ведь только буквам учился!.. Риторским астрономиям не учен…
Владыка долго смотрел на него. Наконец сказал:
— А и горд же ты, пономарь! Ступай!..
И вот сейчас злой попрек жены разбередил больное место у непризнанного летописца. Он, всегда столь робкий с женою, взорвался, отбросил плохо очиненное или уже задравшееся перо:
— Вот и примется стругать, вот и примется стругать!.. И ведь экая дура: мужа стружет! А нет чтобы перьев мужу настругати!.. Эх, добро было Нестеру-летописцу: зане монах был, неженатый… никто его не стругал!..
Посадник Михаила, услыхав звон колокола и смятенье в народе, выехал верхом в сопровождении одного лишь слуги усовестить и уговорить восставших. Но его не стали слушать, сразу сорвали с седла и принялись бить. Слуга ускакал.
— Побейте его, побейте!.. — кричали вокруг растерявшегося, ошеломленного старца. — Переветник!.. Изменник!
Были и такие, которых ужаснуло это святотатство — поднять руку на человека, в коем веками воплощались для каждого новгородца и честь, и воля, и власть, и могущество великого города.
— Не убивайте!.. Что вы, братья? — кричали эти. — Посадника?! Разве можно?! Давайте пощадим старика!
— Хватит с него и посадництво снять!.. Пошто его убивать? — старой!
Но их отшибли — тех, кто кинулся выручать старца.
— Какой он нам посадник? — грозно заорали те, кто волок старика на Большой мост. — Кто его ставил? Топить его всем Великим Новгородом! Изменник!..
И в продымленном свете факелов, метавшихся на сыром ветру, толпище, валившее к Большому мосту, к Волхову, ринулось с горы, что перед челом кремля, — прямо туда, вниз, где хлестался и взбеливал барашками уже тяжелый от стужи, словно бы ртутью текущий, Волхов.
С посадника сбили шапку. Седые волосы трепал ветер. Его били в лицо. Он плохо видел сквозь кровавую пелену, застилавшую глаза, да и плохо уж соображал, что с ним и куда его волокут.
— Ох, братцы, куда меня ведут? — спрашивал он, словно бы выискивая кого-то в толпе.
Ответом ему был грубый, торжествующий голос:
— Куда? До батюшки Волхова: личико обмыть тебе белобоярское — ишь искровенился как!..
Жалевшие его и хотевшие как-нибудь спасти, советовали ему:
— Кайся, старик, кричи: «Виновен богу и Великому Новгороду!..»






