Ратоборцы Югов Алексей
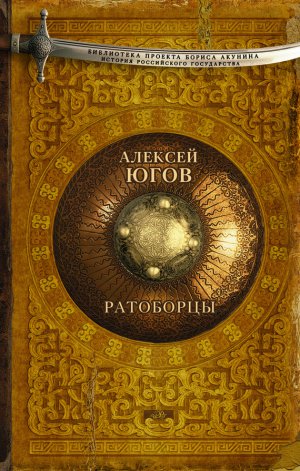
На лице старого доктора изобразилось глубокое огорчение. Он приложил руку к груди и от самых глубин сердца сказал:
— Государь, попрек твой раздирает мне душу!.. Или я забуду когда-нибудь, что ты спас мне жизнь в Литве? Но ведь доктор Бертольд из Марбурга просился к тебе. Это ученый муж и добрый и осторожный врачеватель… И ты сказал мне, государь: «Я подумаю».
Невский улыбнулся.
— Я и подумал, — отвечал он. — И велел отказать сему доктору Бертольду: у меня слишком много незавершенного, чтобы я решился вверить жизнь и здоровье свое иноземцу!..
Абрагам рассмеялся.
— Как радостно мне слышать решенье твое, государь! Тогда всем сердцем своим, всей совестью и клятвою врача я заложусь пред тобою за того лекаря, в котором найдешь ты не только мудрого врачевателя, но и единокровного тебе, сиречь русской крови, который сердце свое даст обратить в порошок, если узнает, что сим порошком тебе, государю своему, приносит исцеленье!.. Он еще юн, но мне, старому доктору Абрагаму, уже нечего открывать ему из тайн нашей школы. Он — прирожденный врачеватель!..
— Боже мой! — воскликнул, даже приподымаясь слегка на подушках, Александр. — Так неужто это Настасьин?.. Ты изволил пошутить, доктор Абрагам!
Старик покачал головою.
— Нет! — отвечал он. — Ты был без сознанья, государь, и не знаешь… Но струя драгоценной крови твоей под его острием брызнула сегодня в этот серебряный сосуд!.. Я уже не посмел доверить этого своей одряхлевшей руке. Он же, мой доктор Григорий, положил и повязку на руку твою. Ему же приказал я изготовить и целебное питье на красном вине…
— Да-а, чудно, чудно! — проговорил Невский. — Гринька Настасьин — тот, что с расшибленным носом гундел передо мною на мосту… и вдруг — лекарь…
— Так, государь! — подтвердил Абрагам. — Секира времени посекает корни одних, а другим она только отымает дикорастущие ветви! Но ежели ты сомневаешься, государь, то я устрою для него коллоквиум и приглашу, с твоего изволения, и доктора Франца из немецкого подворья, и доктора Татенау — от готян… И мы выдадим ему, Настасьину, диплому, и скрепим своими печатями… Кстати, вот слышу его шаги…
Вошел Настасьин. В руках юноши была золоченая чаша, прикрытая сверху белым. Невский сквозь опущенные ресницы с любопытством рассматривал его.
Григорий, думая, что князь дремлет, тотчас поднялся на цыпочки, чтобы ступать неслышнее: он закусил губу, лицо его вытянулось…
Невский не выдержал и рассмеялся. Чаша с вином дрогнула в руке юноши. Его румяное, круглое, ясноглазое лицо владимирского паренька и русая широкая скобка надо лбом не очень-то вязались с черным, строгим одеяньем докторского ученика.
Григорий поспешил поставить чашу.
— Ну, доктор Грегориус, — пошутил Александр, — что ж это ты у своего князя столь крови повыцедил, да и за один раз? Немцы из меня, пожалуй, и за все битвы столько не взяли!..
Григорий испуганно оглянулся на своего учителя. Тот хранил непроницаемое спокойствие.
— Князь, может быть, беспокоит рука?.. Плохо перевязал я? — спросил юноша, весь вспыхнув, и опустился на колени, чтобы осмотреть повязку.
— Да нет, чудесно перевязал! — возразил ему Александр и пошевелил рукою.
Юноша благоговейно приник к руке Невского.
— Ох ты… Настасьин… — растроганно произнес Александр, взъерошив ему светлую челку.
Армянские купцы с пряностями Сирии и Леванта, с парчою и клинками, нефтью и лошадьми, с хлопком и ртутью, коврами и шелком, винами и плодами из благодатной и солнцем усыновленной Грузии, — вездесущие эти купцы не один и не два раза в течение лета посещали новгородского князя в его загородном излюбленном обиталище, что на Городищенском острове, между Волховом, Волховцом и Жилотугом. А излюбленным это обиталище было потому для всякого новгородского князя, что здесь не то что на ярославском дворище: князь здесь был избавлен от придирчивого и докучливого дозора со стороны новгородцев.
Здесь любой корабль с товарами — лишь бы только князь не вздумал потом перепродавать их в городе через подставных лиц, — любой корабль мог остановиться на собственной Городищенской пристани князя, и тогда либо он сам, по приглашенью гостей, посещал со свитою их корабль и выбирал, что ему было надобно — для себя, для княгини, для двора и для челяди, а либо приглашенные им купцы привозили образцы и подарки ему на дом.
Вот почему никого из новгородских соглядатаев не удивило бы, что в сумерки одного летнего, звенящего комарами вечера трое верховых, в бурках и высоких косматых шапках, проследовали к Городищу. За последним из всадников тянулась поводом, прикрепленная к его седлу, вьючная коренастая лошадь с бурдюками вина.
Присмотрелись новгородцы и к грузинским и к армянским купцам и знают: новгородский человек — без калача в торбе, а грузинский купец — без вина в бурдюке в путь-дорогу не тронутся: словно бы кровь свою жаркую водой боятся разбавить.
Но удивился бы соглядатай, когда бы увидал вскоре этих купцов, уже в светлых, пиршественных ризах, золотом затканных, с чашами в руках восседавших за избранною трапезою вместе с Невским и с владыкою Кириллом в тайном чертоге князя. И уже князьями именуют их — и митрополит всея Руси, и великий князь Александр.
Да и впрямь — князья!..
Не простых послов прислали северному витязю и государю — оплоту православия и его надежде — оба грузинских царя — и старший, Давид, и младший. Старший, Давид, сын Георгия Лаши, тот, что прозван у татар Улу-Давидом, — он прислал не кого-либо иного, а самого князя Джакели, того самого, что в своем скалистом гнезде и всего лишь с восемью тысячами грузин — картвелов — отстоял добрую треть страны от непрерывно накатывавшихся на нее монгольских полчищ; отстоял — и от Субедея, и от Берке, а ныне уж и от иранского ильхана Хулагу.
Там, у самой оконечности гор, прижатые спиною к скалам Сванетии, лицом оборотившись к врагам, стояли последние витязи Карталинии, стоял Джакели, а с ним — и азнауры его, и виноградари, и пастухи.
Орда вхлестывалась в глухие каменные щеки утесов и отступала. И вновь натискивала и отваливала обратно в ропоте и в крови…
Подобно тому как стиснутый в опрокинутом под водою кубке воздух может противостоять целому океану, так Саргис Джакели со своими людьми противостоял натиску ордынских полчищ в дебрях и скалах Сванетии и Хевсуретии. Таков был тот человек, которого прислал к Невскому, со своим тайным словом, старший из царей Грузии, Улу-Давид.
Джакели был уж не молод — лет около шестидесяти. Чуть помоложе был второй спутник — посол Давида-младшего — Бедиан Джуаншеридзе.
Оба грузинских посла и видом одежды, и строгим расчесом длинных, с проседью, вьющихся по концам волос, и горделивостью осанки напоминали знатнейших наших бояр — ближе всего бояр новгородских, но пошиб Византии, повадки двора Ангелов и Комненов сквозили в каждом их движении. Сдержанный пафос речи, цветистое и радушное велеречие, без которого, как без соли трапеза, немыслим знатный грузин, и оплавленность, и горделивость жестов — все говорило об их знатном происхождении.
Лица их были смуглы. И оттого еще более сверкали великолепные зубы, обнажаемые в замедленной улыбке под густыми с проседью усами.
Горы, на которых тысячелетиями клюет и терзает Прометееву печень клювастый Зевесов орел; горы, на которых тоже тысячи лет выклевывали и раздирали и самое сердце великому народу Грузии всевозможные хищники: от орлов Рима до серого кречета — Чингиз-хана, — эти грозные горы как бы отложили свой отпечаток в резкости очертаний лица того и другого грузина.
У старшего, у Джакели, лицо было более грозным и, пожалуй, более грубым и носило следы сабельных ударов. Его усы, опущенные книзу, потом выгнутые, были толсты, напоминая собою турьи рога. Подбородок — выбрит.
Его спутник — Бедиар Джуаншеридзе — выглядел несравненно изящнее и тоньше — и лицом, и складом, и речью. Да оно и не удивительно: от младых ногтей это был и философ, и ритор, и законовед. Еще при жизни царицы Русудан — этой ничтожной дщери великой матери[39] — князь Бедиан блистательно закончил свое образование в Константинополе и вернулся на родину, в Сакартвело, полагая, что он везет народу своему бесценные сокровища, что станет помощником царей в борьбе с лихоимством, и неправосудием, и запутанностью законов и обычного права.
Но по прибытии его в Грузию выяснилось, что не перед кем испытать юноше ни красноречия своего, ни искусства струить складки своей тоги, ни своих, перед зеркалом разработанных, рукодвижений судебного ходатая и оратора!
Орды Субедея, пройдя Хорезм и Иран, громили Сакартвело. Татарин-кентавр — народ, сросшийся с лошадью, покрыл сплошь благословенные, ущедренные солнцем холмы Грузии. Дыша грабежом и убийством, монголы текли по стране, уничтожая не только все дышащее, но и все зеленеющее.
После первого поражения грузинских войск, которыми предводительствовал верховный атабек Иванэ — кичливый фантаст, задумавший одно время остановить татар с помощью крестного хода, — ужас и отчаянье овладели и рядовым дворянством Грузии, и эриставамй княжеств и областей, а в первую очередь самой несчастной царицей Русудан.
Она металась между Тбилиси и Кутаиси, пока не укрылась в Сванетии. Татары же, как во всякой не покорившейся сразу стране, принялись уничтожать непокорную грузинскую знать, военное сословие, порабощать и грабить виноградаря и скотовода, угонять в плен ремесленников.
Народ поголовно взялся за оружие. Картли, Имеретия, Мингрелия, Гурия, Сванетия и Абхазия восстали единодушно. И тогда-то во главе наспех собранных азнаурских дружин встал Джакели.
Его отряды обрастали ополчением народа, который, заслышав зов бранной трубы, волна за волною, выливался из своей извечной скалистой цитадели — Сванетских гор — на покинутые им родные холмы и долины и устремлялся на татар.
Армия Субедея, пробираясь с невероятными усилиями сквозь каменные жабры ущелий, имея прямо перед собою заоблачную стену Кавказского хребта, рвясь к просторам южнорусских степей, вдруг получила внезапную кровавую потылицу от грузин, которых не ведавший поражений Субедей считал уже давно либо истребленными, либо подклонившими свои гордые выи под деревянный многопудовый хомут наплечной колодки.
В стремленье вырваться из гулкого каменного бурдюка, где уже Тереком текла татарская кровь, разъяренный хан приказал громоздить, наваливать в пропасти и ущелья все, что только могло хоть на вершок поднять колеса монгольских ароб. Китайские пленные инженеры пытались бурить скалы, дабы взорвать их заложенным в скважины порохом, однако вскоре Субедей отменил свой приказ, когда увидел, что гибель армии придет прежде, чем инженеры успеют хоть чего-либо достигнуть.
Он велел валить в ущелья глыбы, камни, деревья и хворост; наконец сгруживали в пропасть, наезжая конями, тысячи гонимых перед собою рабов и толпы захваченного окрест населения, не беря даже труда предварительно умертвить кладомых в те плотины людей: зачем? — умрут и так, когда тысячи конских копыт пройдут по этим завалам.
На дно последней стремнины, уж перед самым хребтом, приказано было ринуть шатры, кибитки, тюки награбленного сукна и ковров! Тщетно: все так же в недосягаемой выси стояла бессмертная иерархия снеговых исполинов! Казалось, они были совсем рядом, но еще неделю ползли, еще неделю клали кровавую борозду по ущельям и осыпям татары, карабкаясь к этим бессмертно блистающим снеговым исполинам, и они оставались все столь же недосягаемо близкими…
Монголам Субедея там, впереди, грозила голодная гибель, позади — Джакели.
И если бы случайно захваченная татарами кучка предателей-беглецов не вывела армию Субедея вправо — на путь Каспийских ворот, — то… не было бы битвы на Калке…
Весть о первой победе над татарами пронеслась звуком длинной медной трубы и столбами дымных костров от вершины к вершине. И до самого Рима, до слуха папы Григория, донеслась эта весть.
Верховный совет, дидебулы Грузии, вместе с царицею Русудан воззвали к «наместнику Христа» о срочной подмоге, о том, чтобы повелел рыцарям, залегшим в Константинополе, устроившим герцогство Афинское и склады товаров в Парфеноне, захватившим половину Балкан, двинуться в истинный крестовый поход против монгольских орд.
На грамоту Русудан, в которой она извещала римского первосвященника о победе над татарами, об их поспешном уходе в южнорусские степи, папа не дал ответа. Однако легаты — явные и тайные — вымогали у народа и правителей Грузии отступничества от православия, отказа от союза с Ласкарисом, императором греков, и требовали, чтобы грузины признали папское владычество.
Послана была наконец и папская ответная булла царице Русудан… с двадцатилетним опозданьем, когда иго Азии уже налегло и на Русскую Землю.
Уже баскак Батыя сидел в Тбилиси — оскверненном, загаженном, опустевшем. Ненадолго хватило грузинского единства, которое подымало на смерть, на подвиг: неистовая грызня и поножовщина знатных; два царя в одной Грузии; выпрашиванье ярлыков ханских; доносы и политическая подножка друг другу в Орде… Для народа же — захлестнутый на горле волосяной аркан налогов и податей, которым уже и самый счет был потерян. Из деревень народ разбегался в горы.
Но еще более страшная дань — дань кровью грузинских юношей — воинская повинность Орде — тяготела над народом Сакартвело: один боец с девяти дворов — девяносто тысяч бойцов со всей Грузии уходило в любой из походов хана.
В Египте — а за что неведомо — лилась грузинская кровь. Грузин гнали на русских, русских собирались гнать на грузин…
…Бедиану Джуаншеридзе, перед лицом татарских сборщиков дани, не очень-то пригодились его юридические познания, его тончайшие ораторские жесты со свитком пергамента, изящество и красота его рук с миндалеобразными обточенными ногтями, окрашенными в розовый цвет, и знанье налоговых законов и крючкотворства. Фискальная практика монголов была до чрезвычайности проста.
Однажды в долго осаждаемый город вторглись воины Джагатая. Шла резня. Одна старуха, стремясь хоть скольконибудь отсрочить свою гибель, крикнула монгольскому военачальнику, что она проглотила драгоценный алмаз, пусть не убивают ее. Нойон приказал не убивать, но велел распороть ей живот и обыскать внутренности. Так и было сделано. Камень был найден. Вслед за тем приказано было вспороть животы и у всех трупов, которые еще не успели предать земле…
Пребывая с Невским в застолье, князь Джуаншеридзе, незаметно для Александра Ярославича, успел перехватить устремленный на свои ногти его взгляд — взгляд, как бы вздрогнувший от внезапного чувства жалости.
Сколько раз приходилось ему, Джуаншеридзе, подмечать этот взгляд у людей, впервые увидавших его!
Переждав некоторое время — за беседою, вином и взаимными здравицами, князь Джуаншеридзе произнес, выбрав мгновенье, когда это пришлось кстати:
— Пью за твое здоровье, государь, да будешь благословен в роды и в роды — ты и священночтимое семейство твое, и дом твой, и все деянья твои!.. Мне ли слышать о себе восхваленья из уст твоих? Столько славных из народа моего жизнь свою сложили за отечество. Я же чем пожертвовал? Разве только… вот ногтями своими! — закончил он, оглядывая на левой руке свои кучковатые, изъеденные ногти, вернее — корешки от них…
Переводчик обоих послов — третий их спутник — тотчас же перевел эти слова Джуаншеридзе на русский язык.
Князь Джакели укоризненно поморщился.
— Ай, князь Бедиан! — сказал он и покачал головою. — Государь, — обратился он к Невскому, — в этом не надо верить ему!.. Каждый из его ногтей, что потерял он, нам, грузинам, следовало бы вправить в золотой ковчежец, как сделали католики с ногтем святого Петра!..
Джуаншеридзе смутился и возмущенно проговорил по-грузински что-то своему товарищу, очевидно запрещая ему рассказывать. Однако его товарищ пренебрег этим. Рассказ его был прост и ужасен.
Когда в Грузии борьба против монголов сменилась данничеством, Джуаншеридзе во время пиров и застолий стал время от времени произносить зажигательные речи, в которых, под видом прозрачных иносказаний, укорял дворянство Грузии в том, что оно предает отчизну своими распрями, своекорыстием и беспечностью. Призывал последовать примеру Джакели, который ушел в горы, накапливал там народ и нависал страхом над ханскими дорогами, истребляя нойонов, сборщиков податей и даже целые татарские гарнизоны.
И тогда его, грузинского владетельного князя Джуаншеридзе, обладавшего к тому же титулом византийского патриция, схватили, как простого пастуха, и представили перед кровавые очи верховного баскака Грузии — хана Аргуна.
От Бедиана потребовали, чтобы он выдал всех, кто оказался отзывчив на его мятежные укоризны. Джуаншеридзе рассмеялся в лицо баскаку.
Тогда его подвергли любимой пытке Орды: стали не торопясь, и время от времени возобновляя допрос, загонять иголки под ногти, вплоть до ногтевого ложа.
Князь перенес все эти пытки, и ни одно чужое имя не сорвалось с его уст. Он много раз лишался сознанья и наконец был брошен неподалеку от сакли, ибо его сочли мертвым.
Люди подняли его и едва вернули к жизни. Он унесен был в горы — в львиное логово Джакели… Долгое время считали, что он навеки лишился рассудка. Однако не у того отымает родина рассудок, божественный свет мысли, кто отдает свою жизнь за нее, но — у предателей!
Вместо ногтей выросли у князя Бедиана безобразные роговые комочки-горбики…
…Таков был этот второй посол царей Грузии — посол Давида-младшего.
Послы грузинские пили неторопливо и понемногу. Однако чеканные стопы и кубки не усыхали. Беседа становилась все теплее и задушевнее. Хозяева и гости нравились друг другу. Вскоре, после первых же взглядов глаза в глаза и первых приветствий и здравиц, перестали опасаться: русские — грузин, грузины — русских, хозяева — гостей, а гости — хозяев… Они перестали подкрадываться словами друг к другу, как всегда это бывает в таких посольских встречах. Надо было верить друг другу! И без того, если до Берке дойдет, что это за купцы из страны георгианов, то есть грузин, приехали к Александру и о чем беседовали они с великим князем Владимирским и с «главным попом» русских, то и тем и другим, быть может, придется сделать неминуемый выбор между отравленной чашей из рук какой-нибудь ханши Берке и тетивою вкруг шеи.
Но и пора было начинать. Пора было привзмахнуть наконец и северным и южным крылом исполинского восстания против Орды, которое замышлял Ярославич на своем севере, а оба царя Сакартвело — на юге.
И промолвил митрополит:
— Византия — и вам и нам — есть общая матерь. Хотя и есть различие кое в чем между нашими церквами, однако велико ли оно?
— Не толще шелухи луковой! — подтвердил Джуаншеридзе.
— Воистину, — согласился митрополит.
Джакели весомо опустил свой огромный кубок на стол и немного уже повышенным голосом, как будто кто его оспаривал, настойчиво произнес:
— И оно было бы еще меньше, это различие церквей наших, если бы не греки. Усом своим клянусь! Вот этим усом!..
Он обхватил и огладил свой мощный ус, слегка выворачивая руку.
Разговор их стремительно обегал полмира. Великий хан Кублай и папа Александр; Миндовг и калиф Египта; император Латинской империи Генрих и выгнанный крестоносцами Ласкарис; герцог Биргер и хан Берке; Плано-Карпини и полномочный баскак императора Монголии и Китая — Улавчий, приехавший исчислить Русскую Землю; посол Людовика французского к монголам — Рюисбрэк, и англичан — тамплиер Джон, родом из Лондона, именуемый татарами Пэта, который, после позорного своего пораженья и плененья в Чехии, был отставлен от вожденья татарских армий и ныне вместе с немцем Штумпенхаузеном числился при дворе Берке советником по делам Запада и Руси.
Помянули все еще длящуюся после смерти Гогенштауфена смуту и всенародную распрю в Тевтонии; помянули кровавое междуцарствие в Дании.
От купцов новгородских, что ездили торговать в Гамбург, Невский получал достоверные известия: кнехты немецкие уж не валят валом, как прежде, в набеги на Псковщину, — предпочитают грабить у себя по дорогам, в Германии.
— Да уж, — проворчал Невский, — если этот miles germanicus — воин германский — начнет грабить, то и татарину за ним не поспеть!..
— Ты прав, государь! — подтвердил Джакели, пристукнув кружкой, словно бы готовый ринуться в бой за истину этих слов, которых никто и не думал оспаривать. — Это они осквернили и ограбили Святую Софию константинопольскую, немцы!..
Александр наклонил голову.
— Добирались и до нашей… до Новгородской Софии, — сказал он. — Да только не вышло!..
Кирилл-владыка сурово промолвил:
— Растлились нравы… Ведь что в Дании делается?.. Короля отравляют причастием!.. Помыслить страшно!
Вспомнили братоубийцу — датского принца Авеля.
Джуаншеридзе мрачно пошутил:
— Видно, и впрямь последние времена: Авель Каина убивает!..
Кирилл широко осенил себя крестным знаменьем. Оба посла грузинских перекрестились вслед за ним.
Длилась беседа… Александр изъяснил послам грузинским всю сложность внешнеполитических задач, перед ним стоявших.
— Порознь одолеем и немца и татарина, — сказал он. — Веревку от тарана татарского из руки господина папы надо вырвать… чтобы не натравливал татар противу нас!.. А то как нарочно: татары — на нас, и эти тоже на нас, воины Христовы… рыцари… Пускай сами столкнутся лоб в лоб!.. Привыкли за озерами крови русской скрываться!.. Уж довольно бы народу нашему щит держать над всем прочим христианством!
Изысканно и от всего сердца расточали одна сторона другой похвалы — и народу, и государям, и духовенству.
Александр Ярославич горько сетовал на разномыслие и непослушанье князей.
— У нас то же самое, — мрачно сказал Джакели.
— Знаю — и у вас не лучше, — подтвердил Александр. — Всяк атабек — на свой побег!.. Однако я уверен: картвелы постоят за себя! Рымлян перебороли, персов перебороли… арабоп… грекам не поддались… Турков отразили…
Митрополит Кирилл присоединился к словам князя.
— Тамарь-царица, — сказал он, — не только венец носила царский, но и мечом была опоясана!
И снова Невский:
— Да и не чужие мы! Дядя мой, Юрий Андреевич, на вашей царице Тамаре был женат! — Он слегка поклонился послам. Улыбнувшись, вспомнил: — Витязь был добрый. Только не в меру горяч. Да и за третью чару далеко переступал… Афродите и Вакху служил сверх меры. За то и прогнан был ею, Тамарою…
Помолчал и, лукаво переглянувшись с князем Бедианом, добавил:
— Может быть, и еще в чем-либо прегрешил… В своего родителя ндравом был, в Андрея Юрьича: самовластец!..
Бор — будто подземелье: сыр и темен. Пробившийся сквозь хвойную крышу луч солнца казался зеленым. Глухо! Даже конский ступ заглушен. Позвякивают медные наборы уздечек. Стукнет конь копытом о корень, ударит клювом в дерево черный дятел, и опять все стихнет. Парит как в бане. Коням тяжело. Всадники то и дело огребают краем ладони со лба крупный пот.
Но Александр Ярославич не разрешает снимать ни шлема, ни панциря.
— Самая глухомань, — сказал он. — Сюда и топор не хаживал. Места Перуньи. Быть готову!
И впрямь, не Перун ли, не Чернобог ли или богиня Мокош переместили сюда свои требища, будучи изгнаны из городов? Откуда этот дуб среди сосен? Откуда эти алые ленты, подвязанные к ветвям? Заглянули в большое дупло, а там теплится желтого воску большая и уже догорающая свеча…
— Мордва! Своим богам молятся! — пояснил Ярославич.
Ближе к закату дохнул ветер. Зашушукались меж собою, будто замышляя недоброе, большие лохматые ели, словно куделею обвешанные. Вот все больше, все больше начинают зыбиться кругами, очерчивая небо, вершины исполинских деревьев. И вот, уже будто вече, заволновался, зашумел «весь бор…
Стало еще темнее.
— Опознаться не могу, князь, прости, должно, заблудились, — сказал старый дружинник, слезая с коня.
Александр покачал неодобрительно головою. Глянул на Михаилу Пинещинича, с которым ехал стремя в стремя.
Кудробородый, смуглый новгородец вполголоса ругнул старика и тотчас же обратился к Невскому:
— Потянем, пока наши кони дюжат! А там — заночуем, — отвечал он. — Оно безопаснее, чем ехать. Идешь в малой дружине, князь. А земля здесь глухая, лешая! Народ по лесам распуган от татар. Одичал. Ватагами сбивается. Купцов проезжих бьют. Слыхать, Гасило какой-то здесь орудует. Зверь! Татары и те его боятся — меньше как сотней не ездят.
— Ох, боюсь, боюсь, словно лист осиновый! — пошутил Александр.
— Да я разве к тому, что боишься, князь, а вот что без опаски ездишь!..
— Большим народом ездить, ты сам знаешь, нельзя! След широк будем класть! — сказал Невский.
Эта поездка Ярославича только с полдюжиною отборных телохранителей, да еще с Михаилом Пинещиничем, имеющим тайные полномочия от посадника новгородского, — эта поездка была лишь одной из тех сугубо тайных северных поездок князя, во время которых Невский, не объявляясь народу, проверял боевую готовность своих затаенных дружин и отрядов, которые он вот уже целые десять лет насаждал по всему северу, как во владимирских, так и в новгородских владениях.
В своей семье помогали ему в этом деле князья Глеб и Борис Васильковичи, а в Новгороде — посадник Михаила, да еще вечевой воротила Пинещинич, в котором души не чаяли новгородцы, несмотря на то что он был предан Ярославичу и отнюдь того не скрывал от сограждан.
Больше никого из князей, из бояр не подпускал к тому тайному делу Ярославич.
Худо пришлось Александру с тайными его дружинами после несчастного восстания князя Андрея и после карательного нашествия Неврюя, Укитьи и Алабуги. Татары вынюхивали все. Повсюду сели баскаки. Приходилось изворачиваться. Мимоездом из Владимира в Новгород, из Новгорода во Владимир Невский всякий раз давал большую дугу к северу и ухитрился-таки распрятать, рассовать по глухим северным острожкам и селам свои дружины и отряды.
Они обучались там воинскому делу под видом рыболовных, звероловных ватаг, под видом медоваров и смологонов. Невский сажал их по озерам и рекам, чтобы, когда придет час, быстро могли бы двинуться к югу — во владимирские и поволжские города.
Было двенадцать таких гнездовий: на озерах — Онежском, Белом, Кубенском и на озере Лача; на реках — Мологе, Онеге, Чагодоще, на Сити, Сухоне, на Двине и на реке Юг. В городе Великий Устюг было главное из потаенных воеводств князя.
Случалось, заскакивали в эти гнездовья баскаки. «Кто вы такие?» — «Ловим рыбу на князя: осетринники княжие». — «А вы?» — «А мы — борти держим княжеские да меда варим на княжеский двор». — «Ладно. А вы?» — «А мы соболя да горностая ищем. Прими, хан, от нас — в почтенье, во здрание!..» И вот — и медом стоялым потчуют татарина, и осетров, что бревна, мороженых целые возы увозит с собою баскак, и — собольком по сердцу!..
С тем и отъезжали татарские баскаки.
Невский строго требовал от своих дружин, засаженных в глухомань, чтобы не только военное дело проходили, учились владеть оружием, понимать татарскую хитрость, но и чтобы впрямь стояли — каждая дружина на своем промысле. Ватага — ловецкая, ватага — зверовая, а те — смологоны, а те — медовары.
— Мне бы только хмель, бродило, сухим до поры до времени додержать!.. А чему бродить — найдется!.. — говаривал Александр, беседуя с теми немногими, кого он держал возле сердца.
А уж вряд ли среди дворян князя и среди дружинников его кто-либо ближайший сердцу Александра, чем новый лейбмедик, сменивший доктора Абрагама, Григорий Настасьин!
Юноша и теперь сопровождал Невского.
— Да, Настасьин, пора, друг, пора! Время пришло ударить на ханов! — говорил Невский своему юному спутнику, слегка натягивая поводья и переводя коня на шаг. То же сделал и его спутник.
Лесная тропа становилась все теснее и теснее, так что стремя одного из всадников время от времени позвякивало о стремя другого.
Прежнего Гриньку Настасьина было бы трудно узнать сейчас тому, кто видывал его мальчонкой на мосту через Клязьму. До чего возмужал и похорошел парень! Это был статный, красивый юноша. Нежный пушок первоусья оттенял его уста, гордые и мужественные. Только вот румянец на крепких яблоках щек был уж очень прозрачно алый, словно девичий…
Они поехали рядом, конь о конь. Юноша с трепетом сердца слушал князя. Уж давно не бывал Ярославич столь радостен, светел, давно не наслаждался так Настасьин высоким полетом его прозорливого ума, исполненного отваги!
— Да, Настасьин! — говорил Александр. — Наконец-то и у них в Орде началось то же самое, что и нас погубило: брат брату ножик между ребер сажает! Сколько лет, бываючи у Батыя и у этого гнуса, у Берке, я жадно — ох как жадно! — всматривался: где бы ту расщелину отыскать, в которую бы хороший лом заложить, дабы этим ломом расшатать, развались скорей державное их строение, кочевое их, дикое царство! И вот он пришел, этот час! Скоро, на днях, хан Берке двинет все полки свои на братца своего, на Хулагу. А тот уже послов мне засылал: помощи просит на волжского братца. Что ж, помогу. Не умедлю. Пускай не сомневается!.. — И Александр Ярославич многозначительно засмеялся. — Татарином татарина бить! — добавил он.
От Настасьина не было у него тайн.
Рассмеялся и Григорий. Грудь его задышала глубоко, он гордо расправил плечи.
— Но только и свою, русскую руку дай же мне приложить, государь! — полушутливо взмолился он к Ярославичу. — Еще на того, на Чагана, рука у меня горела!
— Ну, уж то-то был ты богатырь — Илья Муромец — в ту пору! Как сейчас, тебя помню тогдашнего. Ох, время, время!
Невский погрузился в раздумье.
Некоторое время ехали молча. Еловый лес — сырой, темный, с космами зеленого мха на деревьях — был как погреб…
Слышалось посапывание лошадей. Глухой топот копыт. Позвякивание сбруи…
И снова заговорил Невский:
— Нет, Гриша, твоя битва не мечевая! Твоя битва — со смертью. Ты врач, целитель. Такого где мне сыскать? Нет, я уж тебя поберегу!
Он лукаво прищурился на юношу и не без намека проговорил, подражая ребячьему голосу:
— Я с тобой хочу!
…Александр с Настасьиным и четверо телохранителей ехали гуськом — один вслед другому. Вдруг откуда-то с дерева с шумом низринулась метко брошенная петля, и в следующее мгновение один из воинов, сорванный ею с седла, уже лежал навзничь.
В лесу раздался разбойничий посвист.
Настасьин выхватил меч. Охрана мигом нацелилась стрелами в чью-то ногу в лапте, видневшуюся на суку.
Лишь один Ярославич остался спокоен. Он даже и руку не оторвал от повода. Он только взглядом рассерженного хозяина повел по деревьям, и вот громоподобный голос его, заглушавший бурю битв и шум Новгородского веча, зычно прокатился по бору:
— Эй! Кто там озорует?!
На миг все смолкло. А затем могучий седой бородач в помятом татарском шлеме вышел на дорогу. Сильной рукой, обнаженной по локоть, он схватил под уздцы княжеского коня.
— Но-но!.. — предостерегающе зыкнул на него Александр.
Тот выпустил повод, вгляделся в лицо всадника и хотел упасть на колени. Невский удержал его.
— Осударь? Олександр Ярославич? Прости! — проговорил старик.
Тут и Александр узнал предводителя лесных жителей.
— Да это никак Мирон? Мирон Федорович? — воскликнул он изумленно.
Мирон отвечал с какой-то торжественной скорбью:
— И звали, и величали — и Мирон, и Федорович! А ныне Гасилой кличут. Теперь стал Гасило, как принялся татар проклятых вот этим самым гасить! У нас попросту, по-хрестьянски, это орудие гасилом зовут.
На правой руке Мирона висел на сыромятном ремне тяжелый, с шипами железный шар.
— Кистень, — сказал Невский, — вещь в бою добрая! Но я ведь тебя пахарем добрым в давние годы знавал. Видно, большая же беда над тобою стряслась, коли с земли, с пашни тебя сорвала?
— Эх, князь, и не говори! — глухо и словно бы сквозь рыдание вырвалось у старика.
Здесь, в лесном мужицком стану, не было никаких разбойничьих землянок, а стояли по-доброму срубленные избы, хотя и небольшие. Были даже и притоны для коров и лошадей, крытые по-летнему.
— А зачем ее рыть, землянку? Дороже будет! — говорил Невскому Гасило. — Да и народ по избе затоскует. А так — будто в починке живем, в маленьком… Только церквы нету, а так все есть!
И впрямь, даже в баньку наутро позвал князя Мирон.
— Осмелился, велел баньку истопить… попарься, Олександр Ярославич.
После бани беседовали на завалинке избы.
— А если и сюда досочатся татары, тогда что? — спросил Невский.
Мирон Федорович ответил спокойно:
— Уйдем глубже. Только и всего. И опять же свое станем делать: губить их, стервь полевскую!.. Набег сделаем — и к себе домой: пахать. А как же, Олександр Ярославич, ведь вся земля лежит впусте, не пахана, не боронована!.. В страдно время половину людей с женками дома оставляю, а половину в засаду беру. Пахать да боронить — денечка не обронить!.. Пахарю в весну — не до сну!..
— Чем воюете? — спросил Невский.
— А кто — копьем, кто — мечом, кто — топорком, кто — рогатиной, словом, кто чем. Иные луком владеют. А я гасило предпочитаю…
Невский любовался могучим стариком и недоумевал: Мирону Федоровичу минуло уже семь десятков, а он будто бы еще крепче стал, чем в первую их встречу на глухой заимке.
Да и здесь была у него та же заимка. То и дело слышались властные, хозяйственные окрики старика:
— Делай с умом! Не успеваете? А надо с курами ложиться, с петухами вставать!.. Тогда успеете!.. А вы отправляйтесь дерн резать! — распоряжался он, поименовывая с десяток человек.
И все безропотно ему подчинялись.
Забегал в кузницу, крытую дерновиной, торопил ковку лемеха, колесных ободьев, копий и стрельных наконечников.
Навстречу ему попалась молодая женщина. Старик напустился на нее:
— И где ты летала, летава! Ребенок твой себя перекричал! Кто за тебя сосить робенка станет? Я, что ли?
А когда женщина, заспешив, прошла к зыбке, подвешенной на суку, Гасило с гордостью кивнул в ее сторону и сказал князю:
— Намедни, как в засаду ходили, троих татар обушком перелобанила!.. Ненавидит она их — у-у! — зубами скрипит, когда морду татарскую увидит!..
И тогда Невский спросил его, где его младшая сноха — Настя.
Старик помрачнел.
— В живых ее нету, Олександр Ярославич, — ответил он. — Упокой господи ее душеньку светлую!.. А с нами же ушла… И вот не хуже этой (он кивнул на женщину, кормившую ребенка) поганых уничтожала… Уж пощады от нее татарин не вымолит!.. Ну и они ее не пощадили… Тяжело помирала: стрелою ей легкое прошибли… вынуть — где ж тут!.. Шибко мучилась… А ведь вот до чего ты запал ей в памяти — ласка твоя! — на одре смертном и то про твой подарок, про сережки те, вспоминала. Сама, своей рученькой, через силу-то сняла их, подержала на ладони, да и отдает мне! «Ты, говорит, тятенька, может быть, еще и увидаешь его когда, — отдай ему сережки эти. Скажи: старалась не худая быть, чтобы не тускнели они на мне. Помнила, от кого ношу… И как, говорит, я ему сказала тогда, что только с мертвой с меня сымут, вот так и есть!..»
Старик, отвернувшись, расстегнул ворот рубахи, распорол холщовую ладанку, в которой носил он на груди Настины серьги, и отдал их князю.
Из рассказа Мирона Федоровича Невский узнал следующее: татары Неврюя дохлынули и до заимки Мирона. Дома были в то время сам старик да старший сын Тимофей с женой. Младший, Олеша, с Настей работали на дальней пашне.
Когда принялись грабить, Мирон Федорович, не устрашась, поднялся за свое добро. Его ударили с седла плетьюсвинчаткой по голове и проломили череп. Старик упал замертво.
Тогда Тимофей с оглоблей кинулся на татар. Двоим размозжил черепа, сшиб с коня. Долго не подпускал к себе. Но его одолели-таки и скрутили волосяною веревкою. Милану подвергли надругательствам и умертвили. Потом снова принялись за Тимофея.
— Его к березе стали привязывать… А он этак осмотрелся через плечо, — соседи после рассказывали, — а веревка срамная, грязная… Он у меня брезгливой был до нечистого!.. Свалил ее плечиком, веревку, да и говорит им: «Я, говорит, русской, гады вы проклятые, звери вы полевские! Пошто вяжете? Али я смерти испужался?.. Да я вот так на ее, на смертыньку, этак гляжу!..»
И прямо-то глянул поверх их: «Стреляйте!..»
Они, проклятые, луки свои изладили — нацелились.
Тут старшой ихний… батырь… сказал по-ихнему, по-татарски, ну, словом, запретил убивать сразу, велел другие стрелы, тупые, накладывать: мученья чтобы больше принял… Но Тимофей мой Мироныч, упокой господь его душеньку, он и с места не рванулся, и оком своим соколиным перед погаными — от стрел их — не дрогнул, ресницей не сморгнул!.. Всего исстреляли… Последняя стрела в горло… Захлебнулся кровушкой своей… Тут его и не стало…
Долго сидели молча…
Наконец Ярославич вздохнул и от всей глубины души горестно и любовно глянул в скорбные отцовские очи.
— От доброго кореня добрая и отрасль!.. — сказал он.
…Перед сном Гасило пришел в избу, где расположился Александр Ярославич. Он пришел предупредить князя, чтобы тот ночью не встревожился, если услышит ненадолго крики и звон оружия близ лесного их обиталища.






