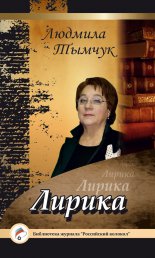Ведьма полесская Кулик Виталий

– Точно. Если уж стая почуяла скорую расправу – ни одно дерево уже не поможет.
Приблизившись к этому месту, охотники, наконец-то, увидели здесь и следы медведя. Догадаться, что тут произошло дальше, было нетрудно.
Видимо, когда стая уже начала рвать издыхающего кабана, в их трапезу вмешался медведь. Завязалась схватка. Каждая из сторон знала, чем и ради чего рискует. И победа досталась тому, у кого другого выхода просто не было – или пан, или пропал.
Андрей сам всё это понял и возбуждённо произнёс:
– Заявился косолапый без приглашения на пир, да ещё и кровавый хоровод устроил.
– Ага, почитай, так и было. Дал по хребту самому смелому, а остальные, покружив вокруг да попробовав на зуб крепость медвежьей шкуры, решили, что своя шкура всё ж дороже.
– И тушу утащил в более укромное место. Волкам такое не под силу.
– А им это без надобности. Где завалили, там и проглотили. Благо вокруг всё их владения. Хозяевами, значит, себя чувствовали. Ан, нет! Не вышло! Ещё один владыка объявился. Да только и на этого владыку управа найдётся. Я верно говорю, Лазбень? – спросил Прохор у подошедшего мужика.
– Дык… Мабудь, так. А як же ж инакше? – не поняв суть вопроса, смущённо ответил Лазбень, а потом, заметив кровавое пятно, с неподдельным удивлением спросил: – О, а де ж кабан девся?
– За волками погнался, – усмехнулся Прохор.
Тоже не скрывая улыбки, Андрей с интересом глянул на чудаковатого мужика.
Пока охотники разглядывали следы да тихо переговаривались, собаки с некоторой опаской, подстёгиваемые охотничьим инстинктом, делали свою работу.
Намного в стороне от того места, куда были обращены настороженные взоры людей, лесную тишину опять разорвал их яростный лай, временами переходящий в надрывный хрип, и на этот раз прерываемый грозным звериным рыком. Теперь никаких сомнений не было: собаки нагнали спешно уходящего медведя.
И снова продираясь сквозь заросли и петляя средь толстых стволов вековых деревьев, люди бросились на шум.
Охотничьи собаки, обнаружив грозного и незнакомого зверя, сначала держались на почтительном расстоянии, оглашая округу своим лаем и оценивая на что способен этот зверь. Но, видя перед собой неповоротливого увальня и подбадриваемые своей превосходящей численностью, они быстро осмелели. Наиболее ярые уже решались по волчьей тактике, напав сзади, тоже проверить на зуб крепость медвежьей шкуры.
Медведь же, вдоволь насытившись, не имел никакого желания опять вступать в стычку. Тем более на этот раз – с оголтелыми и шумными тварями. Звериное чутьё подсказывало, что за этой бешеной сворой обязательно появится самый опасный враг – человек!
Пока что шатун отпугивал собак грозным рыком и вялыми выпадами в сторону слишком самоуверенных псов. Он был готов без всякого сожаления уступить остатки своей трапезы этой пёстрой стае и с миром удалиться подальше от поднятого невообразимого гвалта. Но, видимо, этих бестий не интересовали останки кабаньей туши – все, как один, кружили вокруг медведя. Это противоречило канонам лесной жизни, и чутьё зверя уже не подсказывало, а просто било тревогу, что нужно немедленно уходить. Да и нюх уже ясно улавливал запах особо опасного противника.
Человек хитёр и коварен, не чета этой обезумевшей своре. И это уже сулило настоящую опасность. Теперь уж точно не до жиру, быть бы живу!
Подстёгиваемый смертельной угрозой, зверь приступил к решительным действиям. Проворным броском он достал одну из зазевавшихся собак. Стремительный взмах могучей когтистой лапой – и далеко в сторону с диким визгом летит поверженный враг.
Не ожидавшие такой прыти от, казалось бы, неуклюжего лохматого зверя, собаки на мгновение умолкли. Отскочив на безопасное расстояние, все они словно завороженные не могли оторвать глаз от жуткого зрелища: их собрат, дико крутясь, норовил достать зубами свой развороченный бок. В шоковой горячке он пытался вырвать оттуда впившуюся нестерпимую боль. Содранная шкура и вывернутые наружу ребра являли собой ужасающую картину. Окропляя снег кровью, несчастный с хриплым рёвом исполнял танец смерти, обезумев от боли и вида вываливающихся своих кишок. И вся свора была на какое-то время загипнотизирована этой предсмертной пляской.
Воспользовавшись замешательством в стане врагов, шатун с невероятной для его размеров быстротой ринулся в густые заросли.
Прохор и Андрей уже видели одну из собак, мелькнувшую в просвете деревьев и веток. Дикий визг и хрип другой собаки, судя по всему, серьёзно раненой, был почти рядом. Осталось обогнуть островок густых зарослей – и медведь будет на мушке.
Огибая длинный ствол валежника, Прохор и Андрей не заметили, как продолжали бежать уже по разные стороны злополучных зарослей. Прохор огибал с одной стороны, а Андрей – с другой. Так уж получилось…
Прохор выскочил на просвет среди деревьев. Собаки, увидев человека и, наконец, словно спохватившись, понеслись за мелькнувшим средь деревьев медведем.
Прохор кинулся следом и вдруг замер! Мгновение ужаса и он резко оглянулся – Андрея Семёновича нигде не видно! Прохора как обухом хватило по голове: паныч Андрей наверняка сейчас столкнётся со зверем, и что из этого выйдет – одному Богу вестимо! Но сам Прохор одно знал точно: если с Андреем Семёновичем произойдёт беда, виноват будет он, и уж это ему с рук просто так не сойдёт. Не мешкая, крепостной охотник бросился напрямик через гущу на помощь панычу Андрею…
Андрей совершенно опешил, когда, почти обогнув препятствие, вдруг нос к носу столкнулся с огромным медведем, выскочившим ему навстречу. Пути человека и зверя пересеклись. Эта встреча для обоих была настолько неожиданная, опасна и трагична, что они замерли в растерянности, не сводя друг с друга непримиримых взглядов и не решаясь сделать малейшего движения. Зрачки обоих были расширены до предела, и в них отражались угроза и страх, обескураженность и ужас. Но самое главное и трагическое, что вдруг стало понятно разуму человека и инстинкту зверя, это то, что если одному из них предписано судьбой дальше идти по жизни, то другому именно сейчас и здесь придётся закончить этот свой жизненный путь. И эта обречённость ещё больше сковывала обоих холодным ужасом.
Звериный инстинкт самосохранения сработал намного быстрее, чем умозаключения человеческого рассудка, подавленного смертельным ужасом. Звериное чутье в одно мгновение оценило угрозу и дало команду: «Убей или будешь убит!»
Продравшись сквозь самую гущу зарослей, Прохор оцепенел в ужасе. Его взору предстало жуткое зрелище: человек и зверь стояли почти рядом, один против другого и, казалось, не обращали абсолютно никакого внимания на крики спешащих к ним мужиков и на стремительно приближающийся лай собак. Но почему паныч не стреляет?!
Прохор вскинул ружьё. Сердце бешено колотилось. Для точного выстрела слишком большое расстояние и… слишком большое волнение!..
Андрей всё же среагировал на вздрогнувшую мощь медведя и почти одновременно с броском зверя вскинул ружьё. По воле счастливой случайности, единственное, что он увидел на мушке – это оскаленная пасть разъярённого хищника. Самая подходящая цель! В последний и решающий миг Андрей успел нажать на курок, и в его сознании холодным липким ужасом разорвалась… тишина. Вместо выстрела – оглушительная тишина!!!
У молодого паныча молнией успела проскочить мысль: «Это конец!» Тело и волю окончательно сковал дикий ужас. Андрей стоял с направленным в медведя бесполезным ружьём, не в силах даже пошевелиться. Он с ужасом продолжал смотреть через прицел на разъярённого зверя и видел там свою смерть. И тут неожиданно, с задержкой, всё же прогремел выстрел. С кремниевыми ружьями такое иногда случается. Андрей лишь успел подумать, что на его счастье, он в онемении не опустил ружьё.
В шоке молодой Хилькевич не почувствовал ни отдачи, ни дымной гари пороха. Не слышал он и вырвавшегося горестного оханья мужиков. От неимоверного пережитого ужаса и от сильнейшего удара когтистой лапой человеческое сознание не выдержало и покинуло бренное тело. Последнее, что резануло рассудок Андрея, – это слишком тошнотворный утробный смрад из пасти зверя…
Медведь уже завершал свой бросок, и занесённая для смертельного удара лапа с выпущенными когтями уже готова была поставить жирную кровавую точку на жизни этого тщедушного и перепуганного человечка. Зверь был уже настолько близок к цели, что мог отчётливо различить в расширенных от ужаса глазах напротив отражение своих огромных клыков, готовых сомкнуться на шее жертвы. Человек не убегал и не предпринимал никаких попыток защититься. Выставленная небольшая странная палка не могла остановить всю мощь и силу дикой свирепости. И когда зверь уже ожидал ощутить под своей лапой возбуждающий хруст костей жертвы, в его голове вдруг разорвались мириады молний. Огненно-разноцветные круги в один миг нестерпимо обожгли всё тело. Ослепительный свет, резанувший глаза, так же мгновенно угас. Угас вместе с жизнью…
Падая замертво, медведь всё же нанёс слабеющий удар по плечу человека. Клыкастая пасть зверя в смертных судорогах хватала воздух в каких-нибудь двух-трёх вершках от шеи подмятого охотника. Сражённый наповал медведь шатун теперь уж никогда не узнает, удачный был его бросок или нет…
Первыми к лежащему под медведем Андрею Семёновичу подбежали мужики. Всё ещё опасаясь зверя, они с усилием скинули рогатинами мелко подрагивающую в предсмертных конвульсиях тушу с придавленного охотника. Видя окровавленного и находящегося в беспамятстве паныча, все испуганно суетились, и никто толком не знал, что именно надо делать.
– Андрей Семёныч! Андрей Семёныч! – нервно закричал подбежавший Прохор.
Упав на колени и стараясь привести паныча в чувство, он судорожно растирал его лицо снегом.
Андрей начал наконец приходить в себя. Тихо простонав и открыв глаза, он некоторое время непонимающе смотрел на склонившихся над ним бородатых мужиков. Словно из подземелья до него доносились обрывки фраз:
– Кажись, жив. А ведь могло…
– Слава тебе, Господи. Будет жи…
– Андрей Семёныч, ну как вы? – уже весьма осмысленно понял последние слова Андрей.
– Ничего… вроде цел, – тихо ответил паныч и тут же сморщился от боли, попытавшись самостоятельно подняться.
– Лежите, лежите, – придержал его Прохор, – сейчас плечо гляну.
Кровоточащие царапины были хоть и глубоки, но для жизни не опасны. Прохор быстро разорвал подол своей рубахи и перевязал плечо Андрея.
Мужики в неописуемой тревоге перешёптывались, поглядывая то на паныча, то на страшное бурое чудище. И смятение их было понятно: не дай бог с панычем будет что-то худое – им тоже мало не покажется. Хотя, конечно, основная вина ляжет на Прохора.
Вскоре послышались голоса и шум приближающихся охотников, которые оставались стоять на номерах. Услышав выстрел и горестные крики мужиков, а также нарушая все писаные и неписаные охотничьи законы, они в неописуемой тревоге бросились навстречу загонщикам. Всё пошло не так, как задумали светлые панские головы. Тут уж, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает.
Вот из чащи показался пан Войховский. Увидев, что Андрей ранен, он остановился с расширенными от испуга глазами. Следом, тяжело сопя, двигались Семён Игнатьевич и отец Прохора – Гришак. Стягивались к этому месту и спешащие вместе с ними мужики.
И вот тишину предсказуемо разорвал истошный крик пана Хилькевича:
– Андрюшенька! Сыночек! Господи, как же это!..
Семён Игнатьевич рухнул на колени перед сыном. Лихорадочно осматривая и ощупывая его, он не верил своим глазам, что его сын ранен. Руки и голос пана Хилькевича дрожали от волнения. Сердце вот-вот могло дать сбой. Видя перед собой бледное лицо Андрея и проступающие через повязку кровавые пятна, Семён Игнатьевич вдруг остро ощутил дикий ужас. Он вдруг с какой-то трагической ясностью понял, что мог сейчас потерять одного единственного сына, свою любимую кровинушку. Он понял, что страшная беда прошла совсем рядом, мимолётно лишь задев его своим прикосновением.
Крайне взволнованный пан Хилькевич уже не мог унять своих чувств. Он захлёбывался страхом и сипел одышкой, издавая горестные стоны.
– Отец, всё обошлось. Не надо так переживать, – уже Андрей пытался успокоить отца. – Я сразил его одним выстрелом.
– Как же так сталось, что он достал тебя? Как такое могло случиться? – ощупывая пораненное плечо сына и словно бредя, спрашивал Семён Игнатьевич.
– Случайность, отец. Сам не пойму. Мы с Прохором только разделились, а тут из зарослей он и выскочил прямо на меня.
– А-а-а! – вспомнив о Прохоре, вдруг со злостью прорычал пан Хилькевич и вскочил, – так этот хвалёный охотник всё же оставил моего сына наедине с медведем!
– Не оставлял я Андрея Семёныча. Так получи…
– Молчать, быдло! Семь шкур спущу! – пан Хилькевич гневно перебил Прохора и, выхватив у одного из мужиков кнут, в ярости начал хлестать опешившего хлопца. Выдохшись, Хилькевич отбросил кнут и злобно процедил Прохору:
– Это тебе так просто с рук не сойдёт. – Переведя взгляд на своего друга, он с укором продолжил: – Да-а-а, Егор Спиридонович, понадеялся я на ваши заверения насчёт этого холопа, а зря! Наверняка струсил сукин сын в решающую годину. Небось схоронился в сторонке, да ещё и со злорадством наблюдал, как медведь панскую душу губит!
Каждое слово пана Хилькевича больнее плети хлестало по самолюбию Прохора, калёным железом жгло сердце. А тут ещё и Егор Спиридонович с упрёком добавил:
– Что ж ты, Проша, за Андреем Семёновичем не присмотрел. Строгий давали тебе наказ, чтоб рука об руку шли, страховали друг дружку, а ты не уследил за этим. И то, что Андрей Семёнович ранен – твоя вина.
Голос Егора Спиридоновича сквозил разочарованием и укором. Это ещё больше ранило душу парня.
– Егор Спиридонович, так я ж…
– Всё, Прохор, молчи… не надо никаких оправданий. Подвёл ты меня. Сильно подвёл. Если б не хладнокровие и выдержка Андрея Семёновича – большая беда приключилась бы. Ружьё верни. Оно теперь без надобности тебе, – твёрдо сказал пан Войховский и, повернувшись к мужикам, приказал: – Немедля подогнать сюда сани. Андрея Семёновича срочно к доктору надо везти.
Заметив, что Прохор всё ещё неподвижно стоит, пан Войховский шагнул к нему и со злобой почти вырвал из его рук ружьё.
– Будешь наказан. Пшёл вон, – процедил сквозь зубы Войховский.
Горький комок несправедливости и обиды подкатил к горлу молодого охотника. Лучше бы Егор Спиридонович кричал и матерился. Прохор никогда не считал себя трусом, и ему до глубины души было обидно слышать такие обвинения. Да, в пылу охотничьего азарта он потерял из виду паныча, но до последнего момента думал, что тот бежит за ним. Он сделал всё что мог и виновным в случившемся себя не считал. Хоть бы слово в оправдание дали сказать. Да ведь пан всегда прав, и ничего тут не поделаешь. Такова уж доля мужицкая: всегда быть крайним и виноватым.
Прохор не стал лезть со своими доводами и оправданиями. Он лишь с горечью бросал взгляды на самую дорогую для него вещь – ружьё, которое один из мужиков неумело держал в руках.
Пока мужики, орудуя топорами, выбирали и расчищали дорогу для подъезда саней, Семён Игнатьевич и Егор Спиридонович, немного успокоившись, начали с интересом рассматривать добытого зверя. Это был великолепный трофей.
Семён Игнатьевич не удержался и легонько пнул медведя носком сапога, словно ещё раз желая убедиться в том, что никакой опасности уже нет. В этот момент его одолевало двоякое чувство: с одной стороны, он был горд за своего сына, справившегося с таким зверем, а с другой – страх, что всё могло быть наоборот.
Как и любого охотника, пана Хилькевича и пана Войховского очень интересовало, куда попала пуля.
Часть головы медведя заплыла кровью, но бывалые охотники без труда определили, что пуля вошла не точно в лоб, а чуть ближе к уху.
– Молодец. Хороший выстрел, – сказал Егор Спиридонович, как бы желая смягчить вину перед гостем за нелепую оплошность своего охотника.
– Да… попади пуля в другое место – и неизвестно как бы всё обернулось, – согласился Хилькевич.
– Ваш сын, Семён Игнатьевич, выше всякой похвалы. А вот о своём ловчем… Не ожидал, что смалодушничает.
Всё это время Прохор, понуро опустив голову, стоял рядом в сторонке. Стоял один в глубоком смятении и… всё слышал. Несправедливое унижение переполняло горечью душу парня.
Андрей был уже на повозке. Пан Хилькевич и Егор Спиридонович спешно направились к нему. Неожиданно пан Хилькевич оглянулся на Прохора. Взгляды холопа и барина скрестились.
– Одну шкуру спущу со зверя, а семь – с тебя. Знай об этом уже сейчас, – угрожающе прорычал пан Хилькевич на прощание.
Прохор взгляд не опустил – он просто отвернулся в сторону.
Повозка отъехала. Гришак подошёл к Прохору.
– Ладно, сын, не принимай близко к сердцу. В жизни всяко ведь случается, – грустно сказал он.
Прохор промолчал на утешение батьки. Ему вообще хотелось сейчас уйти куда-нибудь в самую глубь леса и побыть одному.
Гришак, словно сам в чём-то провинился, с жалостью глянул на Прохора. Он не знал, какими словами сейчас можно поддержать сына.
– Хорошо, что хоть одними царапинами обошлось. Авось всё и перегорит у панской милости… А паныч всё же молодец. Не струхнул… – начал было опять говорить Гришак.
– А я, по-твоему, что?! Я струхнул?! – Прохор вдруг резко и со злостью перебил батьку.
– Ну… Я хотел просто сказать, что рука у него не дрогнула. Расстояние, конечно, небольшое – тут не промажешь… Но ведь и не заяц же на тебя прёт. Метко пулю вогнал в голову. Только вот я не пойму: коли медведь шёл на Андрея, то отчего дырка в его голове у самого уха. Может, он…
– «Может», «не может»! – в отчаянии зарычал вдруг Прохор. – Ничего не «может»! Потому что в медведя стрелял я! Я этому барчуку жизнь спас, а меня кнутом за это. И рот в оправдание не дали открыть.
Прохор ещё что-то резкое выкрикнул в сердцах и, махнув рукой, бросился прочь куда глаза глядят. Ему казалось, что сейчас только лес может понять и успокоить его раненую душу.
Гришак некоторое время стоял с открытым ртом, осмысливая услышанное, а затем с тревогой прошептал:
– О, Господи! Такую правду они теперь не захотят признать. Как бы ещё хуже не было…
Глава 4
Маёнток пана Хилькевича находился примерно в полутора десятках вёрст от местечка Каленковичи[14]. Семён Игнатьевич по меркам Полесского края считался помещиком средней руки. В крепостных у него числилось около сотни душ. Более половины этих крестьян жили в селе Черемшицы, а остальные – в окрестных небольших деревеньках и на хуторах.
Черемшицы раскинулись на небольшой возвышенности в живописнейшем уголке белорусского Полесья. С одной стороны к самым хатам подступал смешанный лес с множеством вековых деревьев. С другой – раскинулись луга и сенокосы с островками ивовых зарослей, сгущающихся по мере приближения к небольшой речке – притоку Припяти.
Речка хоть и не широка, но полноводна – местами, в омутах, взрослый человек мог по шею погрузиться в её глубине. Вода кишела рыбой; у берегов и на мелководье стояли стены камыша, рогоза, тростника, где гнездилось множество водоплавающей птицы; плывя по течению, можно было увидеть с дюжину бобровых хаток, а также иногда и самих хозяев этих удивительных жилищ.
Белорусские селяне не мыслили своего существования без леса и неисчислимых рек и водоёмов. Грибы, ягоды, рыба, древесина, смола и многое другое – всё это служило огромным подспорьем и необходимостью в их нелёгкой жизни.
Среди полешуков было немало охотников, ну а рыбку сноровисто выловить различными снастями на Полесье умели даже дети, причём в любое время года.
Весной соломенные крыши селянских хат утопали в буйной зелени и в дурманящем аромате черёмухи. Летом липы радовали медовым запахом. Зелень щедро дарила земле свежесть и прохладу. Осенью взор очаровывали золотистые уборы деревьев. Осенняя пора по красоте – это сказочное время природы. Каких только оттенков не увидишь на растительном ковре, вобравшем в свою палитру все цвета радуги. Но всё же осенью этот живой ковёр прошит одним основным цветом, собранным за летние дни – солнечным.
И каждое время года на Полесье по-своему прекрасно. Сейчас же на дворе стояла зимняя пора – канун рождества.
Ясный, с лёгким морозцем день придавал праздничности и хорошего настроения. Ничто не предвещало ненастья или тем более сильной вьюги. Коты не сворачивались клубками, пряча носы в тёплый пух; настырные воробьи и юркие синицы не залетали под стрехи и повети, ища убежища. Люди и животные не предчувствовали никаких резких перемен ни в погоде, ни вообще в жизни.
Но с наступлением сумерек в село вместе с темнотой начала заползать необъяснимая тревога. Сначала незаметно, вкрадчиво. Многие даже и не поняли, когда и отчего у них начало меняться настроение, находила непонятная угнетённость. И чем дальше, тем это ощущалось более остро.
Не было слышно ни задорного лая собак, ни звонкого смеха девчат, спешащих в какую-либо хату на посиделки, чтобы за разговорами да песнями коротать долгие зимние вечера; не раздавались и басовитые, с прокуренной хрипотцой, мужские окрики, вроде как для порядка посланные домашней скотине или замешкавшимся домочадцам. А домочадцев-то этих в каждой избе как семечек в подсолнухе. Вот и получалось такое, чего раньше никогда не бывало: людей под каждой крышей уйма, а в избах непривычная тишь.
Вместе с ночью на село и вовсе опустилось крайнее беспокойство; под заснеженными крышами людских хат полновластной хозяйкой воцарилась зловещая напряжённость; в души людей и животных закралось холодное и липкое чувство надвигающейся беды. А затем всё вдруг замерло, затаилось, словно хищник перед прыжком. И людям теперь не давала покоя лишь одна мысль: что-то должно случиться!
В тревожном предчувствии мучительно медленно тянулось время. Ночь ещё не вступила в полную силу, а многие селяне в каком-то нетерпении уже подумывали о скорейшем наступлении утренней зорьки.
Но никто не властен изменить ход времени – оно идёт с полнейшим равнодушием и к томительным ожиданиям и к скоротечным опозданиям. Вот и сейчас время шло своим размеренным ходом, не обращая внимания ни на людские тревоги, ни на их радости.
В слеповатые окошки хат давно уж заглядывали далёкие звёзды, словно наблюдая все ли на Земле в порядке. Казалось, что своим таинственным величием они специально подчёркивали всю мизерную сущность человеческого бытия.
Напряжение нарастало. В установившейся давящей на сознание тишине уже явно ощущалось присутствие какой-то неведомой силы. Враждебной силы!
Но особая тревога и необъяснимый страх витали под крышей хаты Петра Логинова – панского приказчика. Дурное предчувствие шептало, что именно в его дверь может постучаться беда или, в лучшем случае, большая неприятность.
– Ох, чует сердце что-то недоброе, – тревожно, почти шёпотом, канючила Марфа – жена приказчика.
– А чего может статься? Дома все живы-здоровы. На службе у Семёна Игнатича тоже, кажись, всё ладно. Хоть и в отъезде пан Хилькевич, да все наказы исполняются, – придавая голосу уверенности, ответил панский приказчик и глава семьи Петро.
Петро был мужиком крепкого складу. Рассудительный, но всё же временами и вспыльчивый. К своему сороковнику он заслужил уважение не только односельчан, но и пана Хилькевича, хотя взбучки от него всё равно иногда получал.
– Хоть бы Семён Игнатич скорей воротился. Сколько ж можно по охотам да по гостям мотаться? – тихо продолжала причитать Марфа.
– Это уж не твоего, бабьего, ума дело. Когда надо будет им, тогда и воротятся, – приструнил Петро жену.
Неожиданно на дворе поднялся ветер. Робкие вначале дуновения быстро перерастали в шквалистые порывы. Небо вмиг затянулось тучами, скрывшими своими чёрными крыльями звёзды и бледное лунное светило.
Ветер всё крепчал, и вскоре за разукрашенными морозом окнами начало твориться что-то невообразимое.
Такая резкая и внезапная перемена в погоде ещё больше нагнала необъяснимого страха на людей. Тяжёлые завывания ветра, сменявшиеся то глухими стонами, то лихим посвистом, не давали спокойно отойти ко сну ни старым, ни малым. Прохудившиеся облака начали усердно осыпать землю снежными хлопьями. Подхватывая падающие снежинки, ветер долго кружил их в дьявольском хороводе, заметая дороги и забивая снегом все щели в селянских постройках.
Примерно в полночь всё буйство непогоды так же внезапно затихло. И опять над крышами хат воцарилась тишина. Это была уже какая-то необыкновенная, звенящая тишина.
Многие, так и не уснув, молча лежали с открытыми глазами. Боясь даже шёпотом нарушить установившееся безмолвие, люди с тревогой гадали: «К чему бы это? Хоть бы не ввалилось какое лихо в нашу хату». И все как один мысленно просили Бога не покидать их в такую тревожную годину.
Вдруг нагнетённое напряжение в избе Петра, словно оглушительным громом разорвалось от тихого и осторожного стука в окошко. От неожиданности все, за исключением двоих всё же уснувших малолетних детей, вздрогнули.
У Марыли – старшей дочки Петра – бешено забилось сердце. Марфа горестно охнула и ещё больше перепугалась от своего непроизвольно вырвавшегося вскрика. Сам же Петро лишь слегка вздрогнул. Хотя и старался он держаться спокойно, но в душе лавиной разрастался тревожный ком.
– Кого там черти принесли в такой час? – скрывая дрожь в голосе, недовольно проворчал он и, встав с полатей, медленно направился к единственному окошку, в котором вместо бычьих пузырей стояли кусочки стёкол.
Сквозь маленькие залепленные снегом оконные стёклышки ничего не удалось разглядеть. Да и облака ещё не рассеялись, закрывали собой лунный свет. Так ничего и не увидев, Петро стоял в темноте и в нерешительности нервно чесал волосатую грудь.
Повторный стук, теперь уже более настойчивый и громкий, заставил опять всех вздрогнуть. На этот раз стучали в дверь.
– Кто там?! Чего надобно?! – стараясь придать голосу побольше строгости, спросил приказчик.
– Петро, открой. Это я! – раздалось из-за двери.
– Кто «я»?
Петру голос показался знакомым, но кому именно он принадлежал, приказчик вспомнить никак не мог.
– Да Кондрат я, Сыч. Неужто не признал?
Только теперь узнав в ночном госте односельчанина, Петро облегчённо вздохнул и, отодвинув засов, открыл дверь. Морозный воздух клубами хлынул в хату.
– Ну что там стряслось? Чего это в такой поздний час понадобилось тревожить людей?
– Особенного ничего и не случилось. Просто велено передать, что Семён Игнатьевич с сыном завтра возвращаются.
Прасковья Фёдоровна приказала, чтоб к их приезду всё было готово.
– А чего готовить-то? И так всегда всё готово, – удивился Петро странному приказанию Прасковьи Фёдоровны, супруги пана Хилькевича.
– Ну, я наказ передал, а там уж поступайте, как заблагорассудится, – каким-то отрешённым тоном произнёс Кондрат и, неотрывно глядя Петру в глаза, тихо попросил: – Дай воды попить, человече. Приморился я крепко, пока до тебя добрался в такую-то непогоду…
Даже сквозь кромешный полумрак от тяжёлого взгляда ночного гостя Петра пробил неприятный озноб. Хотя, насколько он знал Кондрата Сыча, это был обыкновенный крестьянин – безобидный и горепашный мужик. И всё-таки, чтобы побыстрее избавиться от позднего вестового, приказчик без слов прикрыл за собой дверь и молча направился к кадке с водой.
Марыля всё это время напряжённо вслушивалась в разговор, пытаясь понять, что происходит. Она отчётливо слышала почти каждое слово батьки, говорившего с порога, а вот голос ночного гостя, стоявшего на улице, так ни разу и не расслышала. И у неё создалось впечатление, что батька разговаривает сам с собой. Но всё же по выражению высказываний явствовало, что за порогом всё-таки кто-то есть.
Вот Марыля ясно различила шаркающие в темноте шаги батьки, подошедшего к кадке с водой. Затем тихий всплеск – это он набрал ковшиком воды. Опять шаги, скрипнула дверь, и послышались тихие слова батьки:
– На. Пей и уходи. Не лето, чай, на дворе. Холод вон по всей хате уже гуляет.
Медленно тянулась установившаяся пауза. Видимо, посыльный пил воду. Но вот опять раздался уже раздражённый голос Петра:
– Ну что ты обнюхиваешь эту воду, будто конь яки? Не облизывайся, не горелка это, – начал закипать приказчик. – Ну вот! А говорил: «Пить хочу». Давай ковшик – и пошёл отседова!
Через мгновение дверь захлопнулась. Послышался звук брошенного на лавку деревянного ковшика и недовольное ворчание приказчика.
Петро ещё раз без всякой причины выглянул в окошко и, ничего не увидев, направился к полатям.
Марыля смутно различала силуэт батьки, осторожно передвигающегося в темноте. Ей не терпелось узнать, кто и зачем приходил. Она хотела уже спросить об этом, но мать её опередила:
– Петро, уж не стряслось ли где чего худого? Кому это в такой час неймётся?
– А-а, так… Ничего важного. У нас любят устроить переполох при ловле блох, – попробовал отшутиться Петро, но какой-то тяжёлый осадок от этого не исчез, и он всё же добавил всерьёз: – Пан Хилькевич завтра приезжает, так Прасковья Фёдоровна беспокоится, чтоб всё в порядке было к их приезду. Аж ночью посыльного спровадила. Вот бабы!
– А-а, – облегчённо протянула Марфа. – А приходил-то кто?
– Сыч приходил. Кондрат. Только странный он какой-то был. Небось отправить отправили, а разбудить забыли.
Агафья собиралась было ещё что-то спросить, но вдруг так и замерла с открытым ртом, услышав о Сыче. Расширенные от ужаса её глаза смотрели в темноту, и воля женщины была скованна неописуемым страхом. Петро ничего этого не заметил.
Марылю тоже обуял ужас, и у неё вырвался крик:
– Тата, ты что говоришь?! Сыча ж ещё на Покров похоронили! Как ты мог так обознаться?!
– Да не обознался я! Он даже… – огрызнулся Петро, словно его в чём-то винили, и тут же осёкся, осознав наконец, чудовищную сущность случившегося.
Холодная испарина покрыла лицо и тело приказчика. Разум отказывался верить в произошедшее. Но в то же время Петро начал осознавать, что только сейчас он возвращался в настоящий мир. Перед этим, как только он отворил дверь, на него снизошла какая-то пелена, окутавшая туманом сознание и убравшая из памяти и похороны Сыча, и то, что он давно уже покойник.
Ясность мысли окончательно восстановилась, и от этого Петру стало ещё хуже. Панический страх вверг семью приказчика в какое-то безмолвное оцепенение.
Марыля, до боли закусив войлочное одеяло, еле сдерживала вырывающийся крик страха. Ей хотелось лишь одного – проснуться. Ей хотелось, чтобы это был всего лишь сон, кошмарный сон!
Марфа, как ни странно, не паниковала и по-бабьи не выла; не причитала и не рвала в истерике на себе одежду. Ей сейчас было не до покойников и не до живых: глубокий обморок на время избавил перепуганную женщину от всех волнений и страхов.
Сам же Петро, сидя на полатях и сжимая голову руками, словно оправдываясь, начал нервно бормотать:
– Как же так? Что ж теперь рабить? Господи Иисусе… И голос его не сразу признал… и воду обнюхивал, словно зверь какой. Не! Не может такого быть! Темно – вот и обознался. Спросонья да в темноте всяко ведь может быть… – И вдруг Петра осенило: – Снег! Должны быть следы! Вот сейчас гляну…
– Стой! – остановила Марыля вскочившего батьку. – Время сейчас поганое. Лучше утром. А сейчас молиться надо.
Обознался или не обознался панский приказчик – неведомо, но в его хате до утра тускло мерцала лампада перед иконами, и все, кроме детей малых, стояли на коленях и до исступления читали «Отче наш» и другие молитвы, какие только знали. До рассвета на темных стенах избы мелькали огромные тени от людских фигур, неистово отбивающих поклоны Николаю Чудотворцу и Пресвятой Богородице.
Чуть начало светать, и Петро, накинув тулуп и натянув валенки, приоткрыл входную дверь. Морозный воздух приятно наполнил грудь свежестью. Глубоко вздохнув, Петро с надеждой и упованием на милость божью сразу глянул на небо, где уже занималась утренняя заря. В который уж раз попросив у Бога защиты, он перевёл дух и с волнением собирался опустить взор на землю. От того, что он там увидит, можно сказать, зависела его дальнейшая судьба…
У приказчика ещё теплился луч надежды, что он всё же обознался, недосмотрел или напутал что-либо. Любая такая оплошность была бы ему сейчас за счастье. Ведь по народным поверьям мертвецы даже снятся всегда неспроста. Если что-то дают или просто говорят, то это можно истолковать как добрый знак. А вот если зовут или просят что-либо, то ни в коем случае нельзя откликаться и давать им что просят, особенно пищу или личные вещи. А полешуки в поверья верили слепо и непоколебимо старались придерживаться всех общепринятых условностей.
Смертный страх, влезший в хату Петра Логинова, был ещё более ужасен тем, что вселился к нему на постой не во сне, а наяву. Ну никак не могло всем одновременно такое присниться! А надежда-то теплилась, хоть и махонькая, да поддерживала семью приказчика. А вдруг поутру всё растолкуется просто и до смешного незамысловато? А вот, поди ж ты, с переполоху надумали бог вед чего! Эх, если б это было так…
И вот сейчас настало время окончательного определения. Петро опустил голову, но до конца произносимой им молитвы открыть глаза не решался.
После ночной вьюги всё было покрыто свежим снегом, словно незапятнанным холстом. И дело всё в том, что если Петру являлась какая-либо нечисть, то следов, по его разумению, не должно быть. А если приходил человек, и приказчик просто обознался, то тут уж как не крути, а следы будут.
Наконец закончив молитву и собравшись с духом, Петро открыл глаза. Первое, что пронеслось в его голове – это Бог услышал его мольбы. На белоснежном покрывале приказчик ясно увидел следы. Но злой рок тут же нанёс свой коварный удар! Петру сделалось худо, ноги его покосились и он завалился на стену. Его ошалелый взгляд намертво вцепился в снежный покров, на котором чётко виднелись следы – следы… копыт!
И какое бы существо здесь не наследило, всё равно оставалась непосильная загадка для человеческого разума: следов, указывающих, откуда это существо пришло и в какую сторону ушло – не было. На снегу виднелась цепочка оставленная копытами лишь от окна и до дверей.
Петру сделалось худо, и он начал медленно заваливаться на бок…
Панский приказчик полулежал на завалинке, откинувшись на бревенчатую стену избы. Впавшие за бессонную ночь глаза безучастно глядели теперь уже в никуда. Под ними словно роковой взмах птицы-пророчицы расходились черно-синие разводы. Шапка свалилась с головы, обнажив совсем поседевшие за ночь пряди волос.
Человек находился в отрешённом состоянии. Его душа уже не имела сил противиться напору сверхъестественных событий, не поддающихся людскому пониманию.
Петро слыл мужиком неробкого десятка. Но сейчас у него внутри словно надломился какой-то важный стержень; словно какая-то сила вмешалась, влезла в самую душу и загасила огонёк, дающий жизненную стойкость…
Марыля и Марфа долго приводили в чувство Петра, а за это время впечатлительную Марфу и саму пришлось раза два обливать водой. Но, слава богу, все хоть и были сильно напуганы, зато живы и умом не помешаны.
На панский двор приказчик явился лишь после полудня. Осунувшийся, он словно тень прошёлся по двору. Челядь и дворовые вяло занималась каждый своим делом. Намётанный глаз Петра сразу выделил тех, кто только делал вид занятости. В другое бы время нерадивые работники тут же получили б хорошую трёпку, но сегодня приказчику было не до них. Да и самому придётся сейчас оправдываться перед Прасковьей Фёдоровной за поздний выход на службу. Но, к счастью, и до Петра тоже никому не было дела, и он осторожно начал расспрашивать дворовых, нет ли новостей от пана Хилькевича. Как оказалось, никто ничего не слышал о сегодняшнем приезде Семёна Игнатьевича. Все знали, что Хилькевичи возвратятся не раньше, чем через пять дней.
Обходя и проверяя работу дворовых, Петро лишь изредка вяло давал указания или замечания. Находясь в панском имении, он немного отошёл душой. Общение с людьми отвлекало его от мрачных дум.
К концу дня приказчик впервые не просто не хотел идти домой – он боялся туда возвращаться. Но деваться было некуда, и Петро всё же решился идти до хаты. Но не успел он выйти со двора, как вдруг залаяли собаки, за воротами послышался шум и лошадиное фырканье. Знакомые голоса и звон бубенчиков заставили дворовых живо засуетиться: Семён Игнатьевич и Андрей Семёнович нежданно возвратились домой.
Из дома вышла удивлённая Прасковья Фёдоровна в сопровождении кухарки. В считанные мгновения прислуга была уже готова к встрече своего «благодетеля». Петро тоже направился встречать пана Хилькевича и молодого паныча.
Открылись ворота, и санная повозка въехала во двор.
– Здрасьте, Семён Игнатич!
– Здрасьте! – раздавалось со всех сторон.
– Вечер добры, Семён Игнатьевич, – поздоровался и Петро. – Что так скоро? Вы же собирались до воскресных деньков погостить да поохотиться.
О преждевременном возвращении пана Хилькевича Петро спрашивал не из праздного любопытства. Ведь ему ночью было сказано, что сегодня Семён Игнатьевич приедет и, выходит, это была правда. Больше никто в имении об этом не знал. И такая правда ещё больше сдавила душу Петра.
Пан Хилькевич не успел или не захотел отвечать на вопрос приказчика, но эта тема заинтриговала и Прасковью Фёдоровну. Поздоровавшись с супругом и сыном, она поинтересовалась:
– Ну, как погостили, Семён Игнатьевич? Мы вас, конечно, заждались, но не думали, что вернётесь так скоро. Иль угощения пана Войховского пришлись не по душе? А может, охота сорвалась?
– Да всякого отведали. И охота была, и хлеб-соль по душе пришлись, и в картишки вволю наигрались.
– А как там дочки Егора Спиридоновича? – Прасковья Фёдоровна как бы невзначай затронула сильно интересовавший её вопрос.
– О, дочки пана Войховского умницы. А старшая, Наталья Егоровна, так вообще – сама учтивость. Вот кому-то счастье улыбнётся, – задорно сказал пан Хилькевич и бросил многозначительный взгляд на сына.
Заметив это, Прасковья Фёдоровна радостно улыбнулась, как будто всё уже было решено. С трудом скрывая от прислуги свою заинтересованность, она с нетерпением произнесла:
– Что ж, пойдёмте скорее в дом. За чаем и расскажете всё подробнее.
– Не спеши, мать, ведь мы и необыкновенный трофей привезли! – похвастался Семён Игнатьевич и, немного замявшись, добавил: – Да… вот Андрюша на охоте поцарапался. Ничего страшного, но мы решили, что дома царапины быстрее заживут.
Прасковья Фёдоровна встревожилась было, но пан Хилькевич и Андрей уверили её, что такой пустяк не стоит волнений. Обняв мать, Андрей направился в дом.
Прислуга суетилась вокруг повозки, снимая с неё вещи и перенося в дом. Дошла очередь и до большого куля, туго перевязанного пеньковой верёвкой.
– А вот это можете развязать, – приказал пан Хилькевич, украдкой поглядывая на дорогу, будто кого-то ожидая.
Он никогда не отказывал себе в удовольствии послушать восхищённые возгласы и удивлённое цоканье столпившихся зевак, рассматривающих добытые им охотничьи трофеи. И тем более сейчас, когда все будут поражены, впервые увидев шкуру настоящего медведя. Да ещё недавно обитавшего в здешних лесах.
На шумок подошли ещё несколько мужиков, а вместе с ними и дед Лявон – самая колоритная фигура в Черемшицах.
Об этом мужичке в двух словах и не скажешь. Родом Лявон был из сельской волости Автюцевичи[15]. Уже одна эта особенность выделяла его из остальных селян, ибо Автюцевичи славились на всю округу как самобытные и непревзойдённые выдумщики с природной смекалкой, особенно в юморе.
По годам Лявон был и не настолько стар, но так уж повелось, что все его называли дедом Лявоном. В натуре этого самобытного самородка всегда пульсировала ярко выраженная авантюрная жилка. Врождённый талант на выдумки и склонность к артистизму делали его незаменимой фигурой на всевозможных гуляньях и весёлых обрядах. Даже на посиделках молодёжи ему всегда были рады. Лявон был и большим любителем опрокинуть чарку-другую, после чего он, тоже с врождённой способностью, обязательно вляпывался в какую-нибудь историю или переделку – трагическую, по его мнению, для него самого, и комическую – для остальных. Это кратенько об основных чертах его характера и нрава. Внешне же Лявон смахивал на этакого хитренького, но безобидного живчика. Один его вид вызывал добрую улыбку и излучал чувство умиротворения и хорошего настроения. Кроме всего прочего, дед Лявон считал себя одним из наиболее грамотных и просвещённых среди крепостных.
Слуги, развернув грубую дерюгу, расправили и раскинули на снегу звериную шкуру. Её размеры, длинная шерсть и особенно огромные когти поражали воображение толпы. И каждый из селян с ужасом подумал примерно одно и то же: «Не приведи господь наткнуться на такое чудище в лесу!»
– И кто же подстрелил этого великана? – поинтересовалась изумлённая Прасковья Фёдоровна; ей очень хотелось, чтобы это был её сын.
– Ну, молодёжь нынче шустрая. Мы с Егором Спиридоновичем даже и выстрелить не успели, – лукавил Семён Игнатьевич, но вдруг негромко сказал: – Сын наш, Андрей, отличился.
Прасковья Фёдоровна обвела гордым взглядом толпу – жаль, похоже, никто не слышал. Она тоже подошла поближе к шкуре медведя и с изумлением разглядывала её.
Хотя на дворе уже начало заметно темнеть, но вокруг медвежьей шкуры всё ещё раздавались возбуждённые «охи» да «ахи». Мужики щупали и мяли в пальцах бурую шерсть; мерили шагами шкуру, а когда выходило малое число, принимались перемеривать пядями. А один из зевак даже пробовал незаметно тоже добыть себе трофей – выдернуть внушительных размеров медвежий коготь. Ну вот надо ж быть таким недотёпой: медведь этими когтями лося разрывает, а он думает, что его пальцы покрепче медвежьей лапы будут!
– Енто не медведь, а целый слом, кажись, – деловито раздался голос деда Лявона. – Аккурат и по размерам подходит и по масти.
Дед Лявон важно обвёл всех взглядом, словно желая ещё больше подчеркнуть значимость своего заявления.