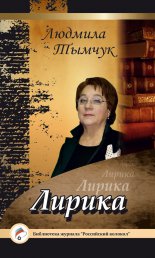Ведьма полесская Кулик Виталий

Ни на шаг не сдвинувшись с места, старуха замерла. Она в упор смотрела на всадника. Морщинистое лицо сильно побледнело, а зрачки её расширились до такой степени, что глаза казались просто чёрными. Она молчала и не сводила колючего взгляда с панского приказчика. Петру стало немного не по себе, и он, ещё раз зло выругавшись, буркнул в адрес Химы:
– Ладно, бесовское отродье, недосуг мне теперь возиться тут. Но я ещё с тобой разберусь.
Стегнув коня, он с места пустил его в галоп. Отъехавшему шагов на сорок Петру неумолимо захотелось вдруг оглянуться. Он поддался необъяснимому желанию и повернул голову. Ничего сверхъестественного приказчик не увидел. Старуха по-прежнему стояла на том же месте и всё ещё провожала его своим странным чёрным взглядом.
Гарцуя на коне, всадник не мог рассмотреть с такого расстояния, что губы старухи шевелились. Со стороны казалось, будто она кому-то что-то быстро рассказывала. Но рядом с ней никого не было и слов не разобрать. Она просто что-то бормотала…
Второй раз Петро встретился с Химой через несколько недель после случая на лесной дороге. Это уже была даже не встреча, а самая настоящая стычка.
В сентябре, когда селяне уже заканчивали убирать с панских грядок картофель, Петро поехал проверить, как идёт работа.
И вот невдалеке от копающих картошку баб приказчик вдруг заметил Химу. Она стояла на краю поля и о чём-то разговаривала с мужичком, державшим под уздцы пегую лошадку, запряжённую в крепкую телегу. На этой телеге отвозили картошку на панский двор.
В руках Хима держала ладный по размеру узелок, через льняное полотно которого явно выпирали округлые бока довольно крупных картофелин.
Петро решительно направился к старухе. Он уже отлично знал, кто она такая, но никакого трепета и тем более страха перед ней не испытывал.
В прошлый раз приказчик не стал связываться со старухой. Он тогда спешил, и ему некогда было показать этой ведьме, кто здесь главный. Но, вспомнив тот случай, он решил, что придётся именно здесь и сейчас проучить её. И в назидание другим, и за растаскивание хозяйского добра, и вообще, пора поставить эту старуху на место. Благо причина уже есть, а заодно и люди пусть будут свидетелями того, что Петро Логинов не лыком шит, и коленки у него не дрожат перед какой-то прибившейся старухой. Слишком уж много о ней недобрых слухов ходило в последнее время, а некоторые крестьяне уже просто опасались в одиночку пойти в лес. И кому, как не ему, Петру Логинову, надо навести здесь порядок?
По-молодецки осадив на скаку лошадь возле Химы и мужичка, всадник бросил пристальный взгляд на узелок.
– Так-так, ведьма старая, уже и картошку панскую крадёшь, добро хозяйское тянешь. Сама украла или кто помог? – громко говорил Петро, и нотки его голоса угрожающе дрожали в каждом слове. Даже в облике приказчика сквозило явное злорадство: попалась чертовка! Теперь-то он отыграется за всё. Вспыльчивый нрав Петра начинал стремительно набирать обороты.
– Я кого спрашиваю? Или, может, глухой тут уже прикидываешься?! Украла картошку?! – выкрикнул он.
– Не глухая… и не крала я ничего, – как всегда, без страха, но тоже со злостью прошипела Серафима. Ей уже порядком надоели угрозы и придирки.
– Так ты ещё и хлусить мне вздумала, чёртово отродье! – закричал Петро и грозно глянул на перепуганного мужичка. – А ты чего трясёшься?! Небось вместе картошку крали?!
– Дык я, ета… Я ж не крав… Я ж, ета… приехав тольки, – заикался мужичок, и от переполоха у него нервно вздрагивала всклоченная, как деркач[21], борода.
– Не виноват он ни в чём. Не лай зря на человека, – спокойно вступилась Хима.
Хотя старуху и разбирала злоба, но на рожон ей не очень-то и хотелось сейчас нарываться. Людей вокруг много… да и всё-таки панский приказчик… не простой холоп. Но уж больно дерзок и нахрапист!
– Это кто ж лает?! Так ты меня ещё и собакой обзываешь! Ах ты, сука! На тебе! – с этими словами Петро несколько раз со всей яростью стеганул Химу плетью.
От внезапной обжигающей боли старуха непроизвольно вскрикнула и прикрыла голову руками. Узелок упал на землю и из него покатились… яблоки.
Приказчик оторопело уставился на них, понимая, что сильно опростоволосился.
Мужичок и вовсе перетрухнул, быстро сообразив, что стал невольным участником разыгравшейся стычки. В таких случаях у людей часто появляются опасения, что они могут ненароком попасть в чужие жернова ненависти.
Крестьяне, бросив работать, с ужасом наблюдали за происходящим. Все понимали, что здесь, на их глазах, сошлись кремень и кресало, и каждый тоже опасался, чтобы искры этой стычки не обожгли и их самих. А то, что кому-то из двух сторон несдобровать, сомнений ни у кого не вызывало. Это уж точно!
Петро немного оправился от конфуза. Ну, получила баба плетью не за дело – ну и что тут такого?! Напустив на себя строгости, приказчик решил угрозами приуменьшить значимость своей промашки.
– А теперь, ведьма, слушай меня внимательно, – гарцуя вокруг Химы, угрожающе процедил он. – Даю тебе три дня – и чтоб духу твоего в наших краях не было. Убирайся туда, откуда пришла. И сучку свою не забудь. Нечего всякой нечисти нашу землю топтать!
Серафиме деваться было некуда. Она и так вдоволь наскиталась по чужим углам. Вот и сейчас, не успела обжиться – уже кому-то поперёк дороги встала. Ну уж нет! Если кому-то она и встала на дороге, пусть обойдёт! А такое, что вытворил сейчас этот приказчик-скотина, она просто не в силах простить.
В глазах Химы ярость била уже через край. Ведьма осторожно провела пальцами по запястью, где ярко расцвёл красный вздувшийся след от плети. Затем медленно подняла глаза на дрожащего мужичка – тот и вовсе вытянулся от страха.
– Ступай, – тихо и даже как-то миролюбиво произнесла Хима, но, помедлив, уже строго добавила: – Нечего тебе здесь делать. Уходи скорее.
Мужичка как ветром сдуло.
Странный чёрный взгляд упёрся в Петра. Только на этот раз в расширенных зрачках старухи сквозил расчётливый холод мести.
– Что ж, теперь и ты послушай меня… – казалось, очень уж спокойно и как-то вкрадчиво говорила старуха. – Земелька-то наша хоть и не мала, да теперь нам с тобой будет тесно вместе ходить по ней. Придётся кому-то оставить её, земельку-то грешную… Ох, и зря ж ты поднял руку на старуху немощную. Каяться будешь сильно, да поздно будет… – старуха говорила, и в её тихом голосе звучала зловещая угроза.
Серафима невероятным усилием воли сдерживала в себе бушующий ураган ярости. Она успокаивала себя мыслью, что всю эту ярость выплеснет потом, чуть позже и по-другому.
– А пока благодарствую за угощеньице, – продолжала Хима и опять потрогала покрасневший след от кнута. Зыркнув на Петра взглядом, полным ненависти, она выдала свой приговор:
– Как говорится, долг платежом красен. Вот и за мной теперь должок. Страшный должок… И ты сполна его получишь. Так-то вот, голубь ты мой сизый…
Сильно сопя, старуха нагнулась, подняла узелок и медленно потянулась к лесу.
Выпавшие яблоки так и остались лежать на земле.
Петро заворожено смотрел на них и искренне сожалел, что переборщил со старухой. Дров он наломал кучу непомерную, и ему вдруг стало страшно до жути. А вместе со страхом подтянулась и дрожь – Петра начало колотить.
Сделав несколько шагов, Хима вдруг оглянулась. Заметив дрожь приказчика, она презрительно ухмыльнулась.
– Твоё счастье, что ты мне для дела не подходишь…
«И что там у тебя за такое дело?!» – тут же проскочила мысль у Петра.
– Так что не колотись – до Рождества дотянешь… – словно похоронный звон, прозвучали последние слова ведьмы.
Старуха ушла, а к потрясённому приказчику противный холодок забрался под самое сердце. Хотя Петро и не особо верил во все эти проклятия да заклятия, но мало ли чего на свете не бывает! А вдруг всё-таки его выходка аукнется бедой для него самого или для его семьи? Но не просить же теперь прощения у этой карги, да ещё и прилюдно! «А-а, авось пронесёт…» – с отчаянием и надеждой подумал Петро.
Два этих события произошли летом и в начале осени. И вот сейчас, в канун Рождества, сидя за столом с баламутом Лявоном, Петро понуро вспоминал о тех роковых случаях и сожалел, что так вышло. Сильно сожалел… «Авось пронесёт» не проскочило. Теперь он окончательно уверовал в причастность старухи Химы к ночному визиту покойного Сыча.
– Скажи, Лявон, а управа какая есть на проделки ведьмы… ну, или хотя бы оберег какой или что-нибудь такое? – упавшим голосом спросил Петро.
Он и сам прекрасно знал из народных поверий, чем и как можно защититься и от злых духов, и от чёрта, и от ведьмы, и от прочей такой нечисти. В народе веками накапливались такие знания и наблюдения, сохраняемые не только в сказаниях и пересказах, но даже и в церковных писаниях. Раньше это всё было для Петра какое-то далёкое, сказочное, не касавшееся его лично. А тут вдруг на тебе – коснулось! Да ещё как!
И Петру сейчас хотелось услышать что-нибудь конкретное, что можно было бы тут же и применить. На худой конец, он нуждался хотя бы в поддержке веры в себя. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь зажёг в нём огонёк надежды, что не так уж всё плохо и можно избавиться от грызущих заживо тревог. А рядом был лишь только неунывающий балагур Лявон, которого и всерьёз-то никто в округе не воспринимал.
Но у балагура Лявона голова работала исправно. Если бы дед не дружил с ней, то вряд ли смог так ловко выкручиваться из многочисленных переделок, в которые регулярно попадал. Хотя насчёт этого получается палка о двух концах. А чего ж тогда попадал в такие казусы, если с головой дружбу вёл? А от матушки природы! Талант, так сказать, и на переделки, и на их расхлебывание.
Дед Лявон не стал томить собеседника долгими соображениями на заданный вопрос об управе на ведьму. Не раздумывая, он с ходу утвердительно ответил, прикидывая в уме дальнейшее развитие затронутой темы.
– Ну а як же ж! На сук покрепче завсегда найдётся и топор поострее. Я так кумекаю: ежели есть люди, способные зрабить заклятие, то должны быть и такие люди, якие могут эдакое заклятие снять. Или я штось не так разумею, а?
То, о чем поведал старик, Петру и самому было известно. Он уже немало об этом думал.
– Так, так, Лявон, твоя правда. Всё ты верно разумеешь, – согласился приказчик и пододвинул ближе к деду миску с грибами. – Да ты закусывай, дед, не соромейся.
– Ага, закусываю. Отменные грузди. Сам, мабудь, засаливал?
– Сам.
– В самый раз для таких гостей, як я.
– Это отчего ж? – не понял Петро.
– А оттого, што к етым грибкам да яще б зубы мне – ото объеденье было б, – сказав это, старик хитро зыркнул на Петра.
Если Лявон когда-нибудь и помрёт, то явно не от скромности. Захмелев от выпитой горелки, он уже в открытую дал понять хозяевам, что хрустящие солёные грузди ему не по зубам, а вот более нежные белые грибки иль маслята – как раз подойдут.
– Марыль, выбери там белых, чтоб деду по зубам пришлись, – сказал приказчик старшей дочке.
– Это из той большой дежи, что в самом углу клети стоит? – уточнила Марылька, уже держа в руке деревянную миску.
– Не. Набери из той, что поменьше, отборных.
– Кузьмич, не утруждай дочку. Я уж як-нибудь и с груздём управлюсь, – вслух воспротивился Лявон, а в мыслях решение приказчика одобрил полностью.
– Ладно, дед, не переживай за девку, с неё не убудет. Да и я не забеднею. А вот тебе спасибо.
– А мне-то за што?
Петро призадумался и как-то неопределённо ответил:
– Да просто… за то, что поговорил вот со мной. Вечер долгий скрасил…
Лявон лишь пожал плечами.
– Ну, дед, давай на посошок выпьем. Да и за наступающий праздник – тоже. А Марфа сейчас тебе ещё и гостинец соберёт… к Рождеству. Ну, будь здоров, дед, и ещё раз спасибо тебе, – сказал приказчик и с какой-то безысходностью лихо опрокинул чарку.
Раз выпала на долю Лявона такая удача, то надо её сполна и хватать. Не дожидаясь повторного приглашения, дед тут же, следом за Петром, тоже осушил свою чарку. Видя, что застолье подходит к концу, он усердно налёг на закусь. Блины, мёд, грибы были сейчас вкуснее вдвойне, потому как подходил момент расставания с этими яствами. Старик так хватал еду, словно до этого и не видел её на столе.
Глядя с какой жадностью Лявон напоследок уплетает закуску, Петро всё понял и опять повторил жонке:
– Марфа, собери там деду с собой что-нибудь. Да не жалей, пусть дед Лявон на Рождество и о нас доброй думкой помянет.
Замер Лявон, жевать перестал, хотя рот и был забит едой. Понял свою оплошность старик. И впервые ему стало неловко за себя, за то, что не смог сдержаться.
– Ешь, дед Лявон, ешь. Я же от всего сердца, – грустно, но как-то по-свойски сказал Петро.
И задумался тут старик. Крепко задумался! Ну, вот как не поверить в чудеса! Лявон и так на седьмом небе пребывал от свалившейся на него удачи побывать в гостях у самого приказчика, а тут ещё и Марфа суетится – к Рождеству гостинец назревает. Нет, с Лявоном такого фарта давным-давно не случалось. А тем более сейчас, в стариковском возрасте, когда до него никому, кроме старухи Гарпины и дела-то нет. Да и вообще никто не знал, что у старика происходит в душе, когда он остаётся один.
Все воспринимали весельчака Лявона таким, каким видели. Никому и в голову не могло прийти, что старик, часто сидя в уединении, с тоскливой грустью мысленно перебирал свою «развесёлую» и не сложившуюся судьбину.
Не послал бог ему детей, а значит, и внуков. Не нажил он и добра никакого, да и непонятно с кем наживать-то было. Первая жена рано умерла, со второй недолго продержался в примах – распутная баба попалась. Вернулся с подрядных работ, послушал людей, да и не пошёл к ней: занято оказалось его место в тот день. А теперь вот под старость сошлись с Гарпиной – такой же одинокой и горемычной бабой, – да так уж и будет им на роду доживать свой век вдвоём тихо и без ропота, с трудом перебиваясь с крапивы на студёную водицу.
И подкатит иногда горький комок от таких думок, вздохнуть не даёт старику. И такая же горькая тоска покроет влажной печалью выцветшие глаза. Смахнёт деревенский весельчак навернувшуюся скупую стариковскую слезу, да ещё и воровато по сторонам глянет: не заметил бы кто. Негоже жизнерадостному весельчаку Лявону плакать да на судьбину грех держать. Что ж, пусть все думают, что жизнь у него…
– Очнись, Лявон! Горелка разморила, что ли? – спросил Петро, удивившись странному выражению на лице старика.
– Дане. Ета я так… Задумався.
– На вот, дед, возьми. Это тебе к Рождеству. Кошик[22]после праздника вернёшь, – сказала подошедшая жонка Петра. Она держала в вытянутой руке корзинку с продуктами и грустно улыбалась.
– Э-э-э, дед, а глаза-то чего на мокром месте? – удивился Петро и вдруг понял: задело старика за душу уделённое ему внимание. Не то внимание, когда подшучивают над ним да смеются вокруг. Взяло за живое, до слёз проняло простое человеческое участие. Ведь он никто для семьи приказчика. Нищий односельчанин! Всё! А надо ж вот…
Растроганный старик уже не стыдился застрявших на ресницах и на щеках росистых капель. И что-то выдумывать сейчас он был не способен. Ему домой скорее надо, Гарпине гостинец отнести, обрадовать на праздник бабу.
Петро и Марфа встали, чтобы проводить гостя. Держа в дрожащих руках корзинку, Лявон остановился у порога.
– Благодарствую за гостинец. Век не забуду, – взволнованно сказал он и, грустно посмотрев на хозяина, добавил: – Тебе, Петро… к знахарю надобно.
Старик назвал приказчика просто, по имени, без отчества. Так более доверительно и ближе. Он молча, с сочувствием, смотрел Петру в глаза и тихо продолжил:
– Я не слепой ведь. Вижу: беда с тобой приключилась. Не тяни долго. Хорошего знахаря ищи… Сильного.
– Так, дед. Спасибо тебе за всё, – грустно прозвучал голос Петра.
Лявон снова недоуменно пожал плечами и, попрощавшись с Марфой и Марылей, вышел на улицу. Приказчик тоже вышел следом. При расставании дед, ещё раз задержав взгляд на Петре и легонько дотронувшись до его плеча, сочувственно произнёс:
– Удачи тебе, Кузьмич… И нехай Бог поможет тебе…
Немало поездил приказчик пана Хилькевича по Полесскому краю в поисках маститых знахарей. Многие брались ему помочь, но никому не удавалось снять проклятие ведьмы. Все они говорили, что на большой злобе приделано и очень сильно. И не знали они, кто мог бы помочь Петру. Беспомощно разводя руками, лишь в одном едины были: молиться надо и на божье милосердие уповать.
Петро вначале ещё надеялся избавиться от проклятия, денно и нощно молился, просил у Бога защиты, не забывая, однако, поминать лихом Серафиму. Если бы он только знал всю правду о насланной на него беде! Даже кошмарный сон не преподнёс бы ему более изощрённой правды. Если когда-то и суждено Петру отдать богу душу, то уж лучше пусть уйдёт в мир иной в неведении…
Совсем стал седой Петро Логинов. Осунулся, исхудал неимоверно, силушку свою потерял без времени и взор уж затуманено смотрел из впавших глаз. Вроде ничего и не болело, но слабость до дрожи в ногах и руках одолевала его, безразличие ко всему появилось. А в последнее время стал приказчик в синюю даль часто всматриваться. В невидящем взгляде манящая искорка появлялась. К себе звала эта даль, за горизонт небесный…
Похоронили Петра Кузьмича Логинова перед самой Масленицей. Всё село провожало панского приказчика в последний и неизведанный путь. Сказать, что люди любили или жалели Петра, поэтому всем селом, многочисленными кучками, стояли на кладбище – нет. Так уж повелось в сельской местности, что похороны были для людей своеобразным зрелищем. А если хоронили почитаемого или известного на селе человека, да ещё безвременно умершего и при загадочных обстоятельствах, то уж тут всякому непременно хотелось не пропустить такое чёрное событие.
Среди селян, собравшихся на похороны, то тут, то там шёпотом произносилось имя старухи-ведьмы. А в том, что она чёрная ведьма и что именно она свела в могилу Петра Кузьмича, ни у кого сомнений уже не оставалось. Было лишь многократно возросшее чувство страха и ужаса перед этим чудовищем.
Мужики, соблюдая неписаный закон жития не говорить о покойниках худо, тихо судачили о том, каков будет новый приказчик. К Петру приноровились. Хоть и вспыльчив да горяч был, но всё по делу. А дело своё он знал. А вот как будут жить крепостные с новым приказчиком – ещё погадать надобно.
Бабы тихо скулили в перерывах между пересудами. Глядя на заливающуюся слезами Марылю, они и сами не могли удержаться от голошения. Сама же Марфа уже не голосила по мужу. Она до этого выплакала все слёзы и душу. В нервном онемении Марфа лишь покачивалась над гробом, пугая всех своим отрешённым видом. Здоровье её, и без того незавидное, окончательно подкосила кончина Петра.
Односельчане искренне жалели Марфу и особенно Марылю. В пору семнадцатой весны на её девичьи плечи свалилась непосильная ноша поднять младших детей. На ослабевшую мать надежды совсем мало. Теперь ей, стройной и красивой девушке, придётся вместо мечтаний о романтической любви, думу тяжкую думать о хлебе насущном.
После поминок девушка долго стояла у порога своей хаты. Слёзы текли по щекам. На сердце противно скребли кошки, а в душе было мерзко и пусто. Чувство вины за участь отца не давало Марыле покоя. Ей казалось, что если бы она постаралась, если бы собрала всю силу воли и если бы предприняла хоть что-то, то, наверное, смогла бы спасти отца! Что ж, теперь уже поздно! Наверное, судьбе-злодейке так было угодно…
Марыля до конца ещё даже и не представляла, что будет дальше и как она сможет справиться с выпавшими на её долю испытаниями. Сейчас она не просто стояла у порога своей хаты, она стояла у порога другой жизни. Если бы можно было повернуть время вспять! Если бы можно… Но ничего изменить уже нельзя! И дороги назад уже нет!
А какие сомнения терзали несчастную девушку, было ведомо одной лишь ей…
Глава 8
До рассвета оставалось совсем немного времени. Небо из черно-звездного постепенно становилось темно-серым. Всё вокруг тоже прояснялось в темно-серых тонах. Лишь кое-где нерастаявший снег выделялся светлыми островками среди лесного сумрака.
Прохор осторожно пробирался к глухариному токовищу.
Сегодня он, как обычно, должен был сопровождать пана Войховского на глухариную охоту, но ещё с вечера Егору Спиридоновичу что-то нездоровилось, и он остался дома. Хотя Прохор и сожалел по поводу незначительного недомогания Егора Спиридоновича, но в то же время он втайне был рад такому повороту. Ведь теперь ему представилась возможность самостоятельно попытать охотничьего счастья. Пан Войховский от души пожелал Прохору на этот раз добыть своего первого и самого большого петуха.
Ещё после первой удачной охоты, весьма довольный добытым трофеем пан Войховский, не скупясь, учил Прохора тонкостям скрадывания глухаря, делился секретами этого редкого промысла. Так он поведал ему, что глухариная песня делится на две части. Сначала раздаются несмелые щелчки и «тэканья», при которых птица часто замолкает и прислушивается. Затем эти щелчки раздаются быстрее и смелее. Постепенно глухарь входит в песенный азарт, но охотнику двигаться на этой песне ещё ни в коем случае нельзя. Это – первый такт. И лишь когда упоённый пением бородач переходит ко второй части своего сольного выступления, вот тут-то надо быть начеку. Как только начинается своеобразное точение или, как говорят полешуки, «косовица», только тогда-то и глохнет на время глухарь. А называют эту часть песни косовицей, потому что уж очень звуки похожи на те, что раздаются на сенокосах.
Именно за это время есть шанс приблизиться к птице на несколько шагов. Не рассчитал на мгновение – и всё насмарку!
Вот уже и облюбованное глухарями место для состязаний. Обычно это лесные опушки, моховые болота, пролески или другие места, где есть немного простора на земле и стоят деревья-вышки, откуда можно оглядывать округу и на далёкое расстояние бросить вызов соперникам.
Дальше Прохор начал продвигаться с особой осторожностью. Он уже с вечера точно знал, что сегодня ток будет именно в этом месте, поэтому и пути скрадывания просмотрел заранее.
И вот в сером мраке раздались первые осторожные такты и щелчки глухариной песни. Заслышав их, охотничий азарт вытеснил из сознания Прохора все остальные чувства. Человек превратился в комок сосредоточенности и собранности. Движения молодого охотника стали мягкими и осторожными, как у рыси.
Набирая силу и уверенность, неслась навстречу заре хвалебная ода пробуждающейся жизни.
Пройдя ещё немного, Прохор замер. Дальше надо подходить только под глухариную косовицу. Улучив в пении птицы нужное коленце, охотник быстро сделал несколько шагов и замер. Буквально через мгновение кошение оборвалось. Токующий петух, придя в себя от песенного упоения, замер, внимательно вслушиваясь в серый сумрак. Не уловив ничего подозрительного, он с ещё большим азартом начал опять токовать. Одиночные щелчки сменялись непрерывным тэканьем. Первые звуки «кишив» – и Прохор опять делает бросок вперёд.
Вот уже на фоне светлеющего неба показалась и верхушка нужной полузасохшей сосны. Токующий глухарь находился там, но птицу пока не разглядеть. Прохор сделал упор для ружья на развилке веток. Расстояние до дерева позволяло сделать прицельный выстрел. Ближе подходить охотник не рискнул.
На далёком горизонте занималась утренняя заря. Медленно и величаво поднимался над весенней землёй огромный багряный диск. Всё живое радовалось утреннему солнцу, весеннему солнцу – символу новой жизни и любви.
Счастливая птица в упоении пела теперь уже почти без перерывов. Где-то здесь, рядом, находилась та, ради которой звучала эта песня, ради которой этот гордый косач готов был грудью биться с соперниками. Возбуждённый глухарь уже не мог сидеть на месте. Спустившись пониже, он в нетерпении расхаживал по толстой ветви, высоко вытянув шею и распустив веером хвост.
Восторгу птицы не было предела. Краснобровый красавец безумно радовался миру, своей избранной самочке, радовался своей гортанной песне. В этот момент он чувствовал в себе огромную жизненную силу и уже готов был дать бой любому, кто осмелится принять его вызов. Но откуда было знать этой гордой птице, что вызов её давно уже принят. Принят… человеком!
В самый разгар токования глухарю не суждено было услышать выстрел. Не суждено было до конца допеть свою оду любви. Смертоносный свинец оборвал глухариную песню на самой счастливой и ликующей ноте.
Непонятная и невыносимая боль резанула сердце благородной птицы. И если б могла она закричать голосом разума, то пусть бы услышал весь мир: «Как же так?! Почему?!» Но мир остался безучастным и равнодушным к непоправимой беде прекрасной птицы.
С громким шумом разлетелись остальные глухари. Возможно, уже на завтрашней заре самочки-глухарки будут слушать другую песню, забыв о сегодняшней, прерванной…
Прохор стоял над распростёртой птицей. Вместо потухшей искры божьей в застывших глазах глухаря отражался кровавый рассвет, принёсший ему такую печальную участь.
Но жизнь продолжалась! Солнце вставало, дарило свет и тепло всему живому. Мир пробуждался и радовался весне. Вот только для смертельно раненной птицы не нашлось больше места в этом огромном мире…
Глядя на добытый трофей, человеку вдруг стало грустно от мысли, что уже никто и никогда не увидит и не услышит это чудо природы. Прохор уже начал было даже немного сожалеть о своём метком выстреле. Но… что сделано, то сделано.
Путь в деревню неблизкий, но Прохору, если он не очень устал, всегда нравилось возвращаться домой длинными вёрстами. В эти часы он любил предаваться воспоминаниям и мечтам. Все сожаления по поводу добытого глухаря вскоре развеялись и уступили место воспоминаниям недалёкого прошлого.
Перед глазами Прохора в который уж раз вставали события злополучной охоты на медведя. Он помнил всё до мельчайших подробностей. Не мог забыть. Да и как забудешь, когда тебя без вины – плетью! Прохор хоть и был холопского происхождения, но чувство собственного достоинства у него было не на последнем месте. Несправедливость и унижение всегда сильно ранили ему душу. Так и тогда… Сгоряча не разобрались, обиду крепкую причинили… И подаренное ружьё отобрали. Ну, не подаренное… Егор Спиридонович ещё отцу вручил своё старое ружьё для несения службы. Прохор тогда ещё мальчишкой был. Повзрослев, он не только помогал Гришаку в работе, но и с ружьишком тем управлялся с завидным умением.
Правда, не прошло и недели после того случая с медведем, как пан Войховский вызвал к себе Прохора и, ничего толком не сказав и не объяснив, вернул ему ружьё. А Прохор и не лез с расспросами. Раз вернули – значит, так надо. Хорошо, что хоть больше ничем не аукнулась та история. Что ж, и на том спасибо…
Вот уж и панский фольварк[23]виден. Но молодой охотник решил сначала зайти домой и похвалиться великолепным трофеем.
В крестьянской хате с интересом разглядывали большую птицу. Младшие дети расправляли глухарю крылья и в восторге выкрикивали: «Ого!» Осторожно потрогав пальчиком красные брови или взъерошенную бороду петуха, резко отдёргивали руку и, дурачась, визжали, словно неподвижная птица могла их клюнуть.
– А где батька? – спросил Прохор у матери. Ему непременно хотелось, чтобы отец оценил добычу.
– Так он с утра к пану пошёл. С самого рання конюх наведался. Наказ панский передал, чтоб в фольварк пришёл. Но мы что-то так и не поняли…
– Что не поняли?
– Так, кажись, как тебе надобно было к пану явиться. Тебя не было… Ну, вот батька и пошёл узнать…
– А-а-а, пустое, – махнул рукой Прохор. – Егору Спиридонычу не терпится узнать, с чем я с охоты возвернулся. Вот расстроится панское самолюбие! Ну да ладно, мне всё равно туда надо. Там и батьку увижу.
У самого панского дома Прохор встретил отца.
– Чего Войховский вызывал? – сразу поинтересовался он.
– Так чёрт его знает… Он мне толком ничего и не сказал. Но я одно понял: тебе надобно куда-то то ли ехать, то ли идти…
Гришак говорил с нескрываемым волнением. Видно было, что он что-то не договаривает.
– Так, батя, давай рассказывай как есть. Что стряслось?
– Да ничего не стряслось! Просто предчувствие у меня дурное… – сказал Гришак и виновато глянул сыну в глаза.
– Говори, не тяни.
– Опасения меня одолевают, Проша. Боюсь, что надумал Егор Спиридонович продать тебя. Или ещё хуже того, чтоб в карты не проиграл. Хотя – не. За ним такие грешки не водятся. Ступай сам к нему. Там всё и прояснится.
– Ладно, пошёл я, – насупившись, сказал Прохор и направился к дому пана Войховского.
– С богом, сынок. А! постой…
– Ну? – обернулся Прохор.
– Как поохотился-то? – казалось, без особого интереса спросил батька.
– Добре, – буркнул в ответ сын и поправил на плече увесистую торбу. – Одной глухариной песней в лесу меньше стало. Зато на панской кухне смажениной[24]будет смачно пахнуть.
В голосе Прохора к ноткам сожаления прибавилась и какая-то злость.
Сильно взволнованный он вошёл на панский двор.
Возле дома, у самого крыльца, его уже ждал Егор Спиридонович. Он рассеянно выслушивал какие-то объяснения конюха Назара и бросал короткие, но пристальные взгляды на приближающегося Прохора.
– А-а-а! Прохорка! Давай проходи. Ну, рассказывай, как сегодня удалась охота? Есть чем похвалиться? – обрадовано воскликнул пан Войховский, но слишком уж наигранной была его весёлость.
Прохор молча скинул с плеча котомку и вынул оттуда свой трофей. Егор Спиридонович восторженно поцокал, но долго разглядывать глухаря не стал.
– Отнеси Маланье. Отличное жаркое выйдет. Молодец, – небрежно похвалил пан охотника и, замявшись, добавил: – А сам ко мне подымись. Известить тебя надобно кое о чём…
Глава 9
Прохор робко постучался в дверь.
– Заходи, заходи, – послышалось в ответ.
Зайдя в просторную залу, парень остановился у дверей и нервно переминался с ноги на ногу. Его насупленный взгляд вопрошающе буравил спину Егора Спиридоновича. А тот молчал, стоя у окна и как будто что-то там разглядывая. Наконец раздался его серьёзный голос:
– Прохор, я думаю, ты помнишь пана Хилькевича.
– А чего ж не помнить? Помню, – ответил Прохор, и сердце его бешено заколотилось. Вот и начала аукаться та история. Самое страшное предположение Прохора, похоже, может сбыться.
Егор Спиридонович повернулся к Прохору и без всяких отвлечённых речей прямо сказал:
– Вчера письмо от него получил… с просьбой. В общем… будешь теперь, Прохорка, служить другому пану. Семён Игнатьевич изволил иметь тебя у себя на службе. Вот так-с, голубчик. Но ты не расстраивайся… не так уж всё и плохо.
Ошеломлённый Прохор не мог и слова вымолвить.
Видя, какое воздействие на хлопца произвела новость, пан Войховский уже мягче проронил:
– Вчера ещё сказать тебе хотел, да подумал, что не до охоты утром будет. И дома-то сам остался, чтоб предоставить тебе возможность напоследок отвести душу…
– Егор Спиридонович, как же так? Я ведь вам верой и правдой… – начал было проситься Прохор.
– Всё уже решено. Не рви напрасно сердце. Ничего изменить уже нельзя, – непоколебимый тон пана Войховского сразу превратил пыл надежды Прохора в горечь безысходности.
И парень вдруг ясно понял, что, попав в руки пана Хилькевича, будет там самым опальным, а посему и самым последним холопом. Таких ожидает незавидная участь. Вся самая тяжёлая и грязная работа не минет его рук. Хотя Прохор работы и не боялся, но при одной мысли, что не ходить ему больше по лесу, не помогать пану Войховскому в проведении охоты, приводили парня в ещё большее отчаяние.
– Что ж, теперь всё понятно, – обречённо сказал он. – Пану Хилькевичу намного удобнее держать виновного под рукой. Скверно на душе – а вот и я! Получи недарека плетей не за дело! Авось на душе и полегчает. Премного благодарствую, Егор Спиридонович! Я…
– Дурак, – просто и без эмоций Егор Спиридонович прервал бедственную речь крепостного, но тут же, подойдя вплотную к Прохору, вдруг грозно прорычал: – Кто ты такой, чтоб указывать мне, как поступать? А?! Вот то-то, лучше уж помалкивай – тебе же спокойнее будет.
Прохор никак не ожидал от пана Войховского такого отношения. Конечно, они были птицами несоизмеримых полётов, но ведь сколько времени проводили вместе на охоте. И всякое бывало. В мороз и в дождь, в лесу и на болоте они оба знали, что, случись беда, помогут друг другу. А тут вот на тебе! Ага, помог пан холопу!
Прохора душили досада и негодование. Но что он мог? В бега что ль податься? От таких невесёлых мыслей хлопец тяжело вздохнул и без разрешения сел на ближайший мягкий стул с резной спинкой. В другое время такое своеволие дорого обошлось бы крепостному, но сейчас Прохору было всё равно.
– Ну что ты уже приуныл, как красна девица без хлопца, – смягчившись и не придав значения тому, что он стоит, а его холоп уселся на дорогой стул, сказал пан Войховский.
– Радоваться нечему, – угрюмо буркнул Прохор.
– Ладно, Прохорка, теперь слушай меня внимательно. Никто тебя ни на какую расправу не отдаёт – вот всё, что тебе нужно знать.
– Егор Спиридонович, а может всё-таки не надо мне туда? – Прохор сделал ещё одну слабую попытку уговорить Егора Спиридоновича изменить своё решение.
Голос его звучал подавленно. Он знал, что если паны договорились, то никакой холоп не переубедит их в обратном.
– Ты, Прохорка, не горюй. Знаю, о чём думаешь: о лесе, об охоте. Я тебе сказать могу лишь одно: всё будет зависеть от тебя. Придёшься там ко двору, покажешь себя с лучшей стороны – и жизнь твоя будет не хуже, чем здесь. А может быть даже и лучше. Короче говоря, готовься. В начале следующего месяца приказчик по моим делам в Каленковичи поедет и ты с ним. А там тебя встретят и заберут. Ну, вот, кажется, и всё, – подвёл черту всему вышесказанному пан Войховский.
Этими словами он подвёл черту и под периодом жизни крепостного Прохора Григорьевича Чигиря, прожившего под родительским кровом двадцать лет.
После ухода Прохора, пан Войховский долго думал о его дальнейшей судьбе и, конечно же, не мог обойти воспоминанием охоту на медведя-шатуна…
Тогда, после той роковой охоты, Войховский и Семён Игнатьевич уже дома, заметно успокоившись, осмотрели ружья и поняли, что в медведя стреляли из ружья Прохора. Скорее всего, Андрей в шоке забыл взвести курок. Прицелился, а выстрелить не смог. Выстрел же Прохора он в горячке принял за свой, с задержкой и без отдачи. Всё это понять можно… Ему в тот момент не об этом думалось, да и вряд ли он был в состоянии тогда о чём-либо вообще думать.
Егор Спиридонович и пан Хилькевич условились ничего не говорить Андрею. Решили, что пусть молодой Хилькевич думает, будто медведя застрелил он.
Пан Хилькевич тогда расстроился, что попусту обидел Прохора. Хотел подарок дорогой ему сделать – ружьё хорошее подарить. А потом ещё был жаркий спор и… пари – чёртово пари!
Прервав вспоминания, Егор Спиридонович тяжело вздохнул и в сердцах произнёс: «Лучше б он ружьё подарил…»
Намерение купить Прохора мёртвой хваткой оседлало пана Хилькевича, и на прощание он сказал: «Письмецо пришлю! Отказа, Егор Спиридонович, не принимаю! До скорого!» И уже отъезжая, он издали выкрикнул: «Помните об уговоре! И он не должен знать!»
Глава 10
Повозка пана Войховского отправлялась в Каленковичи в конце апреля.
Сборы не заняли много времени. Прохор с вечера приготовил лишь одежду, добротные сапоги в котомке, да пару новых лаптей на дорогу. Был готов и собранный матерью узелок с едой. Остальные вещи было решено забрать позже, с оказией.
Ещё не пропели третьи петухи, а в избе Гришака уже мерцал свет зажжённого каганца. В хате царило тягостное напряжение от неизбежного скорого расставания.
Мать громко всхлипывала, растирая слёзы тыльной стороной ладони.
– Як же ты там без нас? – тихо причитала она. – Ох, недоброе чует моё сердце.
– Ну что ты каркаешь, баба бестолковая, – одёрнул жонку Гришак. – Егор Спиридоныч твёрдо заверил, что никаких придирок Прошке чинить там не будут. Наоборот, сразу доверят должность обходчика. А это тебе не гусей пасти! – громко выговаривал мужик, да только уверенности от этого в голосе не прибавилось.
Он и сам сильно переживал, отправляя сына на чужбину. Хоть и не за тридевять земель, но всё равно… Кто знает, как там примут его и когда ещё придётся свидеться?
Слова Гришака не успокоили Агафью, и она ещё сильнее начала причитать:
– Господи, за что мне такое наказание? Сынок, ты хоть…
– Мам, перестань плакать. Не на войну же провожаешь.
– Да Господь с тобой, сынок! Какая война?!
– Ну так и я о том же! – засмеялся Прохор, а у самого на душе до того тоскливо стало, что хоть плачь. – Будет возможность, я вас обязательно навещу, – изменившимся от комка в горле голосом Прохор пытался успокоить родителей.
Гришак взял сына за плечи и грустно сказал:
– Поговаривают, царь волю крепостным обещает дать. Но это пока лишь слухи. Будем Богу молиться и за волю, и за тебя, сын. Ты уж не забывай там нас. Я вот думаю, что, если оправдаются слухи и будет воля, будем и мы снова вместе. Ну а теперь пора идти в фольварк.
Гришак и Агафья провели сына до панского двора, где уже была готова к выезду повозка. Пан Войховский, не поленившись встать в такую рань, давал последние наставления своему приказчику, при этом было видно, что он просто дожидается Прохора. У Прохора даже создалось впечатление, что и дел-то никаких у Войховского в Каленковичах нет. Наверное, надо было просто доставить проданного крепостного до условленного места и передать в другие руки. Ну что ж, затея не хитра.
– Доброе утро, – понуро поздоровался Прохор.
– Здорово, – кивнул приказчик.
– Доброе, – ответил пан Войховский и, грустно глядя в глаза бывшему своему крепостному, спросил: – Как настроение?
– Да какое уж тут настроение…