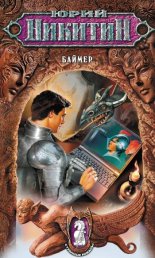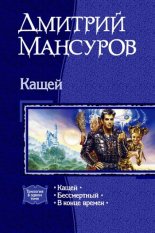Мифогенная любовь каст Пепперштейн Павел

– За победу! За Советскую власть! – почему-то шепотом повторил Дунаев и, чтобы заглушить смущение, опрокинул стакан в рот. Спирт обжег его изнутри, перекрутил несколько раз, и он весь засветился ярко-белым светом, желтоватым снизу и доходящим до алмазного сверкания сверху, в области головы. Дед с бабкой отпрянули в дальний угол, к иконам, и мелко закрестились, охая и нагибая головы. Затем они куда-то исчезли. Дунаев сидел, ослепленный собственным сиянием. Он усилием воли открыл глаза и рот. Увидев все окружающее как будто сквозь морскую воду, он втянул воздух в легкие, и неожиданно сияние ушло в рот и погасло внутри. Теперь все выглядело нормально. Минут десять спустя дед с бабой вернулись и позвали Дунаева в баню. Они вышли на крыльцо. Дед набросил парторгу на плечи старую, еще с гражданской, шинель, сам шел с керосиновым фонарем. Бабка семенила сзади с вениками. Банька стояла на отшибе, в глухом месте, от нее шла с двух сторон изгородь. Домик густо зарос мхом, кустами и елками.
– Банька-то у нас колодезная! Прямо вокруг колодца строили и колодец спрятали. Плохо, если такую водичку подлый немец пить станет, – бормотал дед.
Зашли в баньку и осветили ее. Они стояли в предбаннике, где был столик и две табуретки.
Все русские предбанники чем-то похожи друг на друга. В них всегда присутствуют какие-то мелкие пучки чего-то сухого, чего-то такого, что могло бы понадобиться людям уже умершим или еще не родившимся. Есть там и мелкие полураспавшиеся тряпочки, которые в других местах стали бы скопищем грязи, здесь же поражают неожиданной чистотой, как бы вываренностью, символизируя тем самым, что крошечное и угрюмое пространство с бревенчатыми стенами есть вход в пределы очищения. Наконец, когда пар стал настолько густым, что его струйки просочились в трещинку на стекле крошечного оконца, они вошли внутрь. Дед сноровисто возился с кадушками, отмачивал веничек в душистом кипятке, пахнущем березовыми листьями.
Дунаев сидел на мокрой лавке голый, потеряв себя среди горячего пара, запрокинув голову.
Ему было хорошо. Казалось, пережитый кошмар отступает куда-то далеко, расплываются застывшие в душе мучительные и болезненные сгустки. А когда дед обдал его с ног до головы горячей водой и стал охаживать веничком, Дунаев забыл про то, что пришла война, забыл про немцев, забыл про завод: он почувствовал себя вернувшимся в детство, в свое далекое деревенское детство.
Ему казалось, что он жаворонок: таким, в вышине парящим над землей, он видел себя в глубоком детстве во сне. Крошечные домики среди квадратов полей, маленькие озерца, ковер пушистого леса – все это лежало далеко внизу, было ярко освещено солнцем. Затем Дунаев ощутил, что он стремглав бежит по пшеничному полю, голый по пояс, рассекая пшеничные колосья, мягко хлещущие его по голове и телу. После этого пошли круги вокруг него, и он понял, что плывет по реке, задевая ветви ив, свисающие до самой воды. Вдалеке в тишине квакали лягушки. Нахлынул сырой запах, потом он потеплел и стал запахом костра. Сгустилась ночь, и только были ярко освещены лица у сидевших у костра и мохнатые морды собак, лежащих между ними.
Наконец ушат холодной воды пробудил его от грез. Растираясь чистой тряпицей, Дунаев вышел в предбанник, сел на лавку.
– Ну что, ожил, милок? – подмигнул ему дед.
– Да, отец, прям как заново на свет родился.
Старик хихикнул.
– Что за места, отец? – спросил Дунаев.
– Да как тебе сказать… Места глухие, дремучие. Далеко ты забрался. Дней пять промотался небось по лесу. Здесь до ближней деревни дня три топать пехом, а иначе никак не проедешь. Зовут же деревню Сутолочь. Да только там таперича никакой сутолоки нет и живой души не сыщешь. Потому как народ оттедова уходить стал, да весь и ушел. Остались три двора, да там старичье, вроде меня, с печей не слезает.
– А что так? Почему народ ушел?
– Да пересуды пошли, что лес здесь больно нечист стал, али кто-то на людей страху нагнал, – дед снова рассмеялся прозрачным, радостным смехом. – Народ-то темен в здешних краях. Вот в Ежовку все и подались, что много к югу лежит. Там и сельсовет был.
– А теперь что же?
– Все, как есть, немец пожег. И Ежовку пожег, и Ореховку, и даже Воровской Брод. Одни головешки торчат. Черным-черно.
– Да я знаю… я слышал… – пробормотал Дунаев, и в голове у него мелькнуло смазанное воспоминание о чьих-то словах: «…все в тех деревнях черное, как обугленное, – и деревья, и птицы на них, и избы, и люди в них, и все добро…»
Старик смотрел на него, весело прищурившись.
– Да ты не бойсь, парторг, – подмигнул он Дунаеву. – Сюда немец не забредет, здесь места гиблые. С юга болота лежат, с севера чаща непроходимая стоит. Схороним тебя. Мы с бабой бездетны, вот ты нам заместо сыночка и будешь.
– Спасибо, отец, только не время сейчас мне тут по-пустому отсиживаться. Война на дворе. Надо партизанский отряд организовывать, с фашистской нечистью сражаться. Раз уж забросило в тыл врага, значит, здесь мой боевой пост. Надо бить немцев и в хвост и в гриву.
– Ишь ты какой! – усмехнулся старик. – Уж и в хвост захотел. Это надо умеючи. Горяч ты больно, нетерпелив. Как парень, на свидание собираешься. А немец не прост. Вот поживешь с мое, узнаешь, какие закавыки в человеке незнамом открыться могут. Я-то с немчурой уж повоевал в свое время. К нечисти присматриваться надо, ежели хошь ее одолеть. А так чего? Пойдешь ты в леса да болота да и сгинешь там – людей вокруг на незнамо сколько нету. А если и выйдешь на обжитые места – немцы схватят, и конец борьбе. Себя беречь надо, сынок. Ты ж парторг. Ты Родине советской другую службу служить должен.
– А какую? – поинтересовался парторг.
– Много будешь знать – скоро состаришься, – лукаво захихикал дед. – Пошли, милок. Не обессудь, если не до конца угодил.
– Да что ты, дедушка, я земной поклон тебе кладу. Спас ты меня, право, от смертной погибели.
– Не надо, милок, – и старик ласково потрепал Дунаева по плечу. – В свое время отблагодаришь.
Они пересекли двор и подошли к задней стене избы. В темноте Дунаев различил огромную песью будку. При свете луны слабо блеснула цепь.
– Здесь наш Боборыкин живет, – спокойно произнес дед. – Он всех нас зорко охраняет.
Он наклонился к будке и стал выманивать кого-то, прищелкивая пальцами и посвистывая.
Раздалось сопение, и из круглой дыры выглянула собачья морда. Цепь брякнула. Дунаев присел на корточки, чтобы погладить собаку.
– Ишь ты, какой славный пес! – сказал он и протянул руку, но она застыла в воздухе. Морда Боборыкина оказалась вблизи вовсе не собачьей, скорее это было лицо обезьяны, имитирующей крайнее человеческое страдание.
Блеснули оскаленные зубы.
В следующее мгновение выражение обезьяньего лица изменилось, брови сошлись на переносице, подбородок выдвинулся вперед.
Дунаев испуганно отпрянул. Старик рассмеялся.
– Боборыкин у нас большой кривляка. Он червей обожрался, теперь кривляется. Ну, ладно, пошли в избу.
Дунаев вдруг ощутил прилив подозрительности.
– А откуда ты это все знаешь? – спросил он деда, глядя на него в упор.
– Что все?
– Ну, про деревни, что там немцы сожгли…
Дед засмеялся и отвел светлые лучащиеся глаза.
– У нас в лесу своя информация. Сорока на хвосте принесла.
– Ты, дед, со мной не хитри, – посуровел Дунаев. – Говори начистоту.
Старик снова засмеялся.
– Что-то ты больно смешлив! – настороженно наступал на него Дунаев. – Сейчас вроде бы не до шуток – время какое. А ты все смеешься. И когда про деревни сожженные говорил, смеялся. И слова какие непростые знаешь – «информация». Да ты не простой мужик. Может быть, ты из беляков или бандитов недобитых, что по лесам отсиживаются и немцев ждут не дождутся? А ну говори, кто ты такой! – Он быстро шагнул вперед и схватил старика за ворот полотняной рубахи. В тот же момент он почувствовал страшный удар, будто волной раскаленного воздуха. Его отбросило далеко назад, и с такой силой, что его тело шмякнулось о ствол старой ели и опрокинулось на землю.
Он долго не мог подняться – руки старика помогли ему встать. Он услышал ласковый голос деда:
– Не спеши, сынок. Придет черед: все узнаешь и даже больше того. А теперь пошли в избу, надо тебе отоспаться. А то с голодухи да усталости, вижу, ум за разум заходит.
Поддерживая парторга, дед отвел его в избу и уложил на полати. Сам со стаканчиком и тряпочкой примостился рядом с лежащим на спине Дунаевым и, плеснув спирту на тряпочку, быстро растер его с ног до головы, перевернув три раза. Теперь тело не сияло, но из головы, из того места, где лежала девочка, засветил в стену мощнейший столб света, как от прожектора. Дунаев выпил чашку отвара, сваренного бабой, и скоро начал погружаться в галлюцинаторный коридор, шершавый и бархатный, плюшевый и парчовый, глиняный, шерстяной, волосатый, ситцевый, шелковый, деревянный, металлический, ковровый, песчаный, стеклянный, граненый, рубиновый, изумрудный, жемчужный, угольный, резиновый, стальной.
Глава 11
Рассвет
Дунаев проснулся на рассвете. Стояла мертвая тишина. Птицы не пели.
В крошечное оконце были видны холодные, нежно окрашенные небеса. Парторг встал и увидел, что перед ним на сундуке аккуратно разложены его вещи: пыльник, бинокль, сапоги, рубашка, трусы, носки, серый костюм, галстук. Видно было, что вещи пытались почистить и привести в порядок, но они продолжали хранить на себе следы лесных скитаний.
Дунаев оделся, прошел в горницу. На столе стояла кружка с молоком и лежала краюха хлеба.
Он съел хлеб, запил молоком. Затем обошел дом – старика и бабы нигде не было.
«Уж не побежали ли они доносить немцам?» – встревоженно подумал парторг.
Он вышел во двор, наполовину заросший травой. Несколько кур и петух лениво бродили вокруг крыльца. Лес – высокий, еловый – окружал полянку со всех сторон неприступной стеной. Мысль о возвращении туда была ужасной, однако сидеть одному в избе, покорно ожидая неизвестно чего, казалось Дунаеву опасным. Он заглянул в конуру к Боборыкину, но и там было пусто, цепь лежала на песке.
За домом чернел покосившийся сарай, в котором блеяли козы, чуть подальше простирался огород, за ним виднелось несколько ульев.
«Хозяйство у них тут, – подумал парторг с неприязнью. – Укрылись от мира и сидят в глуши, кулачье сраное».
Он зашел обратно в избу, снял с гвоздя охотничье ружье и внимательно осмотрел его. Оно было недавно смазано и в полной исправности. Парторг нашел патроны, зарядил ружье.
– Хоть одного немца да убью, – решил он.
Однако шел час за часом, а никто не появлялся: ни немцы, ни старик со старухой, никто другой. Солнце прошло зенит и стало клониться к западу. Дунаеву захотелось есть: он нашел в печи горшок со вчерашними щами и съел их. Наевшись, он долго и тупо сидел за столом, держа ружье наготове и не думая ни о чем. В крошечном зеркальце над рукомойником он случайно увидел свое лицо: оно было осунувшимся, покрытым щетиной, с царапинами на лбу. Один раз над избушкой пролетело несколько военных самолетов, видимо немецких, – Дунаев не успел разглядеть.
Когда стемнело, Дунаев зажег керосиновую лампу и снова стал ждать. Одиночество угнетало его.
Дунаев сидел, сидел, да и заснул, положив руки на стол и уронив голову на руки. Керосиновая лампа мигала рядом с ним и вдруг погасла. Но Дунаев уже не замечал этого, он крепко спал. Из-за сундучка вышла мышка и на тонких ножках стала бегать вокруг скамьи, где сидел Дунаев. Ему снилось, что у него очень быстро портятся зрение, слух, обоняние и осязание, но при этом развивается новый орган – девочка в голове. Иногда он освещал прожектором из макушки какие-то вещи. Почему-то вещи всегда оказывались освещенными сверху, хотя луч шел снизу. Вскоре он ослеп, оглох, потерял все способности восприятия и тут ощутил, что они были тяжелой обузой, искажали действительность. Воспринимая все девочкой из головы, он ощущал все естественнее и лучше, удобнее было ориентироваться в окружающей обстановке. Но странное дело – он находился вовсе не в избушке. И не в лесу. Судя по всему, это был какой-то немецкий город. Кое-где висели флаги со свастикой, проезжали мотоциклы с колясками, мимо проходили офицеры немецкой армии СС.
Дунаев ощутил себя советским разведчиком, внедренным в какую-то из тайных служб СС или абвера. В длинном кожаном пальто, в черной фуражке с маленьким элегантным черепом и руническими буквами SS на околыше он медленно шел вдоль улицы. Он должен был передать сообщение, встретиться со связным.
Связной – молодой человек болезненного вида – стоял у витрины магазина комнатных птиц, как было условлено. Нарочито медленным шагом Дунаев подошел к нему сзади и отразился в стекле. Во сне у него была другая внешность: лицо с печальными глазами, как будто слегка подведенными тушью. Он был высок, с кривоватой улыбкой, в которой светилось затаенное страдание. Глядя на птиц, он произнес пароль: «Я предпочитаю пустые клетки». Связной ответил, как и должен был ответить:
– Полагаю, вы любите тишину.
Дунаев незаметно передал ему свернутую трубочкой газету, в которую была вложена «информация».
Тут парторг почувствовал ужас, который предшествовал событию, как черная тень приближающегося убийцы, падающая из-за угла, возвещает о его присутствии. Действительно, через минуту их арестовали. Полубесплотные люди в плащах и шляпах запихнули Дунаева в автомобиль. Он успел заметить табличку с названием улицы: Моцартштрассе. В машине ясно проступило осознание надвигающегося кошмара: сейчас будут пытки, избиения, леденящая необходимость вытерпеть все это, сжав зубы, чтобы не назвать ни одного имени, ни одной даты, ни одного обстоятельства.
Вместо этого в голове Дунаева, в области макушки, зажглось теплое розовое сияние, он стал дико раздуваться, прижимая гестаповцев, сидевших по обеим сторонам, к дверцам автомобиля.
Глаза у него вылезли из орбит, и почему-то его переполнила какая-то низменная, идиотская гордыня, совершенно неуместная в этот момент.
– Я гений! – заорал он внезапно, совершенно неожиданно для самого себя. – Я гений! – Его голос становился все громче и громче. Когда он в третий раз проорал: «Я гений!» – голос был оглушительным. Гестаповцы закричали от страха и боли.
«Мерседес» врезался в парапет и распался. Неряшливо расшвыривая куски железа и немцев, Дунаев потопал к трамвайной остановке, продолжая раздуваться. Он испытывал дикую смесь стыда, страшной силы и необузданной воли. Увидев трамвай, парторг уже не шел, а катился ему навстречу, давя каких-то людей в штатском, некстати выбежавших из-за угла. Он схватил трамвай, смял его, как гармошку, и закинул аж за квартал. Трамвай пробил крышу жилого дома. Там раздался взрыв, Дунаева тряхнуло. Затем внизу, в гигантской тени парторга, появился высокий седой фашист с фуражкой в руке. Недалеко стоял его изящный автомобиль.
«Видимо, генерал», – подумал Дунаев. Краем глаза он увидел, что за рулем автомобиля – женщина. Рядом с генералом возникла шеренга отборных красавцев с автоматами на черных ремнях. Они построились в линию и открыли огонь по Дунаеву. Но он не ощутил пуль, а прыгнул вперед и побежал, ломая деревья парка. Неожиданно он оказался за забором военной части. Под ногами мелко захлопали ящики с патронами. Но тут грохнула пушка, и на Дунаева это подействовало как укол булавкой на воздушный шарик. Он обмяк, упал и накрыл собой, как одеялом, всю военчасть.
Он почувствовал себя совсем плоским и очень плотным: под ним что-то копошилось. По-видимому, люди, наполнявшие казарму, пытались спастись, но паника, мрак и духота препятствовали им. Дунаев прижимался к земле все плотнее, словно спрут, желая раздавить как можно больше людей. Убегавших из-под него он бил ладонями, как муравьев.
Так, дергаясь и извиваясь, он и проснулся. Тело его лежало на полу избушки, а разбудил его громкий смех.
– Славно же ты, сынок, воюешь с немцами! Поди, полгарнизона задавил.
Дунаев приподнялся и с удивлением увидел, что из-под его тела и вправду в разные стороны разбегаются муравьи. Перед ним, опираясь на палку, стоял какой-то старик и смеялся. Это был другой старик, не тот, который парил его в бане. Этот старик был маленький, сухой, как бы изъеденный молью или муравьями. Одет он был в какую-то бесформенную ветошь, на голове – низко надвинутая лыжная шапочка, в бороде (свалявшейся и грязной настолько, что не проступала даже седина) запутались трава, сор и мелкие бумажки. Да и избушка изменилась. Все вокруг покоробилось, обмякло, сморщилось, покрылось белесым налетом. На стенах были развешены гнилые пучки трав и кореньев, появились темные закоулки, притолоки и даже какие-то мутные, кажется неприличные, фотографии на стенах.
– Ты кто такой? – спросил Дунаев слабым голосом.
– Меня в здешних местах Поручиком зовут, – ответил старик со смехом. – А деда с бабой никаких здесь и не было. Это все я тебе пыль в глаза пускал. Обернулся сначала дедом с бабкой, да такими гладенькими, да сладенькими, да ласковыми, как в сказке. И все ведь так чисто подстроил, только вот Боборыкин чуть не подвел, ебать его в рот. Ну да ты и заподозрил неладное. Ушлый ты, красавец. Это и хорошо. Славный из тебя пустырь получится. А может быть, скажу так: славный из тебя выйдет воин. Ишь ты как меня, старика, просек. Ты, говорит, не мужик, слова не те. Ты, говорит, из беляков недобитых. Это правда. Я действительно в Гражданку у белых воевал, за то и называют меня Поручик. Потом в леса ушел и стал называться атаман Холеный. Только недолго мы куролесили: ребят моих частью поубивали, частью разошлись по ночным краям, а остальных я сам отпустил. А все потому, что я узнал тайные дела и здесь, посреди леса, в избушке поселился.
Научился кой-чему от того, что раньше здесь было. А оно потом ушло, все дела и избушку мне поручило. Так что теперь я в этом лесу хозяйничаю. Да не так, как прежде, когда ребята мои с обрезами да топорами по кочкам-тропкам маялись, а понадежнее. Захочу, будет просека, захочу – болото. Захочу, нечисть случится, или гроза, или колотун найдет. Захочу – инеем схвачу. Захочу – снежком позолочу. Захочу – никем обернусь. Вот как вчера. Ты ходил, ходил, а я за тобой да смеялся, как никакой. А ты ничего. А вот нынешней ночью решил с тобой по душам поговорить. Парень ты отличный, и если за что возьмешься, то из кожи вылезешь – а доведешь дело до победного конца. Но победа – дело тонкое. И разное оружие для победы надобно бывает. Вот, посмотри, немцы на вас с авиацией, танковыми орудиями, со связью, со шпионской сетью. А вы что? Одностволки с турецкой войны? Кавалерия? Окопы? По законам войны тот, кто лучшее оружие изобретет, – тот и победит.
Так вот, теперь на меня, Поручика, взгляни. У меня вообще никакого видимого оружия нет. А, однако, непобедим я, и ты мою силу почувствовал уже. Правда, чуть-чуточку только, иначе бы тебя перевывернуло через Притык да на Подогрейку. Но я знал, что ты Несмеяшка, и сейчас не рад, что тебе открываюсь. Знаю, неверчивый ты – это тебя и ограничивает, шоры надевает. Хорошего человека не признать – все равно что в Подстежку наплевать… Но, конечно, воин должен быть настороже. Ты грамотный, хоть и сам того не знаешь. Обучить тебя быть воином легко. Да тебя и сейчас уже поразить нелегко, так что по всему видать – воин ты прирожденный. Да только втемяшил себе в голову, что гражданский. И счастье твое, что война тебе подвернулась. Открою тебе – воины рождаются во время войны. И смотри – родился ты в турецкую, потом японская война, потом мировая, потом гражданская, и затем басмачи. Потом, не успели отдышаться, и финны, и снова японцы. Ну, а теперь главное твое время – самая большая война идет, больше ее не было. И только в войну достигнешь ты цели своей и сможешь сказать, что жизнь прожил не зря. Потому как воин ты, а не кто иной. А настоящие воины – это те, кого война кормит, от нее они рождаются, но никогда от нее не умирают. Как же воину умереть от войны, если он – дитя войны и в ней его жизненная сила заключена? Для других война – смерть, а для воина – жизнь. Просто задача воина – это победа и переход в Светлицу. В этой избушке, откроюсь тебе, Светлица есть, да только победа еще не близко.
– Спит, – вдруг произнес Дунаев. Старик прищурился. Дунаев явственно, физически почувствовал в первый раз, что девочка в его голове спит. Он ощущал ее тельце в мягкой голове, думал ее снами. Потом он опомнился и посмотрел на старика. – Что ты говоришь? Из белых, значит… Воином быть… Другое оружие… Да есть у нас другое оружие, кроме винтовок и конницы, оружие, посильнее фашистских танков, – это любовь, старик. Светлая и беспощадная любовь к Родине!
– Любов? – усмехнулся дед. – Да ты, поди, не знаешь, что такое любов, что такое беспощадность. Любов, детка, это смех и слеза да под кожей глаза. Ты, видать, не ебся давно, что про любов заговорил. Как немцев ебсти начнешь, так про любов забудешь, а ненависть и в голову не придет. Только удаль, пустоту да щекотный ветер будешь чувствовать.
– Да зачем я тебе нужен, дед? Хочешь убить меня – убей, хочешь немцам сдать – сдай, если сможешь. Я ж коммунист, парторг, опасно сейчас в тылу с таким человеком дело иметь! Чегой-то ты все меня уговорить хочешь? На что?
– Ну, уперся! Как бык дурной! Ежели цель себе ставишь, парторг, надо ее выполнять. Ежели не идет дело, не катит Колоб, как говорят, то надо средства сменить. Твоя мысль о партизанском отряде – мысль дитяти деревенского. Почему Холеного не слушаешь? С ним таких дел наделаешь, что ни в каком другом случае не узнаешь! Понял?
– Понял, – внезапно поверил парторг. – Ты, значит, тоже воевать хочешь, хоть от людей, от мира схоронился. Только своим, лесным способом. Но в одиночку тебе, видать, не с руки. Ты меня, значит, вроде как в напарники али в подмастерья нанимаешь?
– Верно, да с поправочкой, – рассмеялся старик. – Не я воевать хочу, а ты хочешь. Сам и будешь воевать, в одиночку. Я же тебе помощничком буду: под руку толкать да ум навевать.
– А как же это ты меня учить хочешь? – спросил Дунаев. – Школа у тебя, что ли, здесь?
– Да уж школа не школа, а для немцев больнее укола. Если хоть один новый мастер в этой точке появится, горе немцам, не пройдут они ни шагу вперед. Таких мастеров по пальцам считать. Микулу Вологодского знаешь? То-то же! На озерах северных сидит старикан, и от этого весь край заснул и Ледочкой прикрылся, сестричкой твоей Машеньки. Сейчас вроде Микулушка хочет к вепсам податься, к Ленинграду. У вепсов шаманы сильные есть, да только не опоздал бы Микулушка. Он ведь во сне все делает. А Али знаешь? Огнедышащего Али не знаешь? На этих людях вся хуйня держится, а ты небось думаешь – Рокоссовский там, Ворошилов и прочие! Али-хан на Кавказе ходит, из аула в аул. В городах мертвых он почитаемый воин, а в городах живых – аферист. Говорит, что тайному делу у Хозяина научился. А Андрюшку Харбинского тоже не знаешь? Ну, ты, наверно, на Хасане не был. Как раз после того Андрейка переехал из Маньчжурии в Уссурийский край. Из кадетов он бывших. В Харбине чуть от опиума не погиб, так, по скуке. А как япошки выступили, он в район боевых действий подался. Ну потом, конечно, он и Сахалин облетел, и Курилы, и Камчатку, у чукчей был, у юкагиров. Да у кого он только не был! Все шаманство сибирское забубнило и затараторило! И за Дальний Восток можно быть спокойным – японцы не сунутся! Вот какие люди, целые сутки толковать про них можно. Открою тебе даже, что есть еще помощнее ребята, еще постраннее. Которые уже никакой силой не пользуются. Сядет себе где-нибудь в глуши, и не сыскать. Но это я уже разболтался, извини старика.
Дунаеву вдруг почудилось, что все происходящее он видит в кино. Сам он был всего лишь одним из персонажей этого кино, поэтому он вдруг неестественно выпрямился и произнес бодрым голосом:
– Ну что ж! Был я ради людей солдатом, потом был рабочим, потом партийцем – побуду теперь ради людей и колдуном.
Но тут его оглушил ответ, раздавшийся сзади и произнесенный глубоким, гулким, как колодец, и в то же время металлическим голосом:
– ЭЙ, НОВЕНЬКИЙ! НИКАКИХ ЛЮДЕЙ НЕТ!
Глава 12
Начало пути
– Война идет великая, – равномерно звучал старческий голос Поручика. – Идет она на земле и на реках, в морских пучинах и на воздухе. А между перечисленными глубинами и поверхностями лежат Промежуточности. В одной древней книге я прочитал, что этот мир бездн и пленок называют «Зонтиком Бога, припасенным для Моросящего Дождя». Я пытался истолковать это изречение одному сибирскому колдуну, но он ответил мне почти так, как ответил бы и ты, коммунист: «Зонтики для господ, а мы на случай Мороси припасаем только Свист да Уключину». Так вот, сынок, в Промежуточностях тоже идет война.
Если ты будешь внимательно слушать меня, я научу тебя перемещаться в Промежуточностях, расскажу тайные тропы, поставлю тебя воином в тайной, невидимой войне.
Промежуточность в большинстве случаев не бесконечна и упирается в Заворот. Перед самым Заворотом имеется тайник, которым немногие умеют пользоваться. Те, кто умеет, хранят там свои так называемые Вещички. За Заворотом имеются три Возврата: один требует изощренного мастерства, другой – забвения всего, а третий ничего не требует. Главное – не попасть в Бесконечный Промежуток, там себе только летишь да за повороты цепляешься, пока не вылезешь в Обратных Местах. А есть и Бесповоротный Бесконечный Промежуток – оттуда нет выходов, и попавший туда – вечный странник. Но пока что не было таких растяп или извращенцев, которые бы попадали туда, хотя многие и знали, где он находится. Говорят, в Карелии был один человек по прозвищу Неисправимый, который постоянно ходил по краю да руками помахивал. И даже прыгал по краю на одной ноге – так удаль в нем бушевала. А другой, по кличке Вредитель, научился в Бесконечный Промежуток грязь и сор всякие кидать, но никому не известно, было ли это вредительство на самом деле вредительством.
Голос Поручика иногда становился совсем тихим, и Дунаеву приходилось убыстрять шаг и наклоняться, чтобы расслышать каждое слово. Они шли по лесу вот уже больше часа.
Встали утром пораньше и, ничего не поев, пошагали в лес. Впереди Поручик, маленький, в нахлобученной шапке, с торбой за спиной и суковатой палкой в руке, за ним Дунаев, с немного растрепанным и отсутствующим видом, но зато неожиданно свежий и как бы даже отдохнувший.
Поручик ничего не объяснял, ни куда они идут, ни зачем, но зато все время говорил, то рассказывая какие-то истории, перемешивая их с не совсем понятными наставлениями, то невнятно шутил, заливаясь звонким, не старческим смехом.
Вдруг старик исчез. Дунаев пристально осмотрелся, но никаких признаков старика вокруг не было.
– Поручик! – позвал парторг, но – тишина. – Эй, Холеный, хватит в прятки играть шутки ради! Ты сначала меня обучи, а потом соревнование устроим – кто лучше спрячется.
Но ему никто не ответил.
Он огляделся. Чаща вокруг стояла густая, мрачная. Сквозь сырость и еловую тьму еле-еле пробивались солнечные лучи. Вдруг где-то наверху раздался то ли смех, то ли птичий крик. На позлащенной солнцем верхушке ели раскачивался крошечный Поручик.
– Эй ты, Дунай! – закричал он сверху. – Давай сюда. Отсюда такое увидишь – уссышься.
Дунаев посмотрел на ствол ели. «Хуйня, заберусь! – подумал он. – Думает, какой-то елкой меня испугаешь!»
И он быстро полез вверх, отталкиваясь ногами от нижних прочных ветвей. Однако чем ближе к вершине, тем труднее становилось Дунаеву. Он резко сел на ветку и перевел сбившееся дыхание. «Совсем чуточку осталось!» – сказал он себе и с новыми силами рванулся к старику.
Наконец он почти добрался до вершины. Старик сверху хохотал и показывал куда-то пальцем.
– Нет, да ты погляди! Ты только взгляни!
Дунаев посмотрел, куда указывал дед, и увидел полянку. На ней стояло несколько палаток, и еще были видны входы в землянки. Ходили бородатые люди с автоматами, у некоторых были перевязаны головы. В общем, это было укрытие партизанского отряда. Дунаев остолбенел. А на поляне, возле костра, появились новые люди. Втроем они несли мешок, сделанный из советского и фашистского флагов, сшитых вместе. Мешок вырывался, дергался, его трудно было удержать. Люди с облегчением перевернули мешок и вытряхнули свинью, видимо только что где-то украденную. Огромная белесая свинья вывалилась и завизжала. Она метнулась от человека, подступившего к ней с длинным штыком. Несколько людей ринулись за ней с матерной бранью, ломая кусты.
Дунаев понял, что спасен. От неожиданного счастья он заплакал. В этот момент старик закричал: «Ну теперь пиздец тебе, батюшка!» – и со страшной силой ударил парторга ногой в затылок. Дунаев сорвался и полетел вниз. Боль в голове вдруг превратилась в резиновый шнур, который выходил из головы и шел в небеса. И чем ниже летел Дунаев, тем сильнее натягивалась эта резина. Как будто он был шариком на резиновой нитке, который толкнули вниз и он должен по закону натяжения подскочить вверх. Так и случилось. Не долетев метров двух до земли, Дунаев стал уноситься наверх, и через секунду он вылетел в небо. Возносясь со страшной скоростью, он нашел в себе силы оглянуться и увидел необозримый край, покрытый лесами. Елка, с которой он стартовал, была не видна среди сплошного ковра лесов.
Полет казался ужасающим, но потом пришло наслаждение, смешанное с головокружением и тошнотой. Постепенно его раскачивание привело к застыванию в какой-то средней точке, высоко над землей, но не так уж далеко от верхушек самых высоких елей.
Теперь он висел в небе, над ковром леса, беспомощно распластав руки. Ему было настолько нечего делать в этом положении, оно было настолько бессмысленным и неприспособленным для него, что он не выдержал и заснул.
Время сна казалось неопределенным будущим, возможно отдаленным от настоящего сотнями лет. Может быть, это время предшествовало концу времен. Ему снился иноземный город, целиком затопленный водой. По всей видимости, это была Венеция. На его глазах вода стала спадать, и обнажились башни и купола храмов, дряхлые дворцы, колоннады и статуи. Все это, долго пробывшее под водой, было почерневшим, гнилым и непрочным. В составе не совсем понятной экспедиции он вступил в безлюдный город. Вокруг с грохотом падали подточенные изваяния, с домов осыпались фронтоны.
Законсервированный толщей вод, город превращался теперь в труху. Это была оглушительная осень, последний листопад в мрачном лесу. Ему запомнилась колоссальная статуя шекспировского Мавра, с остатками золота и красной краски на одеждах, рухнувшая посреди площади и распавшаяся на мелкие куски. В узких улицах стоял запах глубокого погреба. Внезапно они увидели магазин русских икон. В памяти Дунаева почему-то сохранилось отчетливое представление о том, какими эти места были раньше, до потопа, как будто он прожил здесь много лет или был коренным венецианцем. Он узнавал переулки и площади, хотя все опознавательные знаки были стерты водой и временем. Узнал он и этот магазинчик: он «помнил», что раньше здесь продавали русские иконы, в основном безыскусные подделки, сувениры для туристов. Иконы по-прежнему висели в витринах и по стенам магазинчика, однако они стали другими. Поддельный сувенирный слой сошел, и обнаружилась древняя подкладка – иконы казались неизбывно старыми, в тонах запекшейся крови. Из них излучалась таинственная мощь. Эти иконы были тем единственным в разрушающемся городе, что не пострадало от воды и страшной жизни. («Они были подделаны под подделку!» – осенило Дунаева.) В глубине магазинчика Дунаев увидел маленькое стеклянное оконце, выходившее в заднюю комнату, которая раньше всегда была закрыта. Окошко, как «помнил» Дунаев, раньше использовалось как часть оформления магазина: там был установлен небольшой аналой, подсвеченный снизу специальной лампой. Теперь в это закрытое помещение можно было проникнуть, так как двери сгнили. Они вошли туда и внезапно переместились из мира сырости и шелеста в сухой и теплый мирок жилой комнаты. На столе лежало несколько сухих папирос «Беломор», стояла еще теплая чашка с остатками чая. На спинке стула висел потрепанный пиджак. С замиранием сердца, не веря своим глазам, они видели всюду следы присутствия живого человека. Дунаев чувствовал, что этот человек должен быть где-то здесь, рядом. И действительно: на лестнице, уходившей куда-то вниз, показалось некое существо. Это был человек, дико худой и странно извивающийся. Возраст нельзя было определить из-за длинной бороды и волос, которые казались бесцветными, так же как и лицо. Сначала с ним пытались объясняться как с ребенком или дикарем, с помощью жестов и элементарных звукоподражаний. Человек то ли кривлялся, то ли не понимал. Он производил впечатление веселого. Потом он вдруг достал откуда-то военную каску, надел на голову и отдал честь. Затем рассмеялся и заговорил по-русски. Объяснил, что раньше партизанил, а потом город затопили и он скрывался здесь. Стало ясно, что затоплению города предшествовала долгая война (видимо, с немцами), которая до сих пор еще не окончилась.
Сон перенес Дунаева в комнату, представляющую из себя что-то среднее между клубным рестораном и штабом. На столиках между тарелками и бокалами были расстелены военные карты. Разговор шел о человеке, найденном в магазине икон. Все недоумевали. «Он столько лет жил под водой…» Люди пожимали плечами, на которых блестели погоны.
«Я знаю, что это за человек», – раздался интеллигентный голос с легким немецким акцентом. За столик присел пожилой человек в шерстяном джемпере и чистой рубашке. Это был пленный немецкий генерал, который настолько давно уже был в плену, что научился говорить по-русски и стал чем-то вроде консультанта или привычного домашнего животного при штабе. Все относились к нему с уважением.
– Много лет назад мы штурмовали эту линию, – рассказывал он. – Однако прорваться было невозможно. В центре города находилась партизанская точка, постоянно подрывавшая наши планы. Ею командовал русский генерал. Нам пришлось затопить город, но разведчики-аквалангисты сообщили нам невероятное: русский генерал не погиб под водой и скрывается в затопленных зданиях. Изловить его нам не удалось. Группа аквалангистов, посланная на поиски, не вернулась. Их тела были найдены в районе бывшего порта. Вскоре после этого я попал в плен.
Армия уходила из этих мест, и экспедиции в мертвый город были запрещены. Однако появились подонки, почти бесполые существа с длинными волосами, в черных приталенных пальто и с золотыми кольцами на пальцах. Они собирали группу для противозаконного проникновения в закрытую зону с целью грабежа. Это было опасное дело: дерзкие воры часто гибли под обломками разрушающихся зданий. Однако в одну из таких групп были внедрены двое детей, мальчик и девочка. Почему-то именно им поручили найти заброшенный магазин икон, а в нем генерала. К этому моменту Дунаев сам по себе исчез, а точка его наблюдения (то есть он как зритель собственного сна) была размещена в пустом пространстве между мальчиком и девочкой, ровно посередине между ними.
Подонки погрузили детей в фургон и куда-то повезли. Ехали долго. Когда дверцы фургона открыли, они оказались в другом городе. Вокруг ходили люди, некоторые были в черных униформах. Мелькнула табличка на углу дома: Моцартштрассе. Они были на территории врага. Дети побежали. Подонки даже не догоняли их, только смеялись. Они предали детей – те были обречены. Вскоре на задворках каких-то домов, в свете заходящего солнца, дети были окружены людьми с собаками.
– Ну что, надо исчезать? – спросил мальчик.
– Но ты понимаешь, что обратно мы не вернемся? – сказала девочка.
– Понимаю.
– Тогда исчезаем.
Дети собрали все свои силы и исчезли бесповоротно. Дунаев остался один.
Последовало какое-то мутное мельтешение перед пробуждением.
– Эй, теря, все дрыхнешь? – разбудил его голос Поручика. – Ты воевать собираешься или дрыхнуть? А ну полетели посмотрим позиции.
Дунаев открыл глаза. Он по-прежнему висел в небе. Невидимая резиновая нить перестала держать его, и ветер нес его над лесом. Рядом в воздухе весело барахтался Поручик. Его бурые лохмотья развевались, он дрыгал ногами и руками и строил рожи.
В юности Дунаев иногда летал во сне, после чего пробуждался в кровати. Однако ему никогда не приходилось пробуждаться в полете. Он даже рассмеялся.
Невозможно описать разницу между полетом во сне, который испытывал каждый, и полетом наяву, испытанным лишь немногими. Наиболее достоверное описание вполне спонтанных левитаций имеется в книге воспоминаний одного малоизвестного советского художника 30-х годов.
Эта часть его книги называется «Наши с Федей ночные полеты». В детстве, живя в деревне, этот художник летал по ночам вместе со своим приятелем. Эта способность к ночным левитациям передалась им случайно и не имела никакого смысла.
Полеты, с небольшими перерывами, продолжались несколько лет. Половое созревание и первая любовь уничтожили эту возможность. Ночные полеты, наполненные самым беззаконным блаженством, какое только бывает, не оказали никакого влияния ни на последующую жизнь художника, ни на его творчество. Даже вспоминать о них оказалось почти немыслимо. Только в старости память согласилась воспроизвести те события.
Дунаев летел днем, он не был ребенком, он умел беспощадно смотреть в лицо происходящему.
– Не смейся! Ни в коем случае не смейся!!! – доносил ветер крики Поручика. При этом сам Поручик изо всех сил старался рассмешить Дунаева, корча рожи, одна уморительней другой. Он так выкобенивался, что Дунаев стал безудержно хохотать, схватившись за живот. И тут он, еще хохоча, вдруг понял, что воздух больше не держит его. Ветер стих, Поручик трепыхался где-то в вышине, а верхушки елей со страшной скоростью приближались. Это ощущение было, естественно, столь же новым для парторга, как и полет перед этим. Всему телу было щекотно, весь дух захватило, и была смесь дикой древней радости («пропади все пропадом и хуй с ним!») с неимоверным ужасом от того, что нет никакой возможности предотвратить неизбежную смерть. Предощущение смерти мучительно тем, что человек, совершенно живой, успевает испытать смерть множество раз, и столько же раз испытать надежду на спасение и крушение этой надежды (точнее, этих надежд), и столько же раз пережить всю жизнь и даже какие-то другие, чужие жизни. И такие вещи так заходят в душу, что все существо замирает. А они, зайдя, захлопывают за собой дверь и затыкают замочную скважину, чтобы нельзя было подглядывать. И все.
Вот земля придвинулась вплотную, мелькнула земляная поверхность, покрытая хвойным ковром, и тут же Дунаев, не ощутив удара, мягко прошел сквозь эту поверхность и вошел в землю. Вокруг было бесцветно. И было тесно. Дунаев, будто таблетка в пищеводе, стал скользить куда-то. Неожиданно он стукнулся обо что-то темное головой и завертелся. При верчении он снижался и потом глянул наверх: обо что же он ударился? Он увидел вроде бы барометр, обугленный, черный, сжатый землей.
Но тот быстро исчез. Дунаев углублялся в землю. Ноги его ударились о что-то твердое. Он стоял на деревянном ящике.
Голова была скована, рот и глаза забиты землей. Но внутри головы светился прожектор девочки. Этот прожектор был его новым зрением. С его помощью он видел во все стороны на несколько километров вокруг себя. Видел земляные массы, простиравшиеся, как уплотненное беспросветное небо, видел корни сосен и норы животных, где лежали меховые комочки, и путь крота, который казался светящимся. Видел и истлевающего мертвеца в гробу, на котором он стоял, слышал его шепот:
– Что это за братец, ни живой ни мертвый, сюда заявился?
Дунаев ответил: «Не знаю». Его ответ был произнесен беззвучным шевелением губ спящей девочки. При этом над ее бледными губами повисло прозрачное облачко, как бы сотканное из мелких капель.
– Не знаешь? Видно, повезло тебе, – так же беззвучно ответил мертвец.
– Всегда везет, – ответила девочка, и Дунаев понял, что это о нем. Он должен всегда ее везти, быть ее транспортом…
Но не успел он осмыслить диалог мертвеца и Машеньки, как все исчезло и его начало выворачивать, причем выворачивалась наизнанку каждая частица его тела. Он решил, что полностью состоит из бисера. Ему уже неведомо было, кто он такой, и только Машенька в его голове была нерушима и сладко спала.
Вдруг он нашел себя стоящим на рельсах в железнодорожном тупике.
Рядом суетился Поручик, тыча пальцами в бурьян и травы, которыми все заросло так густо, что казалось, будто они внутри какого-то волосатого мешка. Приглядевшись, Дунаев осознал, что все это – совершенно не то. Бурьян был на самом деле зеленым мхом, наподобие крашеного начеса, и издавал запах хозяйственного мыла. Рельсы были брусочками из чего-то прозрачного и покрытого мелкими пупырышками. Дунаев стоял на пленке, и она временами пузырилась, проступая сквозь изумрудную шерсть и спадая обратно. Поручик же был в этот момент странной формы фанерной конструкцией, обтянутой ситцем в мелкий цветочек.
Просто Дунаев попал в Промежуточность, где ничего настоящего не было. Видимо, тут имелось что-то подлинное, но оно скрывалось или же было настолько далеким от человеческого и даже околочеловеческого мира, что Дунаеву пришлось на скорую руку выпестовать внутри себя какие-то ощущения и образы, соткавшиеся в столь нелепую «картинку». Лживость этой «картинки» бросалась в глаза, но иначе Дунаев пока не был в состоянии воспринимать Промежуточность. Он старался понимать нечто как тупик, имеющий вид шпалы, положенной на две другие шпалы (как в игре в городки). Нечто иное он старался считать Поручиком. Далекий, скрипучий голос долетал до него, и парторг думал, что это говорит ему Холеный, указывая на шпалу. На ней в некоторых местах были налеплены куски какой-то глины, имелись также странные насечки.
– Вот, позиции, смотри, – настаивал Холеный. – Глина – немецкие группировки, насечки – советские. Видишь, как много глины вокруг некоторых царапин? Это окружения.
Девочка в мозгу Дунаева вместо ответа сложила следующее стихотворение:
- Если лапки падают в бездну,
- Если гольфики сползают вниз,
- А в зубах паровозик железный
- Крепко держит слепой машинист,
- То тогда леденец на околыш,
- И снежинка, как звезда, на груди!
- Под Москвою проснется звереныш –
- Ты до срока его не буди.
- Он взметнет своим хвостиком слабость
- В беспощадных, но бренных врагах.
- И гирлянды игрушечных танков,
- Как яблочки, будут торчать на ежах.
- Но смолянка теряет невинность,
- Проливая смолу на постель,
- Тулью шляпы пробили ребята,
- На Курок накидали костей.
- Подожди, еще будут игрушки
- Паучков изумрудных топтать,
- И поселятся в детской подружки,
- Будут шапки стальные вязать.
– Эк тебя пронесло! – заорал Поручик оглушительным голосом и стал, кривляясь, отбивать земные поклоны перед Дунаевым. – Все объяснил, как по полкам разложил, пузырь ты наш ненаглядный! Проняла тебя Снегурка!
Дунаевым как будто выстрелили. Он вылетел из земли и, как пуля, понесся в небеса. За ним несся Поручик с сачком для насекомых в руках. Они поднялись так высоко, что дух захватило от холода. Там Поручик наконец нагнал Дунаева и, сложно извернувшись в воздухе, с размаху накрыл его голову сачком. Мелкая белесая сетка прилипла к лицу, и стремительный подъем в небеса прекратился. Они медленно полетели в синем холодном небе. Земля была теперь так далеко, что виден был не только темный ковер леса, но и другие места: линии железных дорог, черные столбы дыма, взорванные мосты. Под ними была война. Они увидели бой и крошечные танки, похожие на спичечные коробки, которые перемещались по полю. Они увидели полуразрушенный город.
Дунаева охватила скорбь, смешанная с гневом.
Слева он услышал голос Поручика:
– Ты, Дунай, прорицать стал, и теперь много ясно. Видишь город? Ты же сказал:
- Но смолянка теряет невинность,
- Проливая смолу на постель…
Это значит, Смоленск скоро будет занят немцами. Ты еще говорил:
- Тулью шляпы пробили ребята,
- На Курок накидали костей.
То есть и Тула, и Курск – все отдано врагу будет. Но ты не отчаивайся, парторг. Ведь ты сказал:
- То тогда леденец на околыш,
- И снежинка, как звезда, на груди…
Видать, надо ждать зимы, чтобы наша взяла и отступление прекратилось.
- Под Москвою проснется звереныш…
Туго, дескать, немцам под Москвой-то будет, и Москвы им не видать. Откатятся они назад, их танки будут на ежах торчать.
– А что значит «паучков топтать» и «шапки стальные вязать»?
– Эх ты, теря! Все-то тебе, как младенцу, надо объяснять – даже твои собственные слова. «Паучков топтать» – это значит, «потопчет русский сапог фашистскую свастику», а «шапки стальные вязать» значит: «скоро сказка сказывается, да не скоро дело вяжется: победа будет трудная, но она будет за нами, а Сталин станет всему голова, и где имя Сталина городу дано, там будут немцы железными делами околпачены». Эх, работенка тебе предстоит, парторг! Пока разгадывать предсказания не научишься, Никем не станешь.
– А что это за должность – Никто? – Парторг смутно вспомнил слова: «Смеялся, как Никакой…»
Вверху плыли белые, четкие облака, на их фоне шли облака из серой ваты, ниже струились розоватые, перистые. Сбоку надвигалась фиолетовая туча. Только сейчас Дунаев понял, что они снизились над густым лесом. Туча заслонила солнце, потемнело, и по краю тучи пробежал отблеск далекого зарева. Оно полыхало где-то за горизонтом, бросая красный отсвет на тучу.
– Чуяло мое сердце, в Брест надо лететь! – закричал Поручик и остановился, дернув сачок. Дунаев тоже повис в воздухе, растопырив руки, похожий на самолет.
– А что случилось?
– Да Брестскую крепость, видать, немцы взяли. Плохо это. Ох как плохо. Надо сейчас же туда лететь. А ты еще не готов туда лететь. Думал – научу тебя как следует, а там и Брест возьмут. И полетим туда уже как мастера, чтоб рука руку мыла.
– А чем же я не готов? – поинтересовался Дунаев.
– Да ничем не готов, – засмеялся Холеный. – Ты, к примеру, без бинокля обойтись можешь? В глазах Приближение и Увеличение есть? Нет. Но это не главное. Главное – ты Невидимкой не можешь стать, Никем то есть. А туда только будучи невидимым попасть можно.
– Ну тогда оставь меня в избушке, а сам лети, – сказал Дунаев.
– Нет. По-другому сделаем, – ответил Поручик. – Здесь, где-то под нами, живет Мушка, она, если попросить, может и Невидимкой обернуть, и Приближение дать, и Гармошку. Только бы не оплошать!
– Это ты к ведьме меня хочешь завести? – спросил Дунаев.
– Да ты что? Увидишь – все сразу сам поймешь, – радостно уверил Поручик. – Айда к Мухе-Цокотухе!
Глава 13
Муха-Цокотуха
Они снизились над дубовой рощей. На земле было безлюдно, но заметно было по всему, что и здесь прошло лихо. Даже птицы не летали здесь. В центре рощи возвышался колоссальный могучий дуб, древний, покрытый сухими пергаментными листьями, которые уже много лет не опадали.
– Комара убили. Бесславно погиб он, своей и немецкой кровью обливаясь, – пояснил Поручик. – А Муха-то осталась! Прикидывается бабкой, и в занятых деревнях немцев встречает. Изба изрядна, стол полон яств – и поросеночек, и водочка, и грибочки, разумеется, – Холеный подмигнул Дунаеву.
Тут они приземлились на огромную кряжистую ветку старого дуба. Холеный снял сачок с головы парторга, уселся поудобнее и достал самокрутку.
– И что же? – спросил Дунаев.
– А то, что никто из немцев живой из-за стола не вставал, – зловеще прошептал Поручик. – Мертвые – пожалуйста! Мертвым одна дорога – назад. Нах Фатерлянд. В тыл запускаются и там куролесят. А Мушка вслед за немцами идет и, скажу тебе секрет, в разных уже местах немцев встречает с пирогами.
– Это как? – поразился Дунаев.
– Она может несколькими бабками стать, – спокойно ответил Поручик и бросил окурок.
– Смотри, вон под веткой дупло! Видишь? – И он показал Дунаеву отверстие в дереве, аккуратное и незаметное снизу. Поручик нырнул в дупло. Дунаев полез за ним, на прощание глянув вниз. Он явственно увидел человека, стоящего под деревом и смотрящего Дунаеву прямо в глаза. «У него Приближение», – почему-то подумал Дунаев. А может, то подумала Машенька. Он не мог узнать этого человека, поскольку никогда его не видел. Но почему-то он, вопреки рассудку и памяти, знал этого человека. А может, его знала Маша, спящая в голове Дунаева?
Не оглядываясь больше, Дунаев нырнул в дупло. Протискиваться пришлось мучительно: он весь покраснел, исцарапался. На потное лицо сыпалась древесная труха. Наконец, он вывалился в нижнюю, полую часть дерева, где таилась уютная комнатка, похожая на изображения внутреннего пространства норок на детских иллюстрациях: овальный стол с плотной скатертью, кресло, диван, оранжевый абажур. Встретила их раcкоряченная маленькая старуха с большим животом. Одета она была в золотой передник, а посмотрев в ее лицо, Дунаев почувствовал себя глупым. Не потому, что он увидел нечто мудрое, а потому, что все, существующее в мире, показалось ему мелким, копошащимся, испещренным, ненужным – таким, каким было лицо у старухи. Такое уж это было лицо.
– Я уже десять дней вдова, – сказала Цокотуха. – А до сих пор не встретила мужа во сне. Не значит ли это, что он стал «заикой»?
– «Заиками» у нас называют мертвых, которые после своей гибели все повторяют снова и снова обстоятельства своей смерти, притворяясь, что умирают каждый день, и этот день смерти для них всегда одинаковый, – пояснил Поручик Дунаеву.
Цокотуха поставила на стол самовар, расставила чашки, разложила варенье по блюдечкам, вздыхая: «Ох, война, война! Как бы не она, угостила бы вас как подобает. А то что это? Худые, как черви, оба трясутся, а в глазах муть, оттого что небесного воздуха наглотались. Вам бы щас, родимые, кровушки немецкой дать испить – враз повеселели бы. Да уж уважу вас, поднесу по стопочке».
Старуха достала из буфета три серебряные стопки и большую бутыль с темной жидкостью. Разлила по стопкам. Дунаев почувствовал запах крови, а когда он поднес стопку к губам, его замутило от этого запаха.
– Не могу… – прошептал он, отводя лицо.
– Да что ты, милок, стращаешься? – воскликнула Цокотуха. – Пей залпом, и вся наука. Заморщит, поведет – так я тебе травинку поднесу. Зато силен будешь.
– Да, сила нам с тобой понадобится, – вздохнул Поручик. – Ну, давайте, за Победу!
Все, стоя, не чокаясь, выпили.
Кровь оказалась тяжелого, неприятного вкуса, но этот вкус был странно знакомый, как будто Дунаев когда-то давно уже пил кровь, но забыл об этом. Его слегка затошнило, но от рвоты он удержался, занюхав выпитое каким-то сухим, терпким пучком трав, который ему поднесла старуха.
– Надо нам, Мушка, в Брест заглянуть. Слышно, крепости конец настал. А там ведь сама знаешь что… Ребят жалко, – сказал Поручик.
– Может, они еще держатся? – прохрипела Цокотуха.
– Может, и держатся, – пожал плечами Холеный. – Только недолго им держаться. Плохи дела-то.
– А что ж такое? – скривилась Цокотуха. – Неужто и ОНИ уже здесь?
– Да, – мрачно кивнул Поручик. – Я сегодня вдали Синюю видел. Она над самым Брестом висела, только разглядеть не сумел – приближения не хватило. Но это она – точно. Узнал. В пальтишке своем с пуговками, чистенькая – ну прямо первоклассница малая, ебанный в рот! В руках держит своего Паразита и им вниз толчет, как орехи в ступе. Видать, крепость кончает.
Лицо Цокотухи перекосилось от ненависти.
– Это она… она, паскуда этакая, моего-то шлепнула. Заикой сделала на веки вечные. Она его еще в прошлый раз приглядела. Улыбнулась и на ноги себе показывает: мол, смотрите, у меня коньки стальные, лед режут – не стесняются, а вы все на деревяшках елозите, кровосос. Мой весь затрясся. Видать, она ему еще гимназисточкой приглянулась, когда бросила свой «снежок» и он рассыпался по воротнику его шинели.
– Я-то знаю, как Синюю брать, – усмехнулся Поручик. – Научен. Только рано еще. Ее зимой брать надо: она от морозов ликует, а ее берут в ликовании. А пока чего – нужно ее, как говорят, «по ранцу хлопнуть».
Цокотуха отвратительно засмеялась и пошутила:
– Да уж, посыпем мы ей соль на ранец.
С этими словами она схватила со стола солонку и взвилась вверх, одним прыжком выскочив из дупла.