Черный тюльпан. Учитель фехтования (сборник) Дюма Александр
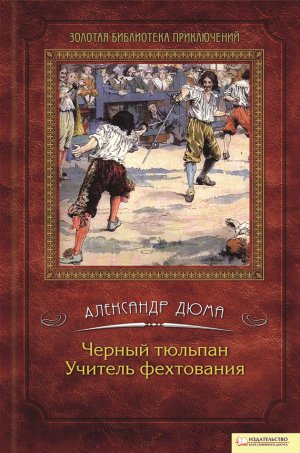
— Третья, где она?
— Третья у меня, — взволнованно сказал Бокстель.
— У вас? А где? В Левештейне или в Дордрехте?
— В Дордрехте, — сказал Бокстель.
— Вы лжете! — закричала Роза. — Монсеньер, — добавила она, обратившись к принцу, — я вам расскажу истинную историю этих трех луковичек. Первая была раздавлена моим отцом в камере заключенного, и этот человек прекрасно это знает, так как он надеялся завладеть ею, а когда узнал, что эта надежда утрачена, то чуть не поссорился с моим отцом, уничтожившим ее. Вторая с моей помощью выросла в черный тюльпан, а третья, последняя (девушка вынула ее из-за корсажа), третья — вот она, в той самой бумаге, в которой мне ее дал Корнелиус вместе с другими двумя луковичками, перед тем как идти на эшафот. Вот она, монсеньер, вот она!
И Роза, вынув из бумаги луковичку, протянула ее принцу; он взял ее в руки и стал рассматривать.
— Но, монсеньер, разве эта девушка не могла ее украсть так же, как и тюльпан? — бормотал Бокстель, испуганный тем вниманием, с каким принц рассматривал луковичку; а особенно его испугала та сосредоточенность, с которой Роза читала несколько строк, написанных на бумаге, что она держала в руках.
Неожиданно глаза молодой девушки загорелись, она, задыхаясь, прочла эту таинственную бумагу и, протягивая ее принцу, воскликнула:
— О, прочитайте это, монсеньер, ради Бога, умоляю вас, прочитайте!
Вильгельм передал третью луковичку председателю, взял бумажку и стал читать.
Едва Вильгельм окинул взглядом листок, как он пошатнулся, рука его задрожала и казалось, что он сейчас выронит бумажку; в глазах его появилось выражение жестокого страдания и жалости.
Листок бумаги, что ему передала Роза, и был той страницей Библии, которую Корнелий де Витт послал в Дордрехт с Краке, слугой своего брата Яна де Витта, и которая содержала просьбу к Корнелиусу сжечь переписку великого пенсионария с Лувуа.
Эта просьба, как мы помним, была составлена в следующих выражениях:
"Дорогой крестник!
Сожги пакет, который я тебе вручил, сожги его, не рассматривая, не открывая, чтобы содержание его осталось тебе неизвестным. Тайны такого рода, какие заключены в нем, убивают его хранителей. Сожги его, и ты спасешь Яна и Корнелия.
Прощай и люби меня.
Корнелий де Витт.
20 августа 1672 года".
Этот листок был одновременно доказательством невиновности ван Барде и того, что он является владельцем луковичек тюльпана.
Роза и штатгальтер обменялись только одним взглядом.
Взгляд Розы как бы говорил: "Вот видите".
Взгляд штатгальтера говорил: "Молчи и жди".
Принц вытер каплю холодного пота, скатившуюся с его лба на щеку. Он медленно сложил бумагу. А мысль его унеслась в бездонную пропасть, именуемую раскаянием и стыдом за прошлое.
Потом он с усилием поднял голову и сказал:
— Прощайте, господин Бокстель. Все будет решено по справедливости, я вам обещаю.
Затем, обратившись к председателю, он добавил:
— А вы, дорогой ван Систенс, оставьте у себя эту девушку и тюльпан. Прощайте.
Все склонились, и принц вышел, сгорбившись, словно его подавляли шумные приветствия толпы.
Бокстель вернулся в "Белый лебедь" очень взволнованным. Бумага, которую Вильгельм, взяв из рук Розы, прочитал, тщательно сложил и спрятал в карман, встревожила его.
Роза подошла к тюльпану, благоговейно поцеловала листок его и шепотом обратилась к Богу:
— Господь! Знал ли ты сам, зачем мой добрый Корнелиус научил меня читать?
Да, Господь знал это, потому что именно он наказывает и вознаграждает людей по их заслугам.
XXVIII
ПЕСНЯ ЦВЕТОВ
В то время как происходили описанные нами события, несчастный ван Барле, забытый в своей камере в крепости Левештейн, страдал от Грифуса, доставлявшего ему все мучения, какие только может причинить тюремщик, решивший во что бы то ни стало стать палачом.
Грифус, не получая никаких известий от Розы и от Якоба, убедил себя в том, что случившееся с ним — проделка дьявола и что доктор Корнелиус ван Барле и был посланником этого дьявола на земле.
Вследствие этого в одно прекрасное утро, на третий день после исчезновения Розы и Якоба, Грифус поднялся в камеру Корнелиуса еще в большей ярости, чем обычно.
Корнелиус, опершись локтями на окно, опустив голову на руки, устремив взгляд в туманный горизонт, разрезанный крыльями дордрехтских мельниц, вдыхал свежий воздух, чтобы отогнать душившие его слезы и сохранить философски спокойное настроение.
Голуби оставались еще там, но надежды уже не было, но будущее отсутствовало.
Увы, Роза под надзором и не будет больше приходить к нему. Сможет ли она хотя бы писать? И если сможет, то удастся ли ей передавать свои письма?
Нет. Вчера и третьего дня он видел в глазах старого Грифуса слишком много бешенства и злобы. Его бдительность никогда не ослабнет, так что Роза, помимо заключения, помимо разлуки, может быть, переживает еще большие страдания. Не станет ли этот зверь, негодяй, пьяница мстить ей, подобно отцам из греческого театра? И, когда можжевеловая настойка ударит ему в голову, не пустит ли он в ход свою руку, которую слишком хорошо выправил Корнелиус, придав ей силу двух рук, вооруженных палкой?
Мысль о том, что с Розой, быть может, жестоко обращаются, приводила Корнелиуса в отчаяние.
Он болезненно ощущал свое бессилие, свою бесполезность, свою ничтожность. И он задавал себе вопрос, прав ли Бог, посылающий столько несчастий двум невинным существам. И в такие минуты он терял веру, ибо несчастье не придает веры.
Ван Барле принял твердое решение послать Розе письмо. Но где она?
Возникла мысль написать в Гаагу, чтобы заранее рассеять тучи, вновь сгустившиеся над его головой вследствие не вызывающего сомнений доноса Грифуса.
Но чем написать? Грифус отнял у него и карандаш и бумагу. К тому же, если бы у него было и то и другое — то не Грифус же взялся бы переслать письмо.
Корнелиус сотни раз перебирал в памяти все те хитрости, к которым прибегают заключенные.
Он думал также и о побеге, хотя эта мысль никогда не приходила ему в голову, пока он имел возможность ежедневно видеться с Розой. Но, чем больше он об этом размышлял, тем несбыточнее казался ему побег. Он принадлежал к числу тех избранных натур, что питают отвращение ко всему обычному и часто упускают в жизни удачные мгновения только потому, что они не пошли бы по торному пути, по широкой дороге заурядных людей, приводящей их к цели.
"Как смогу я бежать из Левештейна, — рассуждал Корнелиус, — после того как отсюда некогда бежал господин Гроций? Не приняты ли все меры предосторожности после этого бегства? Разве не оберегаются окна? Разве не сделаны двойные и тройные двери? Не удесятерили ли свою бдительность часовые?
Затем, помимо оберегаемых окон, двойных дверей, как никогда бдительных часовых, разве у меня нет неутомимого аргуса? И этот аргус, Грифус, тем более опасен, что он смотрит глазами ненависти.
Наконец, разве нет еще одного обстоятельства, парализующего меня? Отсутствие Розы. Допустим, я потрачу десять лет своей жизни, чтобы изготовить пилу, которой я мог бы перепилить решетку на окне, чтобы сплести веревку, по которой я спустился бы из окна, или приклеить к плечам крылья, на которых я улетел бы, как Дедал… Но я попал в полосу неудач. Пила иступится, веревка оборвется, мои крылья растают на солнце. Я расшибусь. Меня подберут хромым, одноруким, калекой. Меня поместят в гаагском музее между окровавленным камзолом Вильгельма Молчаливого и морской сиреной, подобранной в Ставесене, и конечным результатом моего предприятия окажется только то, что я буду иметь честь находиться в музее среди диковинок Голландии.
Впрочем, нет, может быть и лучший выход. В один прекрасный день Грифус сделает мне какую-нибудь очередную мерзость. Я теряю терпение с того времени, когда меня лишили радости свидания с Розой, и особенно с тех пор как я лишился своих тюльпанов. Нет никакого сомнения, что рано или поздно Грифус нанесет оскорбление моему самолюбию, моей любви или будет угрожать моей личной безопасности. Со времени заключения я чувствую в себе бешеную, неудержимую, буйную мощь. Во мне сильны зуд борьбы, жажда схватки, непонятное желание драться. Я наброшусь на старого мерзавца и задушу его!"
Тут Корнелиус на мгновение остановился, рот его кривила гримаса, взгляд был неподвижен.
Ему явно пришла в голову какая-то обрадовавшая его мысль.
"Да, раз Грифус будет мертв, почему бы и не взять у него тогда ключи? Почему бы тогда не спуститься с лестницы, словно я совершил самый добродетельный поступок?
Почему тогда не пойти к Розе в комнату, рассказать о случившемся и не броситься вместе с ней через окно в Ваал?
Я прекрасно плаваю за двоих.
Роза? Но, Боже мой, ведь Грифус ее отец! Как бы она ни любила' меня, она никогда не простит мне убийства отца, хотя он груб и жесток. Придется уговаривать ее, а в это время появится кто-нибудь из помощников Грифуса и, найдя того умирающим или уже задушенным, схватит меня. И я вновь увижу площадь Бейтенгофа и блеск того жуткого меча; на этот раз он уже не задержится, а упадет на мою шею. Нет, Корнелиус, нет, мой друг, этого делать не надо, это плохой способ обрести свободу!
Но что же тогда предпринять? Как разыскать Розу?"
Таковы были размышления Корнелиуса в то время, когда через три дня после злосчастной сцены расставания Розы с ее отцом он стоял, как мы сообщили читателю, прислонившись к окну.
И именно тогда к нему вошел Грифус.
Он держал в руке огромную палку, его глаза блестели зловещим огоньком, злая улыбка искажала его губы, он угрожающе покачивался, и все его существо дышало дурными намерениями.
Корнелиус, подавленный, как мы видели, необходимостью все терпеть, необходимостью, которую рассудок делал убеждением, слышал, как кто-то вошел, понял, кто это, но даже не обернулся.
Он знал, что на этот раз позади Грифуса не будет Розы.
Нет ничего более неприятного для разгневанного человека, когда тот, против кого направлен его гнев, отвечает полным равнодушием.
Настроив себя надлежащим образом, он не хочет, чтобы его чувства пропали даром, он разгорячился, в нем бушует кровь, и ему необходимо вызвать в другом хоть небольшую вспышку.
Всякий порядочный негодяй, который распалил в себе злобу, хочет, по крайней мере, больно уязвить кого-нибудь.
Когда Грифус увидел, что Корнелиус не трогается с места, он начал громко покашливать:
— Гм-гм!
Корнелиус стал напевать сквозь зубы песню цветов, грустную, но очаровательную песенку:
- Чьи дети мы? Что нас на свет явило?
- Огонь земли, бушующий всегда,
- Заря, роса, и воздух, и вода, —
- Но только в небе наша сила!
Эта песня, ее грустный и спокойный мотив усиливал невозмутимую меланхолию Корнелиуса, что вывело Грифуса из терпения.
— Эй, господин певец, — закричал он, стуча палкой по плитам пола, — вы не слышите, что я вошел?
Корнелиус обернулся.
— Здравствуйте, — сказал он.
И снова стал напевать:
- Любовь людей — для нас и смерть и муки.
- С землею связь — лишь тоненькая нить:
- То корень, позволяющий нам жить;
- А мы всё к небу тянем руки.
— Ах, проклятый колдун, я вижу, ты смеешься надо мной! — закричал Грифус.
Корнелиус продолжал:
- Там отчий дом, там наше упованье:
- На небе нам душа была дана,
- Туда и возвращается она,
- Душа цветов — благоуханье![10]
Грифус подошел к заключенному:
— Но ты, значит, не видишь, что я захватил с собой хорошее средство, чтобы укротить тебя и заставить сознаться в своих преступлениях?
— Вы что, с ума сошли, дорогой господин Грифус? — спросил, обернувшись, Корнелиус.
Но произнеся это, он увидел искаженное лицо старого тюремщика, его сверкающие глаза, брызжущий пеной рот и добавил:
— Черт побери, да мы как будто больше чем с ума сошли — мы просто взбесились!
Грифус замахнулся палкой.
Но ван Барле оставался невозмутимым.
— Ах, вот как, метр Грифус, — сказал он, скрестив на груди руки, — вы, кажется, мне угрожаете?
— Да, я угрожаю тебе! — кричал тюремщик.
— А чем?
— Ты посмотри раньше, что у меня в руках.
— Мне кажется, — сказал спокойно Корнелиус, — что это у вас палка, и даже большая палка. Но я не думаю, чтобы вы мне стали этим угрожать.
— Ах, ты этого не думаешь! А почему?
— Потому что всякий тюремщик, позволивший себе ударить заключенного, подлежит двум наказаниям. Первое установлено девятым параграфом правил Левештейна: "Всякий тюремщик, надзиратель или помощник тюремщика, кто подымет руку на государственного заключенного, подлежит увольнению".
— Руку, — заметил вне себя от злости Грифус, — но не палку, палку!.. Устав об этом не говорит.
— Второе наказание, — продолжал Корнелиус, — которое не значится в уставе, но которое предусмотрено в Евангелии, вот оно: "Взявшие меч, мечом погибнут", следовательно, и взявшийся за палку будет ею побит!..
Грифус, все более и более раздраженный спокойствием и торжественным тоном Корнелиуса, замахнулся дубинкой, но в то мгновение, когда он ее поднял, Корнелиус бросился к нему, выхватил ее из его руки и взял себе под мышку.
Грифус зарычал от злости.
— Так-так, милейший, — сказал Корнелиус, — не рискуйте своим местом.
— А, колдун, — угрожал Грифус, — ну, подожди, я тебя доконаю иначе!
— В добрый час!
— Ты видишь, что в моей руке ничего нет?
— Да, я это вижу, и даже с удовлетворением.
— Но ты знаешь, что обычно она не бывает пуста, когда я по утрам поднимаюсь по лестнице.
— Да, обычно вы мне приносите самую скверную похлебку или самый жалкий обед, какой только можно себе представить. Но для меня это совсем не пытка: я питаюсь только хлебом, а чем хуже хлеб на твой вкус, Грифус, тем вкуснее он для меня.
— Тем он вкуснее для тебя?
— Да.
— Почему?
— О, это очень просто.
— Тогда скажи: почему?
— Охотно; я знаю, что, давая мне скверный хлеб, ты этим хочешь доставить мне страдания.
— Да, действительно, я даю его не для того, чтобы доставить тебе удовольствие, негодяй!
— Ну что же, как тебе известно, я колдун и потому превращаю твой скверный хлеб в самый лучший, который доставляет мне удовольствие больше всякого пряника. Таким образом я ощущаю двойную радость: во-первых, оттого, что ем хлеб по своему вкусу, во-вторых, оттого, что постоянно привожу тебя в ярость.
Грифус проревел в бешенстве:
— Ах, так, значит, сознаешься, что ты колдун?
— Черт побери, конечно, я колдун! Я об этом только не говорю при людях, потому что это может привести меня на костер, как Гофреди или Юрбена Грандье, но, когда мы только вдвоем, почему бы мне не признаться тебе в этом?
— Хорошо, хорошо, — произнес Грифус, — но если колдун превращает черный хлеб в белый, то не умирает ли этот колдун с голоду, когда у него совсем нет хлеба?
— Что, что? — спросил Корнелиус.
— А то, что я тебе совсем не буду приносить хлеба, и посмотрим, что будет через неделю.
Корнелиус побледнел.
— И мы начнем это, — продолжал Грифус, — с сегодняшнего же дня. Раз ты такой хороший колдун, то превращай в хлеб обстановку своей камеры; что касается меня, то я буду ежедневно экономить те восемнадцать су, которые отпускают на твое содержание.
— Но ведь это же убийство! — закричал Корнелиус, вспылив при первом приступе вполне понятного ужаса, охватившего его, когда он подумал о столь страшной смерти.
— Ничего, — продолжал Грифус, поддразнивая его, — ничего, раз ты колдун, то, несмотря ни на что, останешься — в живых.
Корнелиус опять перешел на свой насмешливый тон и, пожимая плечами, сказал:
— Разве ты не видел, как я заставил дордрехтских голубей прилетать сюда?
— Ну так что же? — сказал Грифус.
— А то, что голуби — прекрасное блюдо. Человек, который будет съедать ежедневно по голубю, не умрет с голоду, как мне кажется.
— А огонь? — спросил Грифус.
— Огонь? Но ведь ты же знаешь, что я вошел в сделку с дьяволом. Неужели ты думаешь, что он оставит меня без огня, ведь огонь — его стихия?
— Каким бы крепким человек ни был, он все же не сможет питаться одними голубями. Бывали и такие пари, но их всегда проигрывали.
— Что же, отлично! — сказал Корнелиус, — когда мне надоедят голуби, я стану питаться рыбой из Ваала и Мааса.
Грифус широко раскрыл испуганные глаза.
— Я очень люблю рыбу, — продолжал Корнелиус, — а ты мне ее никогда не подаешь. Вот я и воспользуюсь тем, что ты хочешь уморить меня голодом, и полакомлюсь рыбой.
Грифус чуть было не упал в обморок от злости и страха.
Но он сдержал себя, сунул руку в карман и сказал:
— Раз ты меня вынуждаешь, так смотри же!
И он вынул из кармана нож и открыл его.
— А, нож, — сказал Корнелиус, становясь с палкой в руках в оборонительную позу.
XXIX
ГЛАВА, В КОТОРОЙ ВАН БАРЛЕ,
РАНЬШЕ ЧЕМ ПОКИНУТЬ ЛЕВЕШТЕЙН, СВОДИТ СЧЕТЫ С ГРИФУСОМ
Мгновение они стояли неподвижно: Грифус готов был нападать, ван Барле — обороняться.
Но это положение могло продолжаться бесконечно долго, и Корнелиус решил выпытать у своего противника причину его бешенства.
— Итак, чего же вы еще хотите? — спросил он.
— Я тебе скажу, чего я еще хочу, — ответил Грифус, — я хочу, чтобы ты мне вернул мою дочь Розу.
— Вашу дочь? — воскликнул Корнелиус.
— Да, Розу, ты ведь похитил ее у меня своими дьявольскими уловками. Послушай, скажи, где она?
И Грифус принимал все более и более угрожающую позу.
— Розы нет в Левештейне? — воскликнул Корнелиус.
— Ты это прекрасно знаешь. Я тебя еще раз спрашиваю: вернешь ты мне дочь?
— Понятно, — ответил Корнелиус, — ты расставляешь мне западню.
— В последний раз спрашиваю: ты скажешь мне, где моя дочь?
— Угадай сам, мерзавец, если ты этого не знаешь.
— Подожди, подожди! — вышел из себя Грифус, бледный, с перекошенным от ярости ртом. — А, ты ничего не хочешь сказать? Тогда я заставлю тебя говорить.
Он сделал шаг к Корнелиусу, показав сверкавшее в его руках оружие.
— Ты видишь этот нож; я зарезал им более пятидесяти черных петухов и, так же как зарезал их, зарежу их хозяина-дьявола; подожди, подожди!
— Ах ты подлец, — воскликнул Корнелиус, — ты действительно хочешь меня зарезать?
— Я хочу вскрыть твое сердце, чтобы увидеть, куда ты прячешь мою дочь.
И, произнося эти слова, Грифус, охваченный безумием, бросился на Корнелиуса, и тот еле успел спрятаться за столом, чтобы избегнуть первого удара.
Грифус размахивал своим большим ножом, изрыгая угрозы.
Корнелиус сообразил, что если Грифусу до него нельзя дотянуться рукой, то достать оружием вполне можно. Пущенный в него нож мог свободно пролететь разделявшее их расстояние и пронзить ему грудь, и он, не теряя времени, со всего размаха ударил палкой (по счастью, он все еще ее держал) по руке Грифуса, в которой зажат был нож.
Нож упал на пол, и Корнелиус наступил на него ногой.
Затем, так как Грифус, возбужденный и болью от удара палкой, и стыдом, потому что его дважды обезоружили, отважился, казалось, на беспощадную борьбу, Корнелиус решился на крайние меры.
Он с удивительным хладнокровием стал осыпать ударами своего тюремщика, выбирая каждый раз место, куда стоило опустить дубину.
Грифус вскоре запросил пощады.
Но до этого он кричал, притом очень громко. Его крики были услышаны и подняли на ноги всех служащих тюрьмы. Два тюремщика, один надзиратель и трое или четверо стражников внезапно появились и застали Корнелиуса на месте преступления — с палкой в руках и ножом под ногой.
При виде свидетелей его преступных действий — смягчающие обстоятельства, как сейчас говорят, им не были известны — Корнелиус почувствовал себя окончательно погибшим.
Действительно, все говорило против него.
Корнелиус в один миг был обезоружен, а Грифуса заботливо подняли с пола и поддержали, так что он, полный злобы, мог подсчитать ушибы, вздувавшиеся буграми на его плечах и шее.
Тут же на месте был составлен протокол о нанесении ударов тюремщику заключенным. Содержание его, подсказанное Грифусом, трудно было бы упрекнуть в мягкости. Речь шла не больше не меньше как о покушении на убийство с заранее обдуманным намерением и об открытом мятеже.
В то время как составляли акт против Корнелиуса, два привратника унесли избитого и стонущего Грифуса в его помещение (после того как он дал показания, присутствие тюремщика было уже излишне).
Стражники, схватившие Корнелиуса, посвятили его в правила и обычаи Левештейна, впрочем, он и сам знал их: когда он прибыл в тюрьму, его познакомили с ними, и некоторые параграфы сильно врезались ему в память.
Стражники, между прочим, рассказали ему, как эти правила в 1668 году, то есть пять лет тому назад, были применены к одному заключенному по имени Матиас, совершившему преступление менее тяжкое, чем Корнелиус.
Матиас нашел, что его похлебка слишком горяча, и вылил ее на голову начальнику стражи, и тот, после такого омовения, имел несчастье вытирая лицо, снять с него и часть кожи.
Спустя двенадцать часов Матиаса вывели из его камеры.
Затем его провели в тюремную контору, где сделали запись, что он выбыл из Левештейна.
Затем его провели на площадь перед крепостью, откуда открывается чудесный вид на расстояние в одиннадцать льё.
Здесь ему скрутили руки, затем завязали глаза, велели прочитать три молитвы, предложили стать на колени, и двенадцать левештейнских стражников по знаку сержанта ловко всадили в его тело по пуле из своих мушкетов, так что Матиас тотчас же пал мертвым.
Корнелиус слушал эту историю с большим вниманием.
— А, вы говорите, — сказал он, выслушав ее, — спустя двенадцать часов?
— Да, мне кажется даже, что полных двенадцати часов и не прошло, — ответил ему стражник.
— Спасибо, — сказал Корнелиус.
Еще не успела сойти с лица стражника сопровождающая его рассказ любезная улыбка, как на лестнице раздались громкие шаги.
Шпоры звонко ударяли о стертые края ступеней.
Стража посторонилась, чтобы дать проход офицеру.
Когда офицер вошел в камеру Корнелиуса, писец Левештейна продолжал еще составлять протокол.
— Это здесь номер одиннадцатый? — спросил офицер.
— Да, полковник, — ответил унтер-офицер.
— Значит, здесь камера заключенного Корнелиуса ван Барле?
— Точно так, полковник.
— Где заключенный?
— Я здесь, сударь, — ответил Корнелиус, чуть побледнев, несмотря на свое мужество.
— Вы Корнелиус ван Барле? — спросил полковник, обратившись на этот раз непосредственно к заключенному.
— Да, сударь.
— В таком случае следуйте за мной.
"О, — прошептал Корнелиус, у которого сердце защемило предсмертной тоской. — Как быстро делаются дела в Левештейне, а этот чудак говорил мне о двенадцати часах".
— Ну, вот видите, что я вам говорил, — прошептал на ухо осужденному стражник, столь сведущий в истории Левештейна.
— Вы солгали.
— Как так?
— Вы обещали мне двенадцать часов.
— Ах, да, но к вам прислали адъютанта его высочества, притом одного из самых приближенных, господина ван Декена. Такой чести, черт побери, не оказали бедному Матиасу.
— Что ж, — заметил Корнелиус, стараясь поглубже вздохнуть, — покажем этим людям, что простой горожанин, крестник Корнелия де Витта, может, не поморщившись, принять столько же пуль из мушкета, сколько их получил несчастный Матиас.
И он гордо пошел перед писцом, который решился сказать офицеру, оторвавшись от своей работы:






