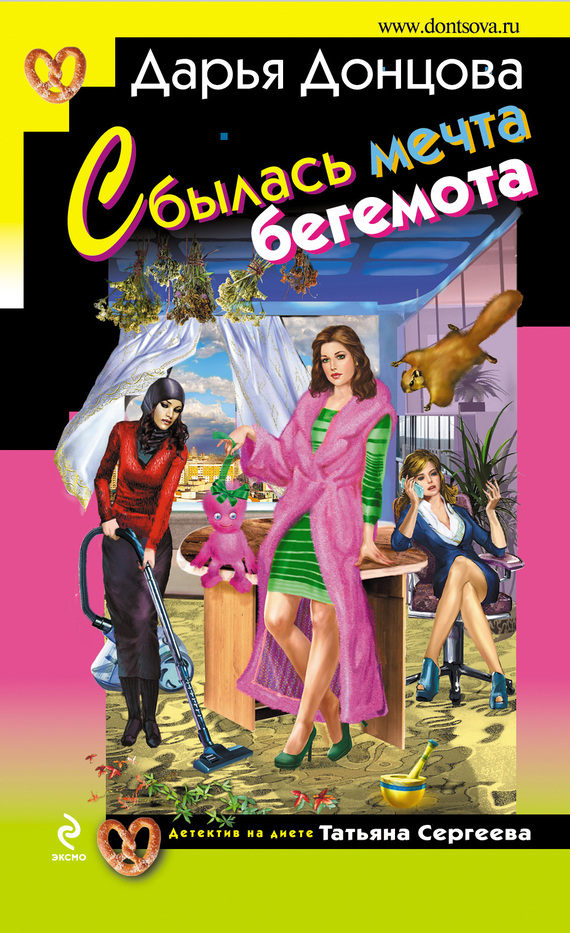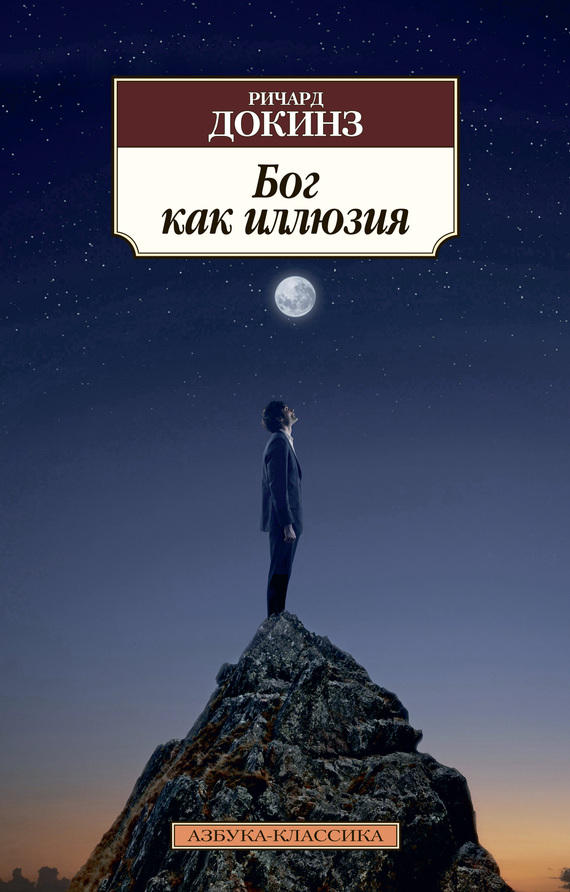Невидимка с Фэрриерс-лейн Перри Энн
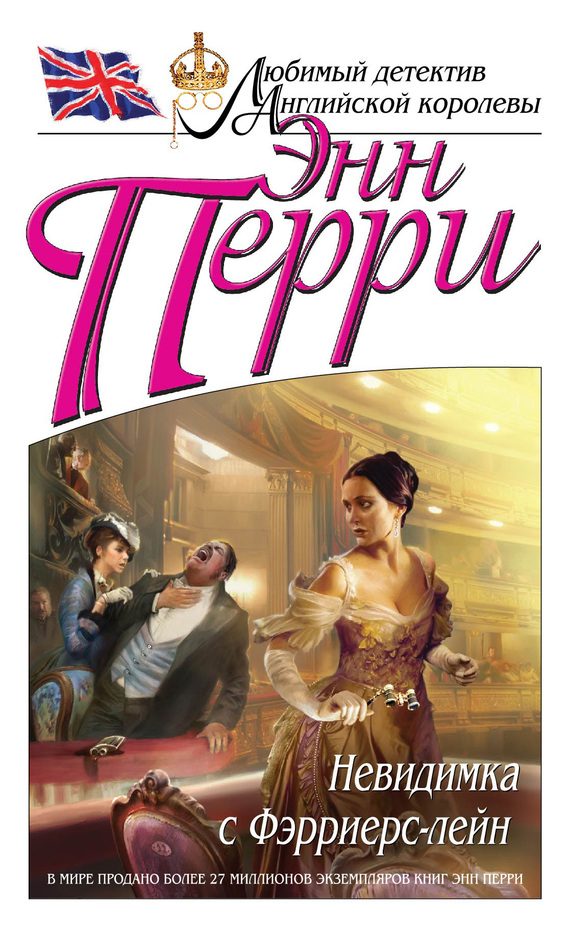
Читать бесплатно другие книги:
При строительстве дома, дачи или коттеджа необходимо решать вопросы, связанные с монтажом сантехники...
Эта книга адресована садоводам-любителям, которым предстоит готовить дачный участок к зиме. В ней оп...
Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь! Татьяна Сергеева на собственных антресолях обнаружила...
Ричард Докинз – выдающийся британский ученый-этолог и популяризатор науки, лауреат многих литературн...
Портрет, коралловые броши, бусы из венецианского стекла и смутные воспоминания о нежных прикосновени...