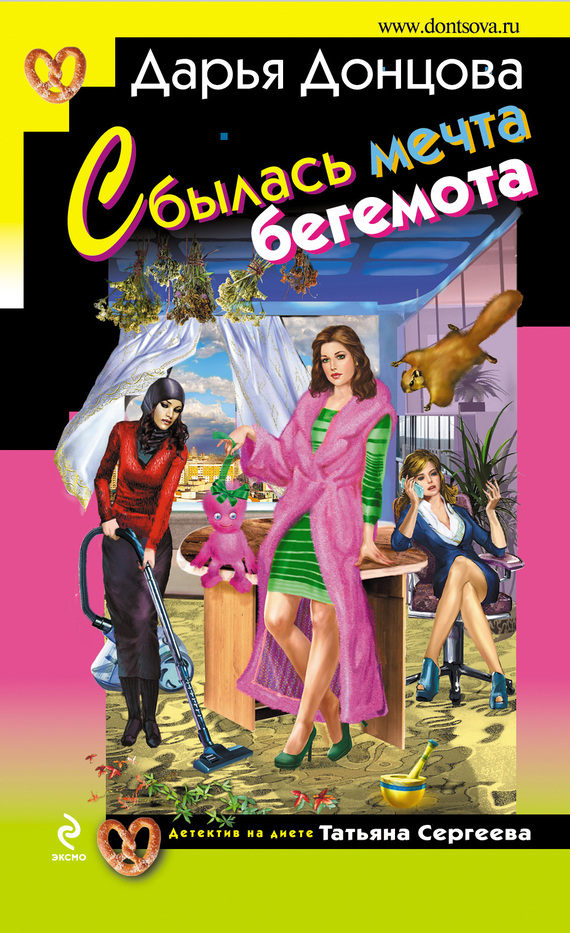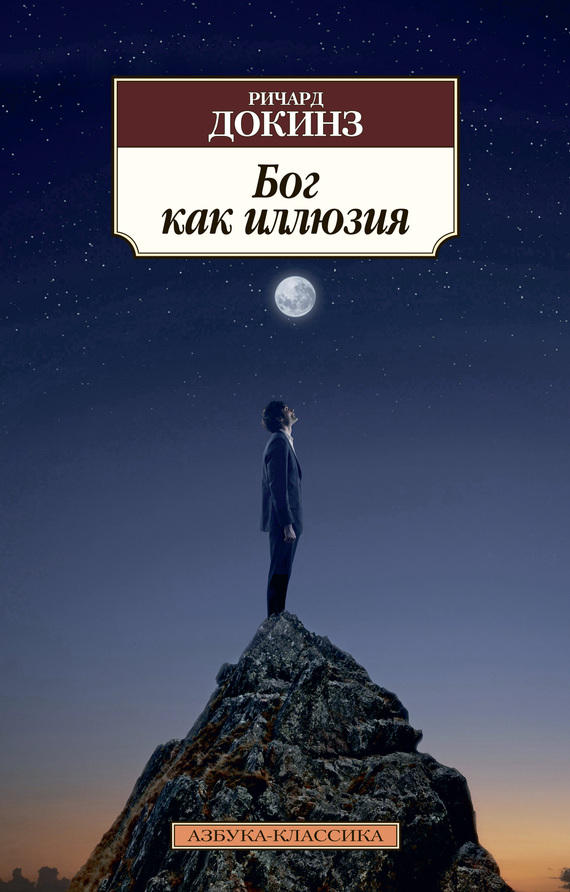Невидимка с Фэрриерс-лейн Перри Энн
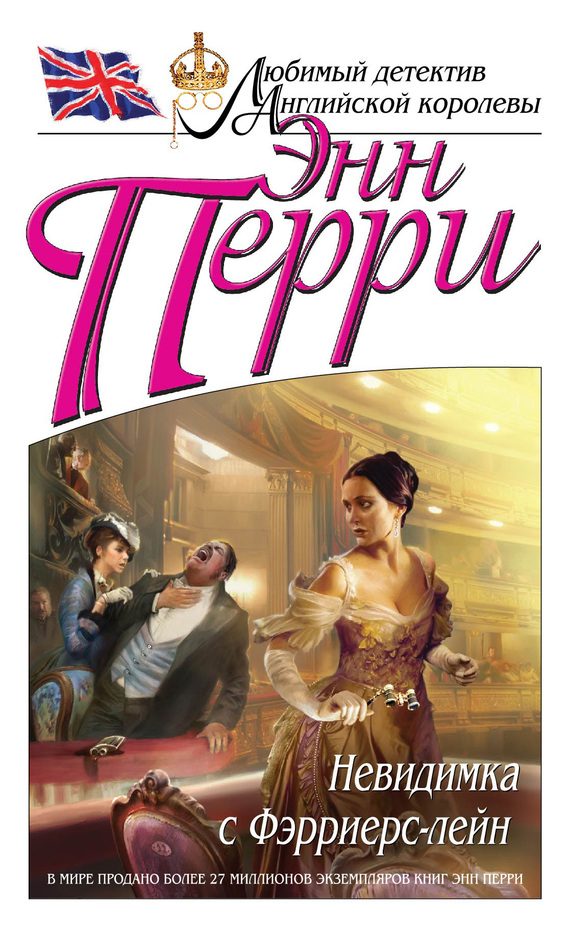
Глава первая
– Ну, разве он не замечательный? – прошептала Кэролайн Эллисон своей дочери Шарлотте. – У него простейшее слово или жест настолько полны чувством…
Они сидели бок о бок в полутемной театральной ложе, обитой красным бархатом. Стояла поздняя осень, но еще не топили, и в театре было холодно. К концу первого акта от скопления людей в партере воздух внизу потеплел, но здесь, в первом ярусе, было иначе. Иногда зрители согревались рукоплесканиями и топаньем ног, но сейчас в драме настал напряженный момент, и шорох возбуждения больше напоминал мерзлявую дрожь.
Сцена сияла огнями, актеры выгодно выделялись на фоне романтических, хотя довольно шатких, деревянных декораций. Внимание Кэролайн особенно привлекал один из актеров, мужчина немногим выше среднего роста, худощавый и тонкий в кости, с орлиным носом; выражение его лица было одновременно насмешливым и мечтательным. Угадывалась в нем и склонность к трагическому мировосприятию. Это был Джошуа Филдинг, актер-премьер труппы, и Шарлотта теперь совершенно убедилась, что мать выбрала этот спектакль именно из-за него.
Кэролайн явно ожидала ответа. На ее подвижном интеллигентном лице сейчас отражалось какое-то необычное тревожное ощущение, словно ответ Шарлотты имел для матери большое значение. Мать не так давно овдовела, однако на смену первому порыву горя вскоре пришла эйфория, ощущение свободы, словно Кэролайн поняла, как много предстоит ей узнать и сделать без постоянного сдерживающего начала – теперь, когда она сама себе хозяйка. Миссис Эллисон читала что хотела, в том числе политические статьи и дискуссии на спорные темы, иногда скандального толка; свободно встречалась с представителями разных социальных групп и обсуждала с ними разнообразные проблемы, что раньше ей не дозволялось; слушала лекции реформаторов, путешественников и ученых, сопровождавших свои выступления показом фотографий и диаграмм.
Однако удовольствие, которое она получала от такой жизни, иногда слегка омрачалось чувством одиночества.
– Да, мама, действительно хорошая игра, – искренне согласилась Шарлотта. – У него такой голос, который можно слушать часами.
Кэролайн улыбнулась и снова обратила внимание на сцену, на какое-то время вполне удовлетворенная.
Шарлотта искоса взглянула на мужа, но глаза Томаса были прикованы к зрителям, занимавшим ложу того же яруса в десяти шагах от них. Там сидел мужчина немного за шестьдесят с редеющими волосами и широким лбом. В данный момент он не отрываясь глядел на сцену. Рядом с ним находилась красивая темноволосая женщина, по крайней мере лет на двенадцать-четырнадцать моложе. Когда она пошевелилась, слегка повернув голову и коснувшись рукой волос, на ее шее сверкнуло драгоценное ожерелье.
– Кто это? – прошептала Шарлотта.
– Что? – вскинулся от неожиданности Питт.
– Кто они? – тихо повторила она, смотря мимо него на ту ложу.
Томас немного смутился. Визит в театр был как бы подарком от Кэролайн, и ему не хотелось казаться рассеянным, хотя пьеса не слишком его интересовала.
– Это член Апелляционного суда, – прошептал он в ответ, – мистер Стаффорд.
– А это его жена? – Шарлотта старалась понять, что именно так заинтересовало мужа.
Тот незаметно улыбнулся.
– Да, наверное, а что?
Шарлотта взглянула на другую ложу почти с нескрываемым интересом.
– Тогда почему ты на них так внимательно смотришь? – спросила она, все еще шепотом. – А кто сидит в соседней ложе?
– Да как будто судья Ливси.
– А он не слишком молод для судьи? Но довольно красив, правда? И миссис Стаффорд, по-видимому, тоже так думает…
Питт скосил глаза в сторону тещи – Кэролайн была слишком занята происходящим на сцене, чтобы прислушиваться к их разговору. Он проследил за взглядом Шарлотты и едва слышно ответил:
– Да нет, не черноволосый, а тот, что поближе. Молодой – это Адольфус Прайс. Он адвокат суда Ее Величества. А Ливси – тот дородный седой мужчина.
– Ну, хорошо, но почему же все-таки ты столь внимательно их разглядываешь?
– Меня удивило, что мистер Стаффорд очень напряженно следит за действием, – ответил Питт, слегка пожав плечами. – Пьеса слишком уж романтична. Вот не думал, что он любит такие. Десять минут не отрывал взгляда от сцены, а то и больше… Даже ни разу не сморгнул!
– Но, может, он влюблен в Тамар Маколи? – спросила Шарлотта, слегка хихикнув.
– В кого? – ответил, поморщившись, Томас.
– Да в актрису! – Шарлотта потеряла терпение и на мгновение повысила голос. – Да ну же, Томас! Погляди, наконец, на сцену. Эта актриса играет главную героиню!
– О да, конечно! Забыл, как ее зовут. Извини. Но говори тише, – заметил он ехидно. – И тоже смотри.
Они устремили внимание на сцену и почти четверть часа молчали, когда вдруг из ложи Стаффорда послышались негромкий крик и какая-то приглушенная суета. Даже Кэролайн вынуждена была оторвать взгляд от сцены.
– Что происходит? – спросила она, встревожась. – Что случилось? Кому-нибудь плохо?
– Да, похоже на то, – ответил Питт, отодвигая стул, словно собираясь встать, но затем переменив свое намерение. – Наверное, судье Стаффорду стало нехорошо.
И действительно, миссис Стаффорд вскочила и явно в тревоге наклонилась над мужем, стараясь ослабить узел его галстука и расстегнуть воротничок, говоря что-то тихо и взволнованно. Судья, однако, не отвечал. Его конечности судорожно подергивались, а на лице застыло неподвижное выражение, как будто он и сейчас не мог отвести взгляда от сцены и актеров, игравших предназначенные им роли.
– Может, надо помочь? – прошептала нерешительно Шарлотта.
– Но что можно сделать? – У Питта был встревоженный вид, лицо нахмурилось. – Ему, скорее всего, необходим врач. – Однако он опять отодвинул стул и поднялся. – Наверное, все-таки надо взглянуть; может быть, она хочет, чтобы кто-нибудь послал за врачом. И, возможно, надо перенести его в более укромное место, где он мог бы полежать. Пожалуйста, извинись за меня перед Кэролайн. – И, не ожидая ответа, Питт выскользнул в дверь.
Очутившись в широком коридоре, он поспешил к интересующей его ложе, считая двери, пока не достиг нужной. Стучать было бессмысленно: женщина старалась изо всех сил помочь мужу и не подошла бы открыть. Впрочем, дверь была не заперта, более того, слегка приотворена, поэтому Питт толкнул ее и вошел.
Сэмюэл Стаффорд осел в кресле почти бесформенной грудой, лицо у него пылало. Даже от двери Питт мог слышать его громкое трудное дыхание. Джунипер Стаффорд теперь стояла у края ложи, прислонившись к бортику, прижав руки к лицу так сильно, что побелели суставы пальцев. Ее, казалось, парализовал страх. Возле Стаффорда опустился на колено судья Игнациус Ливси.
– Не могу ли я чем помочь? – быстро спросил Питт. – Вы уже послали за доктором или мне это сделать?
Ливси оглянулся, словно в испуге. Он, по-видимому, не слышал, как Томас вошел. Это был рослый мужчина с большой головой и выразительными чертами лица, довольно коротким носом и мясистым подбородком. То было лицо человека, убежденного в своей правоте и храброго, но, возможно, с импульсивным характером. Такие лица часто встречаются у людей, подверженных быстрой перемене настроения, но которые умеют с легкостью управлять эмоциями других.
– Да, пошлите за врачом, – торопливо согласился он, бросив на Питта быстрый взгляд, дабы удостовериться, что перед ним джентльмен, а не любопытствующий нахал. – Сам я не разбираюсь в медицине и, боюсь, не смогу помочь.
– Да, разумеется. Я сейчас пришлю свою жену, чтобы та осталась с миссис Стаффорд.
Лицо Ливси выразило большое удивление.
– А вы знакомы со Стаффордом?
– Только слышал о нем, мистер Ливси, – ответил Томас с самой обезоруживающей улыбкой.
Человек в кресле соскальзывал с сиденья все ниже, дыхание его замедлялось. Не тратя времени даром, Питт вышел и, подойдя к своей ложе, распахнул дверцу.
– Дело серьезное, Шарлотта, – сказал он повелительно. – Думаю, что бедняга умирает. Тебе надо бы пойти туда и поддержать миссис Стаффорд.
Кэролайн обернулась и взволнованно посмотрела на него.
– Оставайтесь здесь, мама, – ответил Питт на немой вопрос.
Шарлотта встала, вышла вместе с мужем и бегом бросилась к ложе Стаффорда, только юбки развевались. Томас направился в противоположную сторону, в администрацию. Он нашел нужную дверь, резко постучал и вошел, не ожидая приглашения.
Внутри сидел мужчина с великолепными усами. Он сердито посмотрел на вошедшего, который оторвал его от разглядывания очень нескромной фотографии.
– Как вы смеете, сэр! – запротестовал он, слегка привставая. – Это…
– Дело срочное, – отрезал Питт, не потрудившись улыбнуться. – Один из покровителей вашего театра, ложа четырнадцатая, чрезвычайно болен. В сущности, боюсь, что он умирает. Это судья Стаффорд.
– О господи, – обомлел администратор, сильно побледнев. – Как это ужасно! Какой скандал! Люди так суеверны… Я…
– Нечего об этом думать, – перебил его Питт. – В театре есть врач? Если нет, вам лучше послать за ближайшим как можно скорее. Я иду обратно, посмотреть, нельзя ли чем помочь.
– А кто вы, сэр? Ваше имя?
– Питт. Инспектор полиции Томас Питт с Боу-стрит [1].
– О милосердное небо! Какое несчастье! – В лице у администратора не осталось ни кровинки.
– Не будьте идиотом! – отрезал Томас. – Это не преступление. Бедняге внезапно стало плохо, а я случайно оказался поблизости, в другой ложе со своей семьей. Бывает, в театр ходят даже полицейские. А теперь, ради бога, быстрее найдите врача!
Администратор открыл и закрыл рот, не издав ни звука. Затем поспешно собрал фотографии, сунул их в ящик стола, быстро и громко задвинул его и поспешил за Питтом, который уже шагал по коридору.
В четырнадцатой ложе Сэмюэл Стаффорд уже лежал в дальнем углу ложи, чтобы по возможности не привлекать взгляда тех, кто предпочитает реальную драму неторопливо разворачивающейся на сцене. Актеры были достаточно дисциплинированны, чтобы не обращать внимания на волнение и суету в зрительном зале. Ливси снял пиджак и, свернув, подложил его под голову Стаффорда, стоя возле него на коленях и озабоченно всматриваясь ему в лицо. Джунипер Стаффорд сидела в кресле, наклонившись вперед и обратив напряженное лицо к мужу, не приходящему в сознание. Дыхание его становилось все тише и реже, лицо побледнело. Он был уже белый как мел и не двигался, только едва заметно вздымалась и опадала грудь. Конечности больше не подергивались. Шарлотта встала на колени возле Джунипер, обняв ее за талию и взяв ее руку в свои.
– Администратор послал за врачом, – сказал Питт тихо, впрочем, он понимал, что все это без надобности, уже слишком поздно.
Ливси взял Стаффорда за руку, чтобы нащупать пульс, затем поднялся с колен, закусив губу, и взглянул на Питта.
– Спасибо, – сказал он просто. Взгляд его одновременно выражал безнадежность и предупреждал, чтобы инспектор не сболтнул ничего лишнего в присутствии Джунипер.
В дверь очень неуверенно постучали.
– Войдите. – Ливси посмотрел на Питта, потом на дверь. Для врача было рановато, если только он не присутствует в театре, причем в том же самом ярусе.
Дверь отворилась, и Питт узнал гладкое, смуглое лицо Адольфуса Прайса, адвоката суда Ее Величества. Тот был явно смущен. Сначала он взглянул на Джунипер Стаффорд, съежившуюся в кресле и прижавшуюся к Шарлотте, затем посмотрел на тело Сэмюэла Стаффорда, распростертое на полу. Даже в слабом свете, отражавшемся от светильников в ложе и казавшемся еще тусклее по сравнению с блиставшей яркими огнями сценой, которая подсвечивала и зрительный зал, можно было не сомневаться, что Стаффорд находится при последнем издыхании.
– Что случилось? – тихо спросил Прайс. – Я могу чем-нибудь помочь?
Голос у него оборвался. Было совершенно ясно, что никто из присутствующих ничем помочь не может, что тут требуется врачебное искусство, но, возможно, и оно уже не требуется.
– Миссис Стаффорд?
Джунипер ничего не ответила, только устремила на него взгляд огромных глаз, в которых застыло отчаяние.
– Было бы очень любезно с вашей стороны принести стакан холодной воды, – твердо сказала Шарлотта, – и убедиться, что карету миссис Стаффорд беспрепятственно подадут к подъезду, чтобы, когда нам можно будет уехать, ей не пришлось ждать…
– О, конечно! Да-да, конечно, я все сейчас сделаю…
Казалось, Прайс был глубочайше благодарен, что может оказать практическую помощь. Он задержался на мгновение, чтобы еще раз взглянуть на Джунипер, затем быстро повернулся и вышел так стремительно, что задел на ходу низенького рыжеватого взлохмаченного человечка с очень маленькими, полными и чрезвычайно чистыми руками.
Войдя, тот инстинктивно понял, что главная персона здесь Ливси, и обратился к нему:
– Я доктор Ллойд. Администратор сказал… Ах! Вижу! – Он устремил пристальный взгляд на Стаффорда, который уже почти не дышал. – О, боже мой, боже! Да! – И опустился на колени, внимательно вглядываясь в его лицо. – Что с ним, вы не знаете? Хотя тут и спрашивать нечего – вероятно, сердечный приступ.
Он стал прощупывать пульс лежащего, и лицо его с каждой секундой становилось все более озабоченным и мрачным.
– Судья Стаффорд, вы сказали? Боюсь, мне не очень нравится его вид. – Доктор потрогал бледное лицо Стаффорда. – Цепенеет, – объявил он, выпятив губу. – Вы можете объяснить, сэр, что произошло? – Последние слова относились к Ливси.
– С самого начала болезнь развивалась очень быстро, – отчетливо, но тихо ответил тот. – Я находился в соседней ложе, когда увидел, как он сильно наклонился вперед, и вошел узнать, не требуется ли помощь. Сначала я подумал, что у него нелады с желудком или что-нибудь в этом роде, но теперь боюсь и предполагать… Видимо, это были симптомы чего-то гораздо более серьезного.
– Его как будто не рвало, – заметил доктор.
– О нет, нет, – согласился Ливси. – Это действительно похоже на сердечный приступ, как вы и сказали. Но он не жаловался на боль, пока был в сознании, и сложилось такое впечатление, что почти с самого начала он пребывал в каком-то оцепенении. Словно ему хотелось спать… так, во всяком случае, могло показаться.
– Он был очень красный, когда я вошел, – заметил Томас.
– О? А вы кто, сэр? – спросил Ллойд, поворачиваясь и хмуро глядя на Питта. – Извините, я вас не заметил. Полагаю, джентльмен каким-то образом имеет отношение к происходящему?
– Меня зовут Томас Питт, я полицейский инспектор с Боу-стрит.
– Вы из полиции? Боже милостивый!
– Но здесь я нахожусь частным образом, – продолжал Питт спокойно. – Я присутствую на спектакле вместе с женой и тещей, наша ложа недалеко отсюда, и я просто хотел предложить свою помощь или вызвать врача, когда заметил, что мистеру Стаффорду стало плохо.
– Весьма похвально, – фыркнул Ллойд и вытер руки о свои панталоны. – Но зачем тревожить еще и полицию по такому случаю?.. Господи боже! Ситуация и без того трагична. Может, кто-нибудь будет настолько любезен, чтобы позаботиться о миссис… э… Стаффорд? Здесь она, бедняжка, ничем не может помочь.
– Неужели я… я? О, Сэмюэл! – Джунипер осеклась и поднесла платок ко рту.
– Я уверена, что вы уже сделали все возможное, – ласково ответила Шарлотта, взяв ее за руку. – А остальное уж дело доктора. А если мистер Стаффорд будет пребывать в бессознательном состоянии, то все равно не хватится вас. Пойдемте со мной; позвольте отыскать для вас местечко поспокойнее, где можно подождать, пока нам не сообщат что-нибудь новое о его состоянии.
– Вы так думаете? – Джунипер повернулась к ней, в голосе прозвучала отчаянная мольба о помощи.
– Да. Не может быть никаких сомнений на этот счет, – ответила Шарлотта, бросив на Томаса молниеносный взгляд, и затем опять обратилась к Джунипер: – Пойдемте со мной. Может быть, мистер Прайс найдет для вас стакан воды и даже отыщет вам экипаж.
– О, я не в состоянии сейчас ехать домой!
– Ну конечно же не сейчас! Но если все так, как говорит доктор, тогда нам придется стоять и ждать, когда подъедет карета.
– Нет, нет, этого не надо. Вы, конечно, правы!
Слегка опираясь на руку Шарлотты, Джунипер встала. Поблагодарив Ливси за помощь и бросив еще один взгляд на неподвижное тело мужа, она подавила рыдания и позволила Шарлотте увести ее.
Ллойд глубоко вздохнул.
– А теперь займемся делом, джентльмены. Я весьма и весьма опасаюсь, что уже ничем не в состоянии помочь мистеру Стаффорду. Он очень быстро угасает, и у меня с собой нет никаких лекарств. Кроме того, в сущности, неизвестно, что могло бы помочь ему в таком состоянии. – Ллойд нахмурился, поглядел на совсем уже неподвижное тело пациента, дотронулся до груди Стаффорда, потом пощупал пульс на шее и на запястье, молча и грустно покачивая головой.
Ливси стоял рядом с Питтом, спиной к зрительному залу и сцене, на которой, очевидно, не подозревали, что в одной из лож театра близится к завершению другая, незаметная, но мрачная драма жизни.
– Итак, – сказал Ллойд спустя несколько мгновений, – судья Стаффорд скончался. – Он неуклюже встал, поправил стрелку на брюках и поглядел на Ливси. – Естественно, следует обо всем сообщить его лечащему врачу, а бедная вдова уже, наверное, подозревает об истинном положении вещей. Бедная женщина. Боюсь, что не могу назвать вам причину смерти, никаких идей на этот счет. Необходимо провести вскрытие. Это очень огорчительно, но в подобных случаях так полагается по закону.
– Значит, у вас нет никаких предположений? – нахмурился Питт. – Разве причина тут не в какой-нибудь знакомой вам болезни?
– Нет, сэр, не в этом, – ответил довольно резко Ллойд. – И неразумно ожидать от какого бы то ни было врача, чтобы он поставил диагноз за несколько минут, не зная истории болезни, да еще при том, что пациент в бессознательном состоянии, – и все это в условиях полутемной театральной ложи, во время спектакля… Вот уж поистине, сэр, вы желаете невозможного!
– Но это не сердечный приступ и не апоплексический удар, – продолжал Томас, не считая нужным извиниться.
– Нет, сэр, это не болезнь сердца, насколько я могу судить, и не апоплексия. В действительности, если бы я не знал, что этого не может быть, то заподозрил бы, что пациент принял какой-то препарат, содержащий опий, причем в чрезмерной дозе. Но это если не принимать во внимание, что люди его положения опиум не употребляют – во всяком случае, в дозах, способных привести к подобному результату.
– Сомневаюсь, чтобы судья Стаффорд курил опиум, – холодно вставил Ливси.
– А я и не предполагаю, сэр, что он его курил, – отрезал Ллойд. – Но, в сущности, я все это говорю, чтобы ответить на вопрос присутствующего здесь мистера… мистера Питта. – И он дернул головой в сторону последнего. – Сам я далек от подобной мысли. Кроме того, человек не может выкурить столько опиума, чтобы это привело к подобному исходу. Для этого надо принять много опиумной настойки. Но, в самом деле, зачем даже обсуждать подобную возможность! – Доктор нетерпеливо и энергично пожал плечами. – Нет, я не знаю причину смерти этого несчастного. Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо, как я уже сказал, провести вскрытие. Возможно, лечащий врач знает что-то такое о состоянии его здоровья, что позволит объяснить летальный исход. А теперь я больше ничем не могу быть полезен, а потому извините меня – мне нужно присоединиться к моей семье, которая отправилась в театр в надежде вместе провести вечер, наслаждаясь цивилизованным развлечением.
Он опять фыркнул.
– Я в высшей степени огорчен постигшей вас утратой, глубоко сожалею, что не мог ее предотвратить, но было уже слишком поздно, слишком, слишком поздно. Вот моя карточка. – Он быстро, как фокусник, достал ее и вручил Ливси. – Всего хорошего, сэр… Мистер Питт…
Ллойд проворно отвесил поклон и закрыл за собой дверь, оставив Питта и Ливси наедине с телом Сэмюэла Стаффорда. Ливси выглядел очень мрачным и опечаленным. Он побледнел, во всем его теле чувствовались усталость и напряженность, широкие плечи немного ссутулились; голова склонилась, и слабый свет упал бликами на его густую шевелюру. Он медленно сунул руку в карман брюк, вытащил изящную, оправленную в серебро охотничью фляжку, протянул ее инспектору и сказал:
– Это фляжка Стаффорда. Я видел, как он пил из нее сразу после антракта. Отвратительно думать, но, возможно, в ней и содержится ответ на вопрос, что стало причиной его болезни. Может быть, вы возьмете ее и отдадите содержимое на анализ? Хотя бы только для того, чтобы исключить подобное предположение…
– Яд? – мрачно спросил Питт и посмотрел на Стаффорда. Чем больше он раздумывал над тем, что и как произошло, тем все менее абсурдными казались ему слова Ливси. – Да, – согласился он. – Да, конечно. Вы совершенно правы. Эту возможность обязательно нужно принять во внимание, хотя бы только для того, чтобы доказать обратное. Благодарю вас.
Он взял фляжку и осмотрел ее, медленно вращая в руках. Она была очень изящная, очень дорогая, вся оправлена в серебро. На ней было выгравировано имя Сэмюэла Стаффорда и дата, когда фляжка была ему подарена, – 28 февраля 1884 года. Недавний дар, преподнесенный всего пять с половиной лет назад. Прекрасный дар, возможно, принесший смерть…
– Да, я, конечно, исследую ее содержимое, – продолжал Питт. – А пока надо бы подробнее выяснить все, что можно, о том, как мистер Стаффорд провел этот вечер и что предшествовало трагическому событию.
– Безусловно, – согласился Ливси. – И надо устроить так, чтобы тело унесли незаметно. Нужно будет объяснить миссис Стаффорд, почему его нельзя доставить домой до медицинского исследования, которое должно установить причину смерти. Но как это все прискорбно для нее! Как печально… У двери в ложу есть замок?
Питт обернулся.
– Нет, только обыкновенная задвижка. Я побуду здесь, пока вы не известите администрацию и не попросите прислать сюда констебля. Нельзя держать дверь открытой.
– Естественно. Ну, я пойду. – И не ожидая ответа, Ливси вышел, оставив Томаса одного, – как раз в тот момент, когда под долгие и горячие аплодисменты занавес опустился.
Выйдя из ложи вместе с Джунипер Стаффорд, Шарлотта почти сразу же увидела Адольфуса Прайса, который нес стакан воды в вытянутой руке. Вид у него был чрезвычайно взволнованный, а темные глаза смотрели на Джунипер с выражением, которое Шарлотта приняла бы за страх.
– Моя дорогая миссис Стаффорд, – сказал он отрывисто. – Могу ли я хоть чем-то вам услужить? Я отдал приказ вашему кучеру, и он подъедет, как только вы пожелаете. Как мистер Стаффорд?
– Не знаю, – сдавленно ответила Джунипер. – Он… выглядел… словно был очень болен. И все это… так внезапно!
– Я очень, очень расстроен, – сказал Адольфус. – Никогда не думал, что у него плохо со здоровьем, никогда бы не поверил в это. – И он протянул ей стакан воды.
Джунипер ответила ему долгим взглядом, в котором выражалась острая боль. Она взяла стакан обеими руками, на пальцах сверкнули драгоценные камни. Ее нарядное великолепное платье теперь казалось до абсурда неуместным.
– Но это не так. Он, конечно, не был болен, – торопливо ответила она. – Во всяком случае, я тоже никогда, никогда об этом не подозревала! Вот почему все кажется таким бессмысленным и невероятным… – Голос ее становился все пронзительнее и вдруг сорвался. Она заставила себя отпить глоток воды.
Адольфус пристально смотрел на нее. Он совершенно не замечал присутствия Шарлотты, словно ее вообще здесь не было. Все его внимание было сконцентрировано на Джунипер, однако, казалось, он не может найти подходящие слова, чтобы ее утешить.
– Врач сделает все, что полагается в таких случаях, – заметила Шарлотта. – И самое лучшее для нас сейчас – отыскать спокойное место, где мы могли бы подождать развития событий, правда?
– Да… да, конечно, – согласился Адольфус и снова посмотрел на Джунипер. – Вы не хотите ничего сказать, миссис Стаффорд? По крайней мере, не хотите ли, чтобы я пошел узнать… как он сейчас?
– Конечно, хочу, мистер Прайс. Вы очень любезны.
Джунипер с отчаянием посмотрела на него, а затем, опираясь на руку Шарлотты, отвернулась и пошла в маленький уединенный зальчик, где только час назад зрители угощались перед спектаклем. В дверях стоял администратор, ломая руки, и что-то нечленораздельно, очень волнуясь, бормотал.
Шарлотте показалось, что они были здесь вечность назад. Она иногда брала стакан из рук Джунипер, затем возвращала его, делая какие-то краткие, ничего не значащие замечания, и старалась ее утешить, но при этом без глупых заверений и обещаний, что все кончится благополучно, чего, как она понимала, быть, по всей вероятности, не может.
Через некоторое время вошел Игнациус Ливси. Лицо его было серьезно и печально, и Шарлотта сразу поняла, что Стаффорд умер. И Джунипер, лишь взглянув на него, все тоже поняла, утратив последнюю надежду. Она глубоко вздохнула, опустила опухшие веки и ничего не сказала. По щекам покатились слезы.
– Я чрезвычайно опечален, – тихо сказал Ливси. – Мне причиняет боль необходимость сообщить вам, что он скончался. В утешение я могу сказать только то, что кончина его была совершенно спокойной и он не должен был чувствовать ни боли, ни скорби – разве только на мгновение, да и оно было столь кратким, что он даже не успел ничего понять. – Ливси стоял, заполняя собой дверной проем, – олицетворение справедливости закона и стабильности в этом ужасном меняющемся мире. – Он был прекрасным человеком, который с большим отличием служил закону больше сорока лет, и о нем будут вспоминать с почтением и благодарностью. Англия стала лучше, а ее общество – мудрее и справедливее оттого, что он жил в нем. И это должно быть для вас утешением и подспорьем, когда с течением времени боль утраты несколько утихнет. Таким наследием может похвалиться не каждая вдова, и вы можете гордиться им по всей справедливости.
Джунипер пристально взглянула на него, пытаясь что-то сказать. Больно было видеть все это, и Шарлотте страстно захотелось ей помочь.
– Как это благородно и трогательно с вашей стороны, – обратилась она к Ливси, схватив Джунипер за руку и крепко ее сжимая. – Спасибо, что пришли исполнить, может быть, самую трудную миссию – сообщить о смерти близкого человека… А сейчас, так как, по-видимому, ничего иного сделать нельзя, может быть, вы окажете любезность и попросите, чтобы подъехал экипаж миссис Стаффорд? Полагаю, врач позаботится об остальном?
– Разумеется, – согласился Ливси. – Но… – его лицо еще больше омрачилось, – к сожалению, в силу внезапности всего случившегося полиция, возможно, пожелает задать несколько вопросов.
К Джунипер вернулся голос – очевидно, в этот момент удивление оказалось сильнее горя.
– Полиция? Зачем? Кто… я хочу сказать, почему они явились? Как они вообще об этом узнали? Это вы?..
– Нет… все совершенно случайно. Вопросы хочет задать мистер Питт, который зашел в ложу, чтобы предложить помощь.
– Какие вопросы? – Джунипер взглянула на Шарлотту, явно недоумевая. – О чем тут спрашивать?
– Наверное, он хочет узнать, что Сэмюэл ел или пил в последние несколько часов, – ласково ответил Ливси. – А может быть, о том, чем он занимался днем. Если вы достаточно владеете собой, чтобы ответить на его вопросы, ему это очень поможет.
Шарлотта хотела что-то сказать, возможно, возразить, но ничего не придумала, кроме фраз, которые были бы сейчас совсем бесполезны. Стаффорд умер внезапно и по неизвестной причине. И в данном случае формальное расследование неизбежно. Ливси прав. Чем раньше все будет улажено, тем скорее вдова сможет отдаться без помех естественному чувству горя, тем скорее наступит исцеление.
Открылась дверь, и вошел Питт, за которым по пятам следовал Адольфус Прайс.
Джунипер быстро взглянула на адвоката, затем с видимым усилием отвела взгляд.
– Мистер Питт, – сказала она тихо. – Я понимаю, что вы из полиции. Мистер Ливси объяснил, что вам необходимо задать мне несколько вопросов о… смерти Сэмюэла. – Она издала глубокий вдох. – Я расскажу все, что мне известно, хотя не знаю, чем могу вам быть полезна. Я и понятия не имела, что он болен. Он никогда даже не намекал на это…
– Я понимаю, миссис Стаффорд. – Томас без приглашения сел, чтобы ей не приходилось глядеть на него снизу вверх. – Я глубоко опечален, что обязан потревожить вас в столь тяжелый момент, но если бы я обратился к вам позднее, вы к тому времени наверняка позабыли бы о какой-нибудь мелочи, способной прояснить дело.
Джунипер была очень бледна, руки ее дрожали, но внешне она сохраняла спокойствие. Женщина, по-видимому, все еще была слишком потрясена, чтобы разразиться рыданиями или рассердиться, что часто бывает после подобной утраты.
– Миссис Стаффорд, что ел ваш муж за обедом, прежде чем поехать в театр?
Она с минуту обдумывала вопрос.
– Седло барашка, брюквенный соус, овощи. Еда была не тяжелая, мистер Питт, и не обильная.
– Вы ели то же самое?
– Да, совершенно то же. Конечно, в гораздо меньшем количестве, но то же самое.
– А что он пил?
Джунипер сосредоточенно и несколько удивленно нахмурилась.
– Он выпил немного кларета, но бутылку открыли у стола и наливали там же. Вино было отличное. Я сама выпила полбокала. Муж пил немного, уверяю вас. Он вообще был очень умерен в этом отношении.
– Что было еще?
– Шоколадный пудинг и фруктовый шербет. Но я ела то же, что и он.
Уголком глаза инспектор уловил какое-то движение, обернулся и увидел, что Ливси дотронулся до кармана брюк.
– У вашего мужа была при себе фляжка, миссис Стаффорд? – мрачно продолжил он.
Глаза ее расширились.
– Да-да, была. Серебряная. Я подарила ее Сэмюэлу пять лет назад. А почему вы спрашиваете?
– Он сам ее наполнял?
– Наверное. Вообще-то я не знаю. Почему вы спрашиваете, мистер Питт? Вы… вы хотите ее видеть?
– Она уже у меня, благодарю. Вы не знаете, пил ли он из нее сегодня вечером?
– Я этого не видела, но, скорее всего, пил. Он… он любил понемножку… – Женщина осеклась, голос ее дрогнул и охрип; ей потребовалась минута-две, чтобы взять себя в руки.
– Вы можете рассказать, миссис Стаффорд, чем он занимался в течение дня? Все, что вам известно?
– Что он делал? – Она задумалась. – Ну… да, если хотите, но я не понимаю, к чему это.
– Существует вероятность, что ваш муж был отравлен, миссис Стаффорд, – сурово ответил Ливси, все еще стоя около двери. – Это очень неприятная и огорчительная мысль, но, боюсь, мы должны взглянуть правде в глаза. Конечно, патологоанатом может найти болезнь, о которой мы не подозревали, но до этих пор мы должны принимать во внимание все возможности.
Джунипер заморгала:
– Отравлен? Но кто же мог отравить Сэмюэла?
Прайс переминался с ноги на ногу, не сводя взгляда с миссис Стаффорд, однако не вмешиваясь в разговор.
– А вы можете кого-нибудь заподозрить? – снова привлек ее внимание к себе Томас. – Вы не знаете, он был занят последнее время каким-нибудь судебным делом, миссис Стаффорд?
– Нет… нет, у него не было на руках никакого дела.
Казалось, ей легче говорить, когда сознание сосредоточено на какой-то реальной подробности, – так проще отвечать на вопросы, поставленные определенным образом.
– Та женщина опять к нему приходила. Она уже несколько месяцев не давала ему проходу. Такое впечатление, что он очень из-за нее расстроился, и, как только она ушла, вышел из дома почти сразу за ней.
– Какая женщина, миссис Стаффорд? – быстро переспросил Питт.
– Мисс Маколи, – ответила она. – Тамар Маколи.
– Актриса? – удивился инспектор. – А вы не знаете, что ей было нужно?
– Да, конечно. – Джунипер вздернула брови, словно не ожидала такого вопроса, словно полагала, что полицейскому и так все известно. – Это касается ее брата.
– Но какое отношение все это имеет к ее брату? – терпеливо уточнил Томас, напомнив себе, что она только что овдовела, причем весьма прискорбным образом, поэтому от нее нельзя ожидать такой же стройной логики, как от прочих. – Кто ее брат? Он что, подавал прошение на апелляцию?
На мгновение лицо Джунипер приобрело весьма горькое и ироничное выражение.
– Вряд ли, мистер Питт. Его повесили пять лет назад. Маколи хотела, чтобы Сэмюэл пересмотрел дело. Он был членом Апелляционного суда, который отклонил просьбу ее брата о помиловании. Тот был осужден из-за ужасного преступления. Наверное, если бы общество могло его повесить дважды, оно бы это сделало.
– Это дело Годмена, – сказал Ливси за спиной Питта. – Убийство Кингсли Блейна. Полагаю, вы помните это дело?
Инспектор на мгновение задумался. В голове мелькнуло смутное воспоминание о всеобщих ужасе и ярости, связанных с убийством, о статьях в газетах, об одном-двух безобразных инцидентах на улицах, когда толпа набросилась на евреев.
– Убийство на Фэрриерс-лейн? – спросил он.
– Совершенно верно, – подтвердила Джунипер. – Ну а Тамар Маколи – его сестра. Не знаю, почему у них разные фамилии, но ведь у актеров все не как у обычных людей. Никогда не знаешь, когда они серьезны, а когда нет. И к тому же они евреи.
Питт вздрогнул. Ему показалось, что в комнате вдруг подул холодный ветер, словно дыхание ненависти и безрассудства ворвалось в открытую дверь. Ливси встал и закрыл ее. Питт взглянул на Шарлотту и заметил у нее в глазах страх, как будто она тоже почувствовала дуновение чего-то странного и мрачного.
– То было очень неприятное дело, – тихо сказал Ливси. Голос его был суров, в нем чувствовалось что-то отдаленно напоминающее гнев. – Не понимаю, почему эта несчастная женщина не оставит дело брата в покое, чтобы воспоминание о нем исчезло у всех из памяти… Но некое беспокойство заставляет ее все время о нем напоминать и настаивать, чтобы по нему снова было назначено слушание.
Лицо Ливси потемнело, словно такое поведение было ему отвратительно и он с удовольствием больше не стал бы ко всему этому возвращаться, ибо оно вызывало совершенно бессмысленную и ненужную боль, что он сам касается данной темы, лишь повинуясь служебному долгу.
– У нее какая-то сумасшедшая идея – очистить посмертно его имя от обвинения. – Судья слегка пожал плечами. – А правда заключается как раз в том, что этот негодяй оказался по уши виноват, что и было доказано. На этот счет не оставалось никаких сомнений, оправданных или интуитивных. Он воспользовался правом на справедливый и беспристрастный суд и правом на апелляцию. Я знаю все факты, относящиеся к этому делу, Питт, – я сам принимал участие в судебном заседании, рассматривавшем его апелляцию.
Томас кивнул в знак того, что принял сообщение к сведению, и опять обратился к Джунипер:
– Мисс Маколи приходила к мистеру Стаффорду и сегодня?
– Да, рано днем. И он очень из-за этого взволновался. – Она глубоко вздохнула и постаралась овладеть собой, схватившись за руку Шарлотты. – Он сразу же вышел из дому, сказав, что ему обязательно нужно повидаться с мистером О’Нилом и мистером Филдингом.
– Джошуа Филдингом, актером? – переспросил Питт, почему-то избегая взгляда Шарлотты; перед его мысленным взором возникло с болезненной четкостью встревоженное лицо Кэролайн в театре.
– Да, – едва заметно кивнула Джунипер, – он тогда уже был членом труппы и, конечно, играет в ней и сейчас. Вы видели его сегодня на сцене. Он был другом Аарона Годмена и как будто тоже находился под подозрением – разумеется, пока не выяснилось, кто виноват на самом деле.
– Понимаю. А кто такой мистер О’Нил? Тоже актер?
– О нет! Мистер О’Нил был другом Кингсли Блейна, убитого. Он всегда был очень респектабельным человеком.
– А почему мистер Стаффорд пожелал с ним увидеться?
Джунипер слегка покачала головой.
– С самого начала его тоже подозревали, но это, конечно, продолжалось очень недолго. Понятия не имею, почему Сэмюэл хотел с ним встретиться. Он со мной об этом не говорил, и я знаю, куда пошел муж, лишь потому, что он был очень расстроен и я спросила, куда он собрался. Но он сказал только, что хочет встретиться с мистером О’Нилом и мистером Филдингом.
Адольфус Прайс откашлялся, опять неловко переминаясь с ноги на ногу.
– Э… я… я могу подтвердить это, мистер Питт. Мистер Стаффорд приходил сегодня и ко мне. Уже после того, как поговорил с ними обоими.
Томас удивленно посмотрел на Прайса. Он совсем забыл о его присутствии.
– Неужели? А он обсуждал с вами это дело, мистер Прайс?