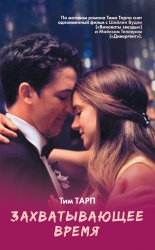Жемчужница и песчинка Тайсина Эмилия

- Мы оставляли. Нас оставляли.
- Время – Пространство вила Сингулярность.
- Встречи не ждет Фредерик на Полярной.
- Мы умирали. В нас умирали.
- Кто ещё веровал так безоглядно?!
- Замерший взрыв сродни постоянству.
- Сладким свадебным запахом яблонь,
- Призрачным ливнем – останься, останься!..
- Мастер, оставь. Пощади мою веру.
- Этим сонатам не повториться.
- Пусть в непроглядный бархат футляра
- Смуглая скрипка навек удалится.
- Это конец. Дилижанс в преисподнюю.
- Мастер, ты юность похитил у скрипки!
- Матерь – Природа, оставь мне Сегодня!
- Завтра откроется тайна эклиптики.
Так. Все, что в этой главе написано, не нравится мне. Не хочу больше писать ни слащаво, ни приподнято, – я ведь, в сущности, притворяюсь, невесть зачем заставляя читающую публику поглощать эти политые сиропом страницы. На самом-то деле я сижу с перекошенным лицом, температурой, головной болью, – недавно выдрали мудрый зуб, и до того как-то антихудожественно, что даже дали больничный на три дня; хирург сам испугался своих итогов. Напишу лучше иронические стихи. Безотносительно. По настроению.
- Прости меня, приятель. Я недавно
- Нелестно отзывалась о тебе.
- Мой слушатель был мой герой заглавный:
- То мой кофейник, древний, как Тибет.
- «Ты – ужас мира», – мне сказал приятель.
- (И чем я так ужахнула его?)
- Создатель сотворил меня некстати
- Для дела своего – и моего.
- Одно я знаю твердо: вероломство
- Есть моя верность, верность мне самой.
- «Но мы старинным связаны знакомством»…
- Прости меня за грех, приятель мой!
Итак, на самом деле я никакой не музыкант. Музыкант будет мой младший сын. А впрочем, храни его от этого бог: экспансивная, завистливая, вздорная, страдающая, пьющая, кочующая, не слишком счастливая нация. Зато пока я, мрачно таращась в угол, хрустя позвоночником, как вязанкой хвороста, сижу в предбаннике музыкальной школы, часами и годами ожидая, когда у ребенка закончится сольфеджио или квартет, – я твердо знаю: за эту невероятную трату времени, за это самоубийственное сидение и бессмысленное пяленье в угол коридорчика, за эти походы в музыкалку сквозь дождь и мокрый снег, по жаре и грязи, рядом с сыном, – за все это меня на Страшном Суде не накажут. Нет, не накажут. Это каким-то непостижимым образом хорошо и правильно.
Все же самым смешным и человечным был начальный, первый эпизод его музыкальной карьеры. Мама, зная мое отрицательное отношение к тому, чтобы еще и Булата загнать в музыкалку, проделала это сама, и так же почти обманом. Она дождалась, пока я уехала в научную командировку в Саратов, отвела малыша в приемную комиссию, а потом и на экзамен. Слушайте же. Дитя старательно прохлопало ритм, проинтонировало сколько-то интервалов, угадало количество звуков в аккорде, а потом было попрошено «что-нибудь спеть». Оказывается, мама ничего с ним не подрепетировала. Дитя сделало заявку не на что-нибудь, а на «Песню о Щорсе». (Интересно, кто-то сегодня еще умеет ее петь?) Комиссия поразилась, одобрила; тогда дитя отхватило еще «Крейсер Аврора». Комиссия переглянулась, выпрямила спины; а пел мой Булат, надо сказать, очень хорошо и чисто: он подпевал моей колыбельной песне еще до того, как научился говорить.
Мама рассказывала потом, что после такой распевки он предложил жюри спеть еще одну вещь, на бис… Это был Гимн Советского Союза. Комиссия встала. На другой день фамилия моего сына в списке зачисленных в музыкальную школу, хотя она и начинается с одной из последних букв алфавита, стояла первой. Ему поставили абсолютный слухи определили в класс к замечательному педагогу Юрию Георгиевичу Максимову.
Через год обучение закончится. Что потом с ним делать – именем Бога живого, не знаю. Понимаю, что обязана знать; обязана дать совет и взять на себя ответственность; судьба Булата – главный (второй главный) вопрос моей жизни… И не могу. Не знаю. Может быть, оставшийся год что-то прояснит; может, он сам сделает выбор; может, я куда-то качнусь… Пока знаю точно только одно: во всем нашем семействе настоящий, урожденный музыкант – один.
И настоящий урожденный писатель – один. Старший мой сын.
И настоящий урожденный ученый – один. Мой папа.
P.S. Скажу еще, что со временем Булат стал предпочитать скрипке гитару, отчасти подражая старшему брату. Зато я горжусь, что со мной он занимался домашним музицированием: мы были хороший скрипичный дуэт.
P.P.S. Композиторские же наклонности проявляет не младший, а старший сын: вместе со своим – моим – приятелем под условными сценическими именами Simplex Corda и van der Priest они написали уже несколько концертов (теперь говорят «проектов»), и в них есть песни настолько несомненные, говорящие и чувствующие, что я на полном основании могу рекомендовать их публике. Однако электронное исполнение требует студийной записи, а это для них невозможно. Так просто! Так драматично! Ты не можешь петь для публики свои песни, потому что нет инструмента, на котором должно происходить аккомпанирование. Поэтому их исполнение в гитарном, домашнем варианте слышали лишь близкие друзья. А это совсем не то, что моим парням требуется. И вот – четвертый проект, но будет ли пятый? Нет синтезатора. Нет – как нет.
Насколько же свободнее тот, кто владеет, в обоих смыслах этого слова, своим инструментом!
…В последний раз мы с Маэстро Таюрским выступали на празднике 8 марта пару лет назад. И когда в ответ на аплодисменты я, в золотом наряде, поднимала к опаловой люстре смычок и скрипку, Маэстро раскланивался из – за рояля, Господин ударник позвякивал по тарелке, и приседала, отводя руки назад, певица, – я чувствовала самое настоящее, чистое и незамутненное счастье.
Глава VI. Сага об оппоненте
Должно быть, в то время он был еще молодой. Только при встрече мне так не показалось.
Я много долгих лет искала этого человека.
В те поры, когда он быстро и уверенно шел к докторской мантии и профессуре, я, поколебавшись между музыкой и языками, подпала чарам диалектики и теории познания. Мой Учитель философии до самого курсового экзамена ничего обо мне не знал: на лекциях я пряталась от его мечущих голубые молнии глаз и лязга обвинительного голоса за колонну в Круглой аудитории, а семинары у нас вел совершенно противоположного стиля и ума человек.
Сейчас попытайтесь представить себе студента, который, обнаружив, что день его курсового экзамена по философии совпадает с датой отъезда за границу, – не моргнув глазом, не перенес бы сей экзамен на пару – тройку дней пораньше и преспокойно не уехал бы в свой варшавский тур. Непредставимо? Для меня же тогдашней – именно подобная наглость обращения к божеству с целью нечто выгадать была непредставимой. В голове не существовало места для этой неслыханной мысли. Мало того, я и Марине не дала уехать; или, может, она из солидарности осталась со мной на экзамен; счастье, что ее могущественная «жинги»
Вера Боговарова поменяла нам Польшу на Румынию, так что за границу мы в те сложные годы благодаря ей все же попали. Неделей позже.
На экзамене, пока я с подъемом и благоговейным страхом рассказывала о Фейербахе, Учитель сидел, опустив голову, не глядя мне в лицо. Бритый череп, орлиный нос… Вдруг движение – и прямо в душу мне глянули нестерпимые глаза, сурово зазвучал медленный голос: «Почему Вы в течение года не ходили ко мне на философский кружок? Вы обязаны были ходить!»
Слыхом не слыхав ни про какой философский кружок (он был не на инфаке, а на истфил), я, как умела, изобразила, что, мол, – да господи, царица небесная, всенепременно теперь буду ходить!.. однако я не попала туда, Учитель работал со мной индивидуально. Позже я поняла, что он – человек очень увлекающийся, занимался то бионикой, то литературоведением, то эстетикой Вознесенского, то импринтингом. Попалась я ему, вычислил он меня в период своего увлечения семиотикой. Дал задание написать реферат, назвал первые две книги. Когда студенческая эта работа (а я со всем жаром изголодавшейся по духовной пище неофитки, бросив учебу, засела в библиотеке) выиграла какой-то Всероссийский конкурс, Учитель окончательно поверил в меня.
В те дни и начался долгий поход к Оппоненту, который ни сном, ни духом не видал меня, учась в своем Ленинграде, разъезжая по Канарским островам, строя отечественную гносеологию. Не знал, что я месяц за месяцем иду к нему: просиживая вечера на опустевшей кафедре философии, где добрая Ляля Сафовна отдавала мне ключи от книжных шкафов; ломая голову над тезисами конференции «Язык как система знаков особого рода», прошедшей в Тарту, пока я была еще школьницей, или над абзацем о теоремах Гёделя о неполноте в книжке пера московского ученого А. Г. Волкова, первого лингвосемиолога советского периода.
Диплом я защищала на обеих кафедрах: философии и английской филологии; через два года поступила в аспирантуру – и тогда мне разъяснил теоремы Гёделя самый умный и перспективный из нас, физик по образованию и наследственный философ Валентин Бажанов. Он защитился оба раза раньше всей нашей аспирантской группы и стал профессором до своих сорока лет. Другие наши ребята тоже сегодня почти все с докторскими; двое из них стали потом моими рецензентами, а когда-то мы вместе учились в школе, и к ним я испытываю дружескую приязнь, those old school ties, you know, хотя тесно мы и не общаемся. А еще один, высокий, с усиками, кудрявый брюнет, пятью годами старше, нисколько не замечавший в аспирантуре моего существования, сегодня мой любимый шеф, зав. каф. философии по пединституту.
Толком подружились мы с ним лишь в институте повышения квалификации при МГУ, куда оба попали в один срок: он (тогда) от энергоинститута, я – от педагогического. Жили на родном шестнадцатом этаже, ели и пили из одной, можно сказать, миски, образовали там татарское землячество из восьми человек, включая дружественные приглашенные лица. На сегодняшней нашей кафедре, не считая моей молодежи, шеф – единственный урожденный философ, настоящий книжный червь и интересный лектор. Он из старинной просветительской семьи. И главное, Камиль Хасанович чистейший, честнейший человек, без тени подобострастия по отношению к какому бы то ни было «начальнику», и по – прежнему красавец и гусар. И поэт. А занимается он космологией. При всем том человек не самой радостной судьбы. Я часто ощущаю в нем брата, которого у меня не было, и который был мне необходим.
Возвращаясь к аспирантуре: поступление туда, кроме склонности к анализу, действия авторитета Учителя и родителей, восторга перед красотой философских вопросов, имело еще одно обоснование: я стремилась попасть туда, где нет или мало глупых, невежественных людей. Социум представлялся мне пирамидой, где в основании – огромное большинство кретинов (я же читала Эразма «Похвалу глупости», помнила сентенцию Стругацких: «Поскольку дураков на свете абсолютное большинство, постольку всем историческим событиям свидетелем был именно дурак». «Поэтому любой миф – это реальный исторический факт в восприятии дурака и в изложении поэта». И еще мама всегда повторяет: «Почему-то я люблю умных людей»), – а наверху малое количество интеллектуалов. Это свои, Республика Ученых. Это мое мнение оказалось ошибкой, вернее – на любой ступени, которую со временем осваивает человек, пирамидальная пропорция разумности сохраняется: соотношение интеллектуалов и глупцов один на семьдесят. (Семь тысяч? семьдесят тысяч?..) Ошибкой идеалистического направления оказались и мои сократовские представления о глупости как о единственном зле и о разуме как о единственном виде добра. Есть хорошее речение: «Презирай глупость, если она не добра». Если добра, не презирай… Но в то время я думала иначе, я хотела оказаться «среди своих».
Ну и – еще одна причина: за двадцать с лишним лет так называемые люди здравого смысла не ответили ни на один мой важный жизненный вопрос, хотя и дали много ответов насчет того, о чем их никто не спрашивал. Не я, во всяком случае. Стало быть, надо было найти других людей, в другом стане – среди тех, кто способен видеть нестерпимый свет Истины, среди людей, ушедших из Пещеры.
И вот я стала приближаться к центральной ритуальной фигуре: человеку, который должен был сыграть основную, эффектную роль в обряде посвящения меня в ученую даму. Я стала искать моего Первого Оппонента.
Может быть, вы думаете, это входило в обязанности моего научного руководителя?.. Ха. Может быть, и входило.
…Я рисовала себе его образ, когда, устав от занятий, поднимала глаза на белые статуи в холодном, бледном и зеленом зале московской библиотеки. Я мчалась безумным мотогонщиком по спирали цирка, думая, что, может быть, Он сам, там, среди зрителей, увидит и оценит мой полет. Я фантазировала даже, что, возможно, Он… дама?! Вспомните подобную дерзкую гипотезу относительно того, кто скрывает тайну Эдвина Друда!! И я мчалась в ЛГУ к Марии Семеновне, авторессе книги «Философия и язык», чтобы рискнуть, попробовать – вдруг это мой Первый Оппонент? Ведь семиологов на мой вкус в России было на тот момент всего трое… Были, правда, еще два ереванца, еще вся тартуская школа, но – разве согласятся они оппонировать провинциалу, девочке, куда-то ехать для этого чуть ли не в Сибирь… Был еще В. В. Ким в Свердловске, но он же «функционалист», это действительно – противоположный стан. А ну я ему не понравлюсь – и сведет в нети?.. (Сейчас-то я знаю, что не не нравлюсь, но ведь с тех пор двадцать лет ушло).
Прекрасная Мария Семеновна, обняв за талию, водила меня по длиннейшим старым коридорам ЛГУ, шутила, смеялась, оба яла доверчивую душу как ни одной женщине не удавалось, – согласилась прочесть работу – семь месяцев я ждала рецензии – получила частное письмо с рядом строгих, умных советов и отказом оппонировать – потом узнала, что в результате каких-то дворцовых интриг Она вынуж дена была уйти из университета в Горный, что ли, институт… Откуда знаешь их подводные течения?
Так. Дубровскому я не понравлюсь, хотя непонятно, почему. Коршунову тоже, Ветрова не любят, Резников уже умер, Мантатов не поймешь где и тоже «функционалист».
Вслед за мыслью о Москве я отбросила мысль о Ленинграде. Ни на Ереван, ни на Тарту, ни на другие столицы у меня не было денег. Поехала наудачу в Пермь, знакомиться с Гавриным, – тоже философией языка занимался, – и тоже «черная лошадка», не любит его Орлов. (Сейчас уже не знаю, где он). Отправилась с отчаяния к профессору Аскину: центр Поволжской науки тогда был в Саратове, в Казани же диссертационного совета, тем более на мою тему, не было. На мою тему – и теперь нет.
(Сейчас подумываю: а почему бы ради своего наследника не создать такой совет у себя в институте?.. Гораздо удобнее было бы ему, чем мне в своем 75-м году… Только вот – не избалую ли я его чрезмерным удобством? Надо подумать).
Яков Фомич как-то сразу принял диссертацию к защите. Могущество и слава его были очень велики; я надеялась, что Первого Оппонента он найдет мне сам? Может, можно хотя бы не доктора наук, кандидата-то легче подыскать?..
Нет, сказал Председатель Совета, это несолидно. Первый должен быть доктором. Поезжайте в Самару (тогда говорили Куйбышев), к Борисову. Ему эта проблематика подойдет.
Зигзагом я бросилась в Куйбышев… Как вы можете догадаться, нечто должно было произойти. Нашла университет, взобралась на пятый этаж… Вот его кафедра…
…Как, Вы ничего не знаете? – сказали мне. – Позавчера у Вадима Николаевича случился инфаркт. Да – да. Ну, где-то через полгода…
Не буду для красного словца писать, что была близка к тому же самому, то есть к инфаркту. Мой дух весьма укрепился в настойчивости. Не раз и не пять я попадала в ситуацию, когда была вынуждена вести себя как цыганка, хотя именно навязчивость – порок, которого у меня от рождения не было. «Извините, разрешите мне представиться Вам. Эмилия Тайсина, Казанский университет. Да, аспирантка, да… Зная Ваши работы, рискую попросить Вас: не пожелаете ли, не найдете ли времени, нет ли возможности… Как Вам будет угодно – отзыв, рецензию, неофициальный, официальный, несколько устных замечаний хотя бы… Тема?.. Тема редкая, к сожалению… А может быть, все – таки?.. Нет времени?.. Не Ваша тема?.. Простите, а вот хотя бы по поводу одного параграфа, заключения, одной важной идеи… Извините, Бога ради… Да, да, все понимаю…»
Странствия мои, наконец, привели меня в Свердловск. Хотя я и побаивалась Кима, все же решила обратиться к нему. В конце концов, Оппонент ведь действительно – противоположная научная позиция! Если согласится, – по чести обменяемся теориями; правда, он еще не доктор, но Ким есть Ким, Саратов должен меня понять!
…И тут Свердловск собирает Всесоюзный симпозиум «Логика научного поиска».
…!
Едем с тогдашним шефом Иваном Ивановичем Гришкиным в Свердловск. Я почему-то наряжаюсь, темно – оранжевое платье, кружевные манжеты, джинсы – побоку. В посвисте поезда слышался оклик Судьбы.
Перед пленарным заседанием, когда съехавшаяся со всех концов публика заполняла большой зал, шеф быстро отыскал своих ленинградцев. Я познакомилась с Борисом Марковым, Лапицким, Федоровым. В какой-то момент к нам полуобернулся еще один их общий знакомый – рыжеватый, веснушчатый, пожилой, как мне показалось, человек. (Боже мой! А ведь ему даже сорока лет не было, наверное!) Шеф представил ему «своего молодого ассистента», то есть меня. Рыжеватый отнесся благосклонно, были какие-то быстрые фразы, а потом вдруг по наитию Иван Иванович задал вопрос о возможности оппонирования.
Его визави мгновенно отбросил улыбку и студенческий сленг, лицо его застегнулось, и он официальным профессорским тоном ответил, что может подумать.
Да, это был Он, хотя в момент знакомства мы оба еще об этом не догадывались! Но Сага далеко не завершилась в тот день, и согласия быть моим Первым тогда Он еще не дал. С Кимом мы тоже на том симпозиуме увиделись, но сделать попытку сесть на два стула я не решилась. Ставка была сделана, господа и дамы. Дамы и господа.
Теперь, когда я ясно представляла себе Его облик, знала содержание основных трудов, слышала речь, видела Его окружение, мне стало проще: путь был спрямлен, улыбка удачи мерещилась за морщинистым ликом безучастного дотоле Времени. Легко сказать сейчас: я писала диссер четыре месяца. Я почти четыре года шла потом к защите.
Вот следующая сцена разворачивающейся Саги: Москва, Министерство Образования, знаете, на Чистых Прудах; Зал коллегий. Мы собрались на Совещание Заведующих Кафедрами Общественных Наук. Иван Иванович послал меня, как своего зама, зная, что там непременно будет и мой потенциальный Первый. Вдруг я исхитрюсь его уговорить!
Объективно сказать, аргументов «против» для Него было много: провинциальная малышка, защищается в провинции же («в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!») – и время было для Него неудобное, предстояла заграничная поездка, и средств, чувствовалось, затратить больших я не могла…, да и тема, батенька: роль символизации в познании, да в научном, да в современном! Бог знает, что там наколото и нащепано. Иностранных источников многовато. И с ленинской критикой теории символов не вполне согласовано… Словом, некогда читать, извините, душечка. Просмотреть?.. Да тоже, знаете ли…
Может быть, у Него были и не такие мысли, но уж, наверное, подобные. Были же они у моего научного руководителя.
Тогда я еще не преподавала логику, и воззвать к ней мне было трудно. Я воззвала к психологии.
– Вы – моя надежда. (В скобках: последняя). Пожалуйста, не отказывайте мне сразу; я знаю, что Вас интересуют сходные темы: наглядный образ в структуре познания, разница референциальных уровней феномена значения; Вы – один из ведущих методологов (в скобках: хотя и живете в провинции, пардон, конечно же, мне непонятно, как Вы туда попали, и, разумеется, столицы тянут Вас к себе обратно); Вы проницательный человек: я не отступлю. (В скобках: взгляните на меня попристальнее!) Я на всю жизнь, если получу Ваше согласие, останусь Вашим должником. Вы ничего не потеряете; я обеспечу быстрое и неутомительное путешествие, а Саратов, кстати сказать, прелестный город! И всех трат – три дня. А там в Германию!
– Гм. Вообще говоря, это довольно привлекательная мысль: иметь Вас должником на всю жизнь.
– Вот видите, Вы уже рассматриваете меня не сурово!.. Прошу Вас, возьмите мою работу с собой в гостиницу, завтра на секционном заседании вынесете свой вердикт.
– Гм. Нет, лучше Вы привезите мне свой текст. Вечером. В гостиницу, сейчас мне неудобно.
– …Хорошо… конечно…
Началось пленарное заседание.
А вечером в гостинице Украина, на 15 этаже, куда, как вы знаете, не доходит лифт, разыгралась центральная, решающая сцена. Она имела темп, блеск и комизм водевиля, и я заранее скорблю, что мне не удастся адекватно описать ее, – это надо было видеть и слышать.
Хозяин номера приготовился по всем правилам наших игр принять меня. Но начатую беседу прервал телефонный звонок. Нехотя подходил он и нехотя брал трубку; – Да? – и тут же на лице написались легкая досада и легчайшая польщенность, патинированные скукой.
Ничего не значащие пол – разговора, трубка водружена на место, и следует доверительная жалоба: ах, как это, в сущности, мне надоело! Чего бы я не дал, чтобы избавиться от… одной особы…
Простите, проверяю я свои слух и догадливость, Вы имеете в виду… Имеете ли Вы в виду, что в таком случае Вы бы пошли мне навстречу… И Вы действительно многое готовы обещать, лишь бы кто-то мягко и аккуратно… Уау! Да я, я тот человек, который немедленно поможет Вам избавиться от того, от чего не позволяют Вам избавиться хороший тон, привычки спортсмена и природная вежливость, то есть от одной особы!
Вдохновенно и лихорадочно подтасовывается декорация, я распускаю волосы, грозно свожу брови и превращаюсь в корсиканку Роситу, цыганку Азу и ревнивую Амнерис одновременно, однако с кавказским акцентом, подделывать который не просто, но и не сложно. Цойс, Zeus, трудно ли это для меня, затесывавшейся впоследствии кубинкой в кубинские ряды и турчанкой в спесивые немецкие и эстонские когорты в их родных мызах и Doerfen!
Да простит меня та, ничего не подозревавшая, веселая и легкомысленная московская бабеночка, почти девочка, просто – напросто хотевшая иногда хорошо провести время с заезжим профессором, не строя (возможно, что и не строя) никаких далеко идущих планов! Легкий ужин, бокал вина, может быть, прогулка… а тут на тебе!
За три минуты исполнения зловещей своей роли изгнав неосторожную из своего домена (ти щто, дэ – вущка, аткуда взялса? Я еду – еду две тищ ч'ломэтров, а ти щто здэсь дэлаэш? Ну – ка, дарагой, давай, правади дэвущку вниз, закажи ей столик, пуст па – ужинаэт, а патом дай ей на такси!), я подождала, пока, провожая, Он дойдет до площадки между 14-м и 15-м этажами. Мстительно шагая, я вышла следом и, подбоченясь, вопросила сверху: «Сколка нужьна врэмэни, щтобы пасадить дэвущку в лифт?» И ей – богу, они распростились мгновенно и, смею заметить со смирением, – слегка испуганно. Он пошел за мной обратно в номер.
– Ну, Ты даешь, ну Ты и даешь!!
– Так Вы согласны мне оппонировать?
– Да, черт возьми, согласен.
Дальше мы смеялись, и, смеясь, расстались, а встретились уже на перроне в Саратове. С мамой (на первую защиту я ездила с мамой, на вторую с сыном) мы проводили Его в гостиницу, и она потом вспоминала, что на Нем была теплая, не по сезону, шляпа. На защите Он сказал, что нашел мою работу хорошей и сильной. Через пару лет через третьи руки я узнала, что Он посчитал ее слабенькой и серой. Каково Его истинное мнение, я до сих пор не знаю. Самой мне спектакль понравился (я имею в виду защиту), и я старалась. Публика не хлопала, думаю, лишь потому, что ритуал не позволяет. Хлопают только в конце, и только члены Ученого Совета: поздравляют новорожденного кандидата в люди.
Или доктора.
На второй защите, когда подошел этот момент, – Председатель объявил, что теперь уже можно поздравить коллегу с высокой степенью, – признаюсь, я расчувствовалась.
И теперь кода: на второй защите моим Первым Оппонентом был Валентин Бажанов, тот блестящий юноша, годом моложе меня, который, когда мы пришли в аспирантуру, объяснил мне смысл теорем Гёделя о неполноте. Большая система всегда открыта; ее основные, базисные понятия собственными средствами, то есть средствами данной теории, не эксплицируются.
- В холодном, бледном и зелёном зале
- Рождественские люстры все в пыли,
- И гипсовыми, белыми глазами
- Со стен взирают мудрецы земли.
- Усилия фаланг мужей учёных,
- Зевки и кашель, плеск сухих страниц…
- Здесь дамы одиноко – непреклонны,
- И немочь бледная с мужских глядится лиц.
- Ковёр заглушит шарк ноги проворной:
- Уйду на свет и помолюсь о том,
- Что бой богов в их головах упорных
- Отнюдь обычным людям не знаком.
Глава VII. Эпоха каратэ
У меня, с виду кажется, много жизненных достижений: твердое место на кафедре, добрый молодой муж, два прекрасных сына, две степени, квартира и что там еще… Но никогда, никогда и ничем в жизни я не гордилась сильнее, чем одним незначительным эпизодом: это было, когда тренер (он не разрешал величать себя ни сэмпаем, ни, тем более, сэнсеем) дал мне указание бить тройной маваши. По мячу, втиснутому среди брусьев шведской стенки. То есть, все мужчины в группе били одинарный, а мне – мне одной! – он разрешил бить тройной. Однако по порядку.
Это случилось в начале лета. Я уже была молодым кандидатом наук, и поэтому не удивилась, когда коллега попросил меня помочь одному его знакомому написать план диссертации, парочку статей и пр. Вернее, сказал он так: «Эмилия, тебе нужен ученик?» Я подумала, что речь пойдет об уроках английского, и отказалась. «Ты не поняла еще; тебе нужен ученик в твоей области, в семиотике?»
Я потеряла дар русской речи. Потом, обретя его, почему-то сварливо осведомилась, какое у этого потенциала образование, еще позволяет ли оно ему заняться семиотикой? «Образование у него будь здоров, – сказал коллега. – Филфак он закончил, МГУ».
Понятно, что я опять чуть не лишилась дара речи… Потом я вопросила, каким образом мой коллега познакомился с упомянутым феноменом у нас, в Казани, и почему принимает в нем участие. Ответ воспоследовал такой: «А это мой тренер по каратэ». Это был уже нокаут.
Шел 1979 год. Посвященные понимают, что это значит.
Что касается меня самой, то об этой загадочной борьбе я знала одно: в ней бьют ногами. Это сказал мне муж. Еще тот, первый. Услыхав, кого именно прочат мне в соискатели – ученики, он пал на колени и сказал: пусть он возьмет меня в группу. Пусть он возьмет меня в группу!! Сделай для этого все, что ему угодно, – сама напиши за него диссертацию, наконец!!! (Замечу в скобках, что тогда подобное занятие было совсем не так распространено, как сейчас. Диссертации часто писались самостоятельно. А сейчас появился такой анекдот: почему докторские диссертации хуже, слабее кандидатских? Потому, что докторские пишут кандидаты, а кандидатские – доктора).
Так в нашем доме появился Станислав.
Он вошел, мягко двигаясь, широко улыбаясь узким ртом и сияя сощуренными голубыми глазами. Невысокий и сильный, он держался необычайно вежливо, с полупоклонами и прижатием правой руки к левой груди. Наверное, к сердцу. Я потом переняла эту манеру, и след ее, быть может, и сейчас в моем поведении есть.
Сначала все же мы с ним по чести пытались заниматься наукой, – если не наукой, то, по крайней мере, научно – методической работой: я проверяла тексты его лекций (он преподавал русский язык иностранным курсантам в крупном военном вузе, который я и по сей день именую «маминым училищем»). Мы даже действительно составили план для его диссертации, придав ей семиотический уклон (с филологами это просто), и кажется, замыслили совместную статью… Шел ведь ставший знаменитым «линвистический поворот». Таким образом прошло две недели; кончилась сессия, мы вышли в отпуск.
Все это время мой муж каждый день ходил на спортфак, на тренировки: группа, которую Слава набрал из наших пединститутских преподавателей гимнастики и легкой атлетики, временно распалась, разъехавшись на отдых, и он неожиданно легко взял моего мужа спарринг – партнером: они были почти одного роста и веса. В результате двухнедельных занятий муж по ночам вздрагивал так, что падал с дивана; все его мышцы, не привыкшие к растяжкам, страшно болели (в юности он был вольником, а эта борьба не растягивает, а закрепощает мускулы, особенно ноги), и ходил он крабом; однако доволен был сверх меры и, скажу сразу, сохранил верность своему первому тренеру, насколько я могу судить, навсегда.
Со мной же вышло вот что: я наконец-то заметила, что все научные поползновения Славиньки весьма прохладны. Ничего этого он не хотел по – настоящему: ни защиты, ни публикаций, и я спросила его об этом прямо. Ответ был тоже прямой: «Знаешь, я и не собирался этим серьезно заниматься; это меня Валера (тот самый мой старший коллега по кафедре, которого я в жизни уменьшительным именем не назову – а со Славой ведь мы ровесники…), Валера уговорил. Напишешь, говорит, что-нибудь, а опубликуемся совместно, мне помощь, и тебе не повредит… У меня тесть в издательстве солидном работает. Я и сказал себе, дай займусь, чтобы потом не думать, что вот, была возможность, а я уши распустил, губы раскатал. На самом-то деле я буду наукой заниматься, когда мне будет за пятьдесят, и из меня будет песок уже сыпаться». (Сегодня я думаю, что он был прав).
Он специализировался в МГУ по романской филологии, знал французский язык, учился в семинаре у Рождественского. По его словам, лишь случай не позволил ему уехать работать за границу. Телохранителем, а не профессором филологии. Украинец, он женился на татарке (в детстве та училась в школе вместе с моей сестрой, а также с будущей женой моего бывшего жениха – грузина, которая сейчас вышла за англичанина и уехала; черт побери, сложно все!), познакомившись с нею на своем московском филфаке, и приехал в Казань. И пошел на работу именно на ту кафедру, которой заведовала моя мама; но она уже оставила к этому времени должность; так эта примечательная личность, каратэка «с судьбой», и внедрилась в наши круги.
Приглядываясь ко мне, Слава раза два заметил: «Вам бы надо заняться каратэ. И сложение, и реакция…» В ответ я сильно смеялась. Спортом я не занималась ни когда в жизни и никаким; то есть, у нас были у рок и физкультуры в школе и в институте, и давным – давно, в детстве, папа учил меня кататься на лыжах… еще я любила бегать и плавала легко; но каратэ?!
Сказав, что члены группы, с которыми Слава занимался ко времени нашего знакомства уже восемь месяцев, летом ушли в отпуск, я забыла упомянуть, что иностранные курсанты из маминого училища, которые тоже в эту группу входили, разъехались не все. Например, вьетнамцы остались, и, кажется, часть европейцев тоже, но их я тогда еще совсем не знала. Вьетнам далеко, туда не наездишься. И многие из оставшихся тренировались у Славы по прежнему.
Как случилось, что я все же поддалась на его уговоры и пошла посмотреть – просто посмотреть на тренировку, как в цирк или в театр? Приманкой стал Фыонг. (Это по – вьетнамски «Феникс»). Он был только что с войны. Рекламная речь повествовала, что в тот день Фыонг покажет на тренировке какие-то специальные, редчайшие приемы против ножа и против пистолета, которых Слава – зеленый настоящий японский пояс – и сам не знал. И вот я частью из любопытства, частью со скуки, пошла поглядеть, что же такое может сделать малорослый и щуплый вьетнамец с вот таким вот американским солдатом, выскочив из родных джунглей, и… Короче, пошла за зрелищем. Еще, помню, вырядилась в цветное платье, вся в браслетах… А Фыонг-то и не пришел. Он в тот день заболел. И я посмотрела обычнейшую, рядовую трехчасовую тренировку с самым худшим, четвероразрядным составом, включавшим моего мужа и того самого Валеру. На них смотреть, разумеется, было нечего, разве что несказанный энтузиазм на лицах. Я посмотрела на самого тренера. И пропала.
Бог мой! И сегодня я помню тот восторг, озарение и страсть, которые тогда поразили меня. Балет – нет, это что-то очень грозное для балета, но так же красиво, и непостижимо изменчиво, и… Словом, это равно самой жизни.
Теперь уже я пала на колени и сказала: «Слава, как ты был прав!! Возьми меня и научи хоть чему-нибудь из этого! Я не смогу теперь без этого жить!!!»
Так началась самая счастливая эпоха в моей судьбе. Это было жаркое, прекрасное лето. Слава отправил жену отдыхать на море, а сам переселился к нам. Брезжил рассвет; мы уходили в соседние лесочки и овраги за грибами. Представьте на минуту ровные невысокие сосенки, на паутинах жемчуга росы, золотые лучи рассвета дымятся и дышат над ними, а из – под низких веток вылезаю на четвереньках я; спина мокрая, в волосах сосновые иглы, как у ежа, а в зубах пакет с маслятами… Потом, дома, мы долго чистим и едим эти грибы, сколько-то отдыхаем и идем смотреть, по слову нашего Учителя, какой-нибудь немыслимый индийский фильм – две серии черт знает чего ради одного удара, например, палкой по коленам. Шестом, я хотела сказать. То есть нет, посохом. Шаолиньским. Потом – центр всего существования, святая святых, трехчасовая тренировка в спортзале. Потом – домой, отдых, музыка обычно, бесконечный чай, разговоры всю ночь, – и шахматы, как ни странно, – я ведь в них непозволительно плохо играю, при всем пиетете. Брезжит утро, пора за грибами… Я не помню, чтобы хоть одну ночь мы тогда спали. Слово тренера было для нас всем: политическим режимом, молитвой и наградой, непререкаемым наказанием и откровением. Дни тянулись, блестящие, пышные и однообразные, не утомляя нас, а все больше наполняя счастьем жизни. Мы везде были втроем, и непонятно, кто сильнее был влюблен в Славку – я или муж. Никогда потом больше мы не жили с ним так мирно, без единой ссоры, как в те полтора года эпохи каратэ, когда мы говорили только об ударах, блоках, ката и кумитэ. Это была наша вторая юность, второй медовый год…
Часто Слава приводил к нам в гости человек по двадцать вьетнамцев, тех самых. Они ходили вместе с нами по грибы (называя их почему-то по – чешски «грубы»). Потом сушили носки на моей ванне. Меры манер они долго не могли нащупать, и то снимали обувь еще на траве перед домом, то безобразно фамильярничали. Вообще-то нет, не фамильярничали. Просто могли попросить, например, взаймы рублей триста денег (сегодня читай – три миллиона) и обидеться отказом. Но впрочем, они были забавные и милые. Конечно, когда с каникул ближе к осени вернулись немцы и венгры, – с ними нам было легче.
Оборвалось наше летнее счастье внезапно. Вечером в августе в дверь раздался звонок, и на пороге возник огромнейший, барственный, милостиво настроенный Добровольский: физик, эстет, диссидент, флагман нашего мировоззрения, властитель множества душ. «Друзья!» – провозгласил он. «Прошу всех на Эфроса!» (У него был огромный цветной телевизор). Я завопила от восторга, а Славка… а Славка потрясающе быстро и просто раскланялся, распрощался и ушел. Позднее, в отчаянии расспрашивая себя, в чем дело, я предположила, что, может быть, мой тон радостного привета, обращаемый к любому гостю – в том случае к Добровольскому – он считал лишь своей привилегией? Ушел он насупившись, это я помню… А может быть, ему просто за два месяца надоело у нас, он все услышал и понял, пошли повторы, он нас использовал полностью… Однако то был еще не конец.
Осенью группа восстановилась. Приехали другие курсанты; в кимоно было непонятно, кто они, какой нации, какого звания. Команды шли по – японски (хотя, должна признать сейчас, не вполне правильно и не во всех случаях по – японски, Славинька – таки смешивал стили); каратэ – не тот спорт, где интересуются кем-то, кроме себя. Наши преподаватели, вернувшиеся из отпуска, сначала покашивались на меня и мужа: птички шефа. Но мы очень старались, а они за лето кое-что подзабыли; кроме того, у нас был все же мощный «ввод», два месяца ежедневных индивидуальных занятий. Постепенно с нами многие подружились. Потом один из этих многих – гимнаст – уехал в Челны, получил там кафедру, а потом и вуз (Толя); другой в четвертый раз женился (Коля); третий купил подержанную машину (Ринат); четвертый стал спиваться с круга… Короче, своим рвением мы резко выделялись среди всех, и нам казалось, что вот – вот Славка полюбит нас по – прежнему.
Не тут-то было… Он стал скрывать от нас часы тренировок; скучливое выражение, все чаще заменявшее былую улыбку, доканывало меня. Но жить без тренировок я уже не могла. Железной, морозной зимой я ушла от него в другую группу… Но это будет уже следующий рассказ. А тогда я необычайно старалась, и у нас с мужем уже стали наблюдаться некоторые успехи, хотя до того звездного часа, с которого я начала главу, было еще далеко, больше года. Помню, перед тем, как начать искать возможность перейти в другую группу, я все же спросила, как называется наш стиль: он был какой-то особый. Ответ был: атомиясаки. Ни до, ни после я никогда не слышала такого слова, и сегодня убеждена, что Славка его придумал на ходу. Такой школы нет. Необычность его стиля объяснялась его фантазией и определенной всеядностью: он включал, видно, и боксерские приемы, и движения из у – шу (тогда мы говорили кун – фу), and what not. (Основа была все же кёкусинкай). Однако словом этим я с тех пор сразила немало наших самородных каратэк. Бог мне судья; его первая заповедь – верь безусловно своему Мастеру.
Итак, я была, насколько могу судить, первой женщиной в родном городе, рискнувшей заняться каратэ. И притом в мужской группе. И к тому же профессиональных спортсменов. И никогда прежде не занимавшаяся никаким спортом. И так далее. Сменив потом еще двух тренеров (об одном из них расскажу ниже, там было смешно), – больше, чем через год, я уже довольно гордо и небрежно пришла на несколько тренировок опять к Славе. Тогда-то и случилось то, что случилось: понаблюдав за мной искоса с полчаса, он назначил тройной удар. Это была вершина моей жизни, ее золотая середина и высший приз.
Приходилось ли мне принимать хоть раз настоящий бой? Нет, конечно, я бы его не выиграла. Но тренировочные кумитэ я любила, боли не боялась, и бывало так, что дома после тренировки я не могла снять свитер: руки так отекали от блоков, что рукава приходилось распарывать по шву и потом опять зашивать. Этим я не горжусь. Это значит, слабые мышцы и с ошибкой проведенный блок. Тем не менее, я прошу учесть, что и во второй спортивной группе, куда я напросилась, не выдержав предательства Учителя, занимались только мужчины. Одно дело играть с мужчиной в шахматы, тут борьба ума и характера; другое дело кумитэ.
Расскажу еще о том, как я попала ко второму своему тренеру. Тут нужна ключевая фигура: это Зуфар Гимаев, художник сельской темы, чудесный колорист, эффектнейшая внешность в раме рыжих кудрей и бороды, мим и каратэка, детский приятель мужа, а впоследствии наш общий друг. Зуфар Гимаев к женскому каратэ относился более чем скептически. Но он занимался в какой-то скрытой группе за городом, в Юдино, а других возможностей у меня не было: на нас уже пошли репрессии, группы разгонялись одна за другой. Вооруженная опытом навязывания своей диссертации, я со змеиной хитростью решила попробовать войти – таки туда, где Зуфар был вторым лицом после тренера, – он был сэмпай, то есть лучший, главный ученик. Когда после общей разминки новичков отделяют от кимоно, первых, черных, берет тренер и три часа до изнеможения гоняет их, например, в дзэнкуцу – дачи. А ветеранов, т. е. кимоно, берет Зуфар. Тут уж настоящее каратэ: бой с тенью (ката) и бой с противником, касание средней степени (кумитэ).
Надо сказать, что кимоно у меня было: подарок немецкого друга. Создался дерзкий, даже нахальный план.
Первый шаг мой был таков: я напросилась поехать с Зуфаром в Юдино посмотреть его тренировку по пантомиме. На это он согласился радостно и бесхитростно. Я понимала, что, завезя меня в Юдино, он будет чувствовать свою ответственность, когда наступит ночь (а она наступит моментально, пошел декабрь). Скорее всего, он не прогонит меня домой одну, а попросит подождать, пока пройдет следующая после пантомимы тренировка каратэ. Наверное, я пробьюсь в здание, где располагается спортзал, и увижу тренера, а там посмотрим. Надо было еще узнать, подходит ли мне стиль и степень нагрузки.
Вся эта первая часть была разыграна мною как прекрасно отрепетированная дома пьеса. Дальше ноты приходилось читать с листа. Стиль оказался шотокан, пояс у тренера, слава богу, белый; группа большая, но она потом, как я уже сказала, делилась надвое. Хоть меня и не хотели пускать «посмотреть», но я со всем возможным смирением в додзё все – таки втерлась. После тренировки все идут в душ. Я вышла в коридор; близилась решительная минута. Нужен был экспромт.
Помогло делу то, что и после тренировки парни шли по ранжиру: первым – тренер, за ним, возвышаясь над его плечом, Зуфар. Я выступила вперед из тени коридора и загородила дорогу.
– Только, пожалуйста, не отказывайте мне с порога. (Голос низкий, контральто, виолончель! Самые биологически релевантные ноты тут потребны).
– Да, что такое? (Это Володя отозвался, тренер; из – за его плеча с немым изумлением взирал Зуфар).
– Я Вас прошу, нет, я Вас просто умоляю: допустите меня послезавтра до тренировки. Пожалуйста! Чем Вы рискуете? Ничем. Вы через двадцать минут можете меня выставить, если я Вам не понравлюсь.
(Немая сцена: Володя считает, что я – девушка Зуфара, и что он безмолвно за меня тоже всем существом просит; Зуфар обомлел и превратился в соляной столб от подобной моей наглости). Володя: – Ну, я не знаю… А Вы занимались раньше? – Я:
– Да, больше четырех месяцев. – Он, заинтересованно:
– Какая школа? – Я:
– Атомиясаки. Всё расскажу. – Он:
– Я не знаю… Ну, я не знаю… А кимоно у Вас есть?
– Есть!
– Ну, я не знаю…
– Чем, ну чем Вы рискуете, сэнсэй? Выгоните меня, в крайнем случае… А вдруг я подойду?!
– Ну, не знаю… Ну, приходите, что ли, в четверг…
Вот так это и состоялось. Зуфар долго не разговаривал со мной: до утра четверга. Вечером, ворча, он заехал за мной, и мы отправились. Излишне говорить, что после общей разминки я встала, – понятное дело, последней – в ряд кимоно.
Зуфар потом простил меня, только обращался жестче, чем с юношами. Чтоб знала. Чтоб служба мёдом не казалась. Подчиненный должен быть трепетен, а провинившийся подчиненный должен всю жизнь прожить провинившимся, на грани между казнью и помилованием.
Всю зиму почти что я ездила в промерзшей электричке в Юдино, вполне самостоятельно. Возвращалась в час ночи; и хотя я была очень довольна, все же эти поездки были трудны и небезопасны. К весне я стала искать новую группу. Таковая обнаружилась в университете; там состояли, в основном, студенты юрфака. Они находились еще на начальной стадии, но импонировало мне то, что тренер ювелирно подходил к технике.
Эпоха каратэ знала потрясения. Как известно, Федерацию закрыли; «неолимпийский вид спорта» подвергся ожесточенным гонениям. «Наши пошли по подвалам», кто мог; занимались некоторые, говорят, при свете карманных фонариков. Мне это все – таки не подходило: я хотела, чтоб был душ; по крайней мере, гардероб; по наименьшей мере – хоть стабильный приличный зал, по которому мне можно было бы ходить босиком. Кроме того, у меня должен был родиться ребенок: год почти носить, год с лишним кормить, болел он в младенчестве тяжко… В занятиях каратэ образовался серьезный, как я теперь вижу, невосполнимый перерыв. Правда, это все еще был не конец: когда Булат подрос, я стала опять урывками заниматься, с разными людьми, в разных условиях, с малым успехом. Последний мой тренер, Эдик Арсланов (дело было в Яльчике), стал одновременно первым серьезным тренером Тимура. К Славиньке Тимур ребенком тоже ходил, но ему это не нравилось. Больше всего он был недоволен тем, что мама с папой так очевидно, так полно и влюбленно заняты собой, а не им. Ему было семь. Когда вырос, овладел своим искусством Эдик (а он сам признавался мне, что триггерный эффект на него произвел еще в детстве мой танец a la karate на сцене яльчинского спортлагеря), Тимуру стало уже семнадцать. Эстафета была передана мною по всем правилам.
Сейчас я помню только чувство непоколебимой уверенности в вечной красоте, силе и юности, презрительное отношение к любому проявлению слабости духа, ощущение превосходства по отношению к daily routine; как мы тогда говаривали: выходишь из спортзала – и тебе на все дрязги на-пле-вать; маленькое – маленькое, большое – большое. Масштаб выравнивался. Никакой мелочи уже не взять над тобою верх. Некоторые «коронные» свои удары и блоки я и сегодня могу провести, но не в бою, а в виде гимнастического упражнения. И сегодня я по – прежнему уверена, что, когда у меня будет много времени, я вернусь к этому главному делу и состоянию, я еще вернусь в счастливую и достойную страну таинственных отважных людей.
А кэнтос на правой руке, думается мне, выдают это мое славное прошлое.
- По берегам блестящих рек
- склонились синие осокори.
- Учись – ребёнком, юношей – терпи.
- Суди – возросшим мужем.
- Советуй – стариком.
- Все Веды в девяти словах.
- Когда же я смогу
- пройти по берегам блестящих рек?
- По берегам тенистых вод
- стеной столпились ели и калина.
- Цветы – весной, кукушка – летом,
- и осенью луна.
- Холодный, чистый снег зимой.
- Весь дзэн в одиннадцати именах.
- Когда же я смогу
- воды напиться из тенистых вод?
- Я не хочу искать и не хочу идти.
- Я знаю тайну: если вам берёза покажется смеющейся и светлой,
- то знайте тоже: (правда, это тайна):
- так светит в миг предсмертный человек,
- сражённый молнией, упавшей с тучи,
- поднявши руки к небесам в экстазе,
- как девушка из лампы Метерлинка.
- Теперь вы знаете. И можете забыть.
- …А клюква недозревшая, как бусы,
- растёт на ниточках среди болота,
- и бело – розовые капли клюквы
- кому-то могут показаться тайной,
- как брату моему из Андижана.
- А в тёплом озерке среди болота
- живут черно – червонные тела:
- все в мягких перьях караси – зулусы,
- как эта Нэнси. А по берегам
- там соловьи поют и ходят лоси.
- Когда же я смогу
- вернуться к берегам блестящих рек?
Глава VIII. У колыбели
Многое в моей жизни исправлено и введено в привычную для людей колею необходимостью воспитывать младшего сына, как многое было сломано неизбежностью родить и поднять старшего. И роли их по отношению ко мне, и структурно наши отношения с ними довольно – таки разные. Родители первого ребенка – нищие, веселые, честолюбивые студенты; родители второго – потолстевшие, важно, медленно выступающие, тщеславные кандидаты наук.
Первенца страшно долго не могли поименовать и все перессорились. Моя англизированная, европеизированная мама желала, чтобы он был Роальд, Ромуальд, Оскар или, на крайняк, Леопольд. Моя наслушавшаяся патриотических, историко – обличительных речей и временно тюркизированная свекровь (каен – ана) предлагала такие имена, как Прозат и Хэплехэт; муж – «королевские» варианты Фархад и Фарук. Тимуром я окрестила сына, аки тать в нощи, ускользнув из дому в четыре утра в загс (потом уже никто не спорил, все измучились). Младшего же назвала Булатом, едва увидела в лицо. Первой беременности я стеснялась до обмороков и часто плакала, хотя она протекала в двадцать раз легче, чем вторая – с обоими токсикозами, психозами и со всеми существующими осложнениями. Первенца мы, неумелые и вдохновенные родители, пичкали огромными знаниями. Сейчас он клянется, что ничего не помнит; а ведь «Гайавату» получил в 4 года, в 9 – 10 утробно хохотал над похождениями Швейка, чего не понять ни мне, ни вообще ни одной женщине; в 12 мы читали извлечения из Экклезиаста и Чосера, а уж Пушкина – ежедневно. Моя мама, с которой он часто жил, и которая вместе с моей сестрой, тогда еще совсем юной девочкой, взяла на себя основную часть его воспитания в раннем детстве, – свидетельствуют, что Тимур больше всего любил чтение вслух, театрализованные представления и шумные игры, много и мгновенно рисовал и радовался домашнему веселью. Наблюдая, с каким отчаянием, трудом и ответственностью он пишет школьные сочинения, каким тонким чутьем слова постепенно овладевает, я прозрела в нем литературный талант, который раскрывается теперь.
Воспитание детей я понимаю как разговор с ними, т. е. так, как мужчины его понимают, судя по социологическим трудам (например, так считает социолог с роскошной фамилией: Ядов). И конечно, с Булатом и говорила, и играла я меньше, чем с Тимуром, и чем это необходимо. Я была много старше, чем нужно, это во – первых; образовательную информацию уже умела дозировать, не «передавая» лишнего; а в – третьих, я стала побаиваться, что если у Тимура и есть несравненная женщина – друг, то, возможно, по этой причине у него нет матери?.. Господи, прости, прости мое недомыслие, если так! Уж второй сын-точно сын…
В итоге Тимур более разговорчивый и открытый, чем Булат; о бедах и радостях Тимура я знаю гораздо больше, чем о скрытой, подспудной жизни младшего, дорогого мне мальчика, тоже талантливого, трудолюбивого, тоже с огромными карими глазами – но взгляд у первенца задумчиво – проницательный, а у младшего печальный. И оба относятся к жизни тревожно. А ведь я только ради них, ради них одних – и иногда ради мамы – делаю спокойный вид, при всяком удобном случае повторяя, что все хорошо.
Все представления о правильной семейной жизни у моих детей от бабушки и тети.
Все представления о неправильной…
Один показательный момент: иногда младший сын начинает со мной по старой привычке «бороться» – какое-то время мы вместе ходили в спортивный зал – и так – таки нешуточно бороться, а вес с ним у нас как раз теперь одинаковый. Все же за счет прежней техники я иногда выигрываю, и он летит на пол. И с полу, смеясь и злясь: «Дурдом! какая мать, такой и дом!» И часто в его рассказах фигурирует образ плохой, неумелой матери и одинокого сына, принуждаемого заниматься не своим делом. Я только надеюсь, что все же он любит меня.
Это не значит, что я никогда не проводила жизнь у колыбели. Я имею в виду, у детской кроватки принципиально бессонного и, как правило, больного ребенка. И если первый сын до года щадил меня, тяжело заболев лишь за день до юбилея, то второй захворал уже в роддоме. Только сначала я этого не поняла…
Расскажу вам, как я видела призрак у его «колыбели» – коляски, заменявшей несколько месяцев кровать.
В «Красном Кресте», куда меня по показаниям откомандировали за две недели до срока, я успела насмотреться на множество ужасов, до того, как Булат появился на свет. Приведу лишь один из немногих, поразивших меня, диалогов акушерок с несчастными: «Женщины, возьмите пеленочку, сядьте в угол на пеленочку!» – «Я РОЖАТЬ СЮДА ПРИШЛА!!» – «А и все-то здесь за этим пришли, представьте! Вы что, не видите, других мест нет?» Или еще: «Женщины, быстро берите газетки и идемте в детскую, мух бить! Ждем инфекции…» Женщины сидели и полулежали в коридорчиках, на раскладушках, стульях… Мы еще не знали, что началась эпидемия стафилококка. Санэпидстанция уже закрыла этот роддом, но Минздрав не закрывал, не было мест.
Словом, боясь инфекции, нас выписывали одну за другой, шитых на живую нитку, с трех – четырехдневными детьми.
Когда моему сыну исполнилось девять дней, я уже готова была умереть от усталости, хотя он был сначала вполне сносный, плакал все меньше, а потом и вовсе стал как тряпочный. Уставала же я от обычного, должного материнского труда.
И вот. Ночь, я иду по длинному, темному коридору из ванной комнаты в кухню и тащу тяжелый таз с пеленками. Справа освещенная ночником стеклянная дверь в главную комнату; наискосок стоит коляска шатром ко мне, в ней спит ребенок. Боковым зрением за полуоткрытыми створками дверей я вижу…
– а вы думаете, при этом не гудит полночь? Гудит. Двенадцать глухих ударов, слышных то ли сверху от соседей, то ли в открытое по случаю лета окно…
Косвенный взгляд говорит мне, что перед коляской стоит, всматриваясь в личико спящего ребенка, вроде бы муж. Только заметно выше ростом и почему-то в ниспадающем темном плаще в пол. Лицо, склоненное, со знакомыми, правильными чертами, как бы тонет книзу в тени, хотя по идее свет ночника, наоборот, должен его ярко освещать. И никогда, до смерти, мне не забыть взгляда тех черных, упорных, неподвижных глаз, будто без зрачков.
По инерции, влекомая тяжестью и усталостью, я пролетела мимо зала на кухню. Бякнула таз на табуретку, тут же обратно в комнату: ребенок спит, темной фигуры нет, муж лежит на диване, невидимом из коридора. Обнаженный, в белых плавках – никаких мрачных одеяний. Спрашиваю: ты вставал сейчас к ребенку? Нет, говорит, я все время тут лежу… Представляешь, говорю, так и так. Галлюцинация. Это все недосып; надо хоть сколько-то отдохнуть… так и стоит перед глазами этот призрак…
В ту ночь сын опасно заболел. Невозможно вспоминать, как и невозможно забыть, как нас возили в «скорой помощи» четыре часа по городу, никто не брал с сепсисом; я уж не упоминаю свое состояние: мне нельзя было сидеть, нельзя ходить, поднимать тяжести… Ха…
Трудно отрешиться от этих почти сорока летних дней 82 – го. Мы лежали в ДРКБ; это все же оказалась пневмония, но на табличке двери значилось: гнойно – септический барак. Потом нас оттуда перевели… Неделю у меня не было своего места, и я жила на стуле у порога его бокса, а когда мне дали койку в материнской, стало еще хуже. Бокс в одном торце, материнская палата в другом. Пока, полуживая, на полчаса провалишься в сон – и в это время заплачет ребенок; пока кто-нибудь разберется, чей он, и согласится дотащиться до нас через всю больницу; пока я, в состоянии очумелости, подхватившись, добегу до него – он уже весь синий от крика, на соске – пустышке муха сидит… О Боже мой… И каждый день мне говорили: «Мамочка, готовьтесь ко всему. Мамочка, готовьтесь ко всему». И каждый день в боксах умирали двух – трехнедельные дети. Ему прокололи весь ряд пенициллина, ампициллина, карбенициллина – состояние стоит, динамики нет… А на цефамезин, хороший такой полусинтетик венгерский, он дал настолько страшную аллергическую реакцию, что колоть его бросили.
Вылечили его, на мой взгляд, содовые вдыхания и купание в корытце с хозяйственным мылом. Я в слезах молилась той женщине – врачу, которая позволила и посоветовала ребенка, несмотря на высокую температуру, просто вымыть. И медсестре, которая помогла мне: налила теплую воду, распустила, как водоросли, в корыте упаковку ваты, и мы потихоньку загрузили малыша в эту мешанину; у него сделалось уморительно удивленное выражение лица, он за десять дней забыл, что это такое, и губы вытянул в трубочку, и глаза огромные раскрыл еще шире…
Смешные эпизоды, говорят, и на войне бывают. Были и в ДРКБ. Например, я очень гордилась, что у него такие глаза, и еще пушистые длинные ресницы. Когда мы освоились с больничным режимом, я потащила его по соседским боксам – хвастать перед бабенками (со многими из них мы познакомились еще в роддоме). Сунула одной из них под нос и говорю: смотри, какие ресницы! Та поправила очки, вгляделась, да, говорит, и действительно… Вдруг еще одна соседка, молоденькая татарка (а там основной контингент был из медвежьих углов, потому что в ДРКБ попадают только с самыми тяжелыми случаями), оттащила меня в сторону и в панике шепчет: «Ты что, ты что?!! С ума сошла?!! Сглазит же!!!» И на Булата плюет: «Тьфу! Ямьсез! (Плохой!)» Отводит сглаз, то есть. Сегодня себя так ведут не только малограмотные деревенские девочки, но и столичные штучки, а тогда было очень смешно.
Помню, что и у меня там, в больнице, считался дурной глаз, и от меня прятали детей, рисовали им, если случайно пристально взгляну, на лобиках пятна губной помады, пришивали на чепчики веточки черемухи.
А однажды прихожу в материнскую, – бабы хихикают смущенно, потом одна говорит: что это тут у тебя за крем такой странный? Мажем, мажем, не втирается… Эти дурочки жуликоватые улямзили из моих вещей мягкий синтетический тюбик с чем-то, а надписи иностранные, неизвестно, с чем; наудачу употребили как крем… «Эх вы, – говорю, – бестолочи, хоть бы спросили поначалу, что, мол, в этой банке, что в том тюбике, а потом уж и сперли! Это шампунь, хорошо еще, вы зубы не взялись им чистить!»
Словом, что-то человеческое и в той жизни было, конечно, но в целом – детская больница это ад. Настоящий.
Общая характеристика состояния материнства – хроническая бессонница, горящие, изъеденные веки, провалы сознания, отчаяние при первых звуках кряхтения и попискивания из кроватки, и отчетливое желание, когда крик – вот он, уже стоит, состоялся, – упасть в этот имеющий вид символа бесконечности орущий рот и умереть навсегда.
Двадцать с лишним лет детских болезней, лекарство по часам, безденежье, страшное ежедневное – чем кормить, чем кормить, чем?.. На работу – как вор, в командировку – как бандит, в ИПК на 4,5 месяца – как убийца. Сесть за пишущую машинку, в злобе захлопнув все чувства, все угрызения совести – противопоставить себя всему святому и доброму, что есть в этом мире, бросить сатанинский вызов всем порядочным людям на свете, изнасиловать единственно подобающую, правильную и высокочтимую традицию Kueche, Kinder, Kirche. Опять униженно молить вечно хворающую маму: я на три денька только, на три – четыре денечка в командировочку… я больше не буду… И видеть, возвращаясь, что тебя не узнает твой первенец; чистая душа, искренний задает вопрос: «Ты мама?» – «…Да…» – «Ты из Москвы приехала?» – «Да, Тимурик…» – «Больше не поедешь?» – «…» (Что сказать? Книги-то по семиотике – все в Ленинке и в Иностранке…) Ни разу я не могла себе позволить уйти в декрет: деньги были нужны. Точно по слову матери, I am a bread – winner for my family. And had always been. Но это не считается на Страшном Суде; взыскательный судья такое не посчитает за подвиг. А вот сколько раз ты бросала детей на бабушку, дедушку, юную тетушку? Сколько недодала еды, питья, не купила ботинки с рисунком зайца, недоиграла, недодарила, недотерпела, недосидела рядом?
Mea culpa noch einmal…
Я говорю это довольно – таки искренне. Раз один мой любимый друг, мудрый и тонкий, тогда совсем молодой еще человек, сказал мне: Эмилия, долг наш перед родителями столь велик и неохватен, что у нас никогда не будет возможности вернуть его. Он неоплатен. Поэтому честь человека состоит в том, чтобы все, что ему дали родители, вернуть детям своим, то есть такой долг отдается вперед, а не назад. Мы все, все люди, скорбим, что не смогли отдариться; единственная возможность перед богом – возвратить полученное нами – сыновьям нашим. Тоже безо всякой надежды когда-нибудь слупить с них отданное под проценты: просто отдать, и все. Вот что такое мораль. (И вот каковы восточные, умудренные древней мудростью парни, ведущие свой род от Урарту!)
Еще изумительный по красоте самородок: моя мама в детстве имела крестную. У той были еще и свои, физические дети. Этой самой крестной приписывается следующая фраза: «Я, конечно, объективная мать, но я же вижу, что мои дети лучше всех!»
Вы понимаете мою аллюзию?
При всех недочетах воспитания (в смысле – вспитывания), пороках обучения, просчетах образования, – итог-то вот он: как честный человек, я же вижу, что мои дети лучше всех! А что они, по – вашему, так – таки, как саксаулы, сами собой выросли? Определенное участие мое в этом деле есть.
К слову сказать, я никогда не сумела бы воспитать девочку, дочь. Понятие «ребенок» для меня тождественно означает «маленький мальчик».
Когда я, раздумывая в одиночестве, совершенно серьезно начинаю сомневаться, плохой я человек или хороший, – не в том смысле, что я в гостях краду серебряные ложки (Бен Джонсон: if he says he doesn't know the difference between virtue and vice, why, sir, when he leaves our houses, let us count our spoons) – а в высшем этическом значении того, что есть добро и зло – я говорю себе: Посмотри на своих сыновей. И все поймешь.
Я хороший.
А когда Ренат слышит мои ламентации по поводу наследника, – что вот, мол, каков Дон Жуан, и сколько еще оставленных им девочек (и не только девочек, но и деточек) будет у меня на руках плакать, а он уже где-то на пантомиме с новой, – муж лаконично отвечает: «Твой сын».
Глава IX. Только истории
- Cras amet qui numquam amavit,
- Quique amavit, cras amet.
- Полюбит досель не любивший,
- Тот, кто любил, вновь полюбит.
Никаких эпизодов; на эпизоды времени не хватит. Называю только истории, и только экзотические или необычные.
Джорджи – бой, одна из первых историй.
Мы входим с кузинами в какой-то дощатый клуб маминого училища, вместо Дворянского Собрания. Здесь должна быть праздничная дискотека. Сразу же навстречу миловидный, стройный, курносый, с разноцветными глазами, военный мальчик. Нараспев: ой, дивчата, и зачем вы сюда пришли? (Прийшлы?) Ничого здесь хорошего немае… Мы, робко: мол, потанцевать вот думали с курсантами… Мамы прислали… А – а, потанцевать давайте потанцуем.
Джорджи – бой – самое давнее и постоянное моё… увлечение? знакомство? противостояние? дружество?
Мне было лет семнадцать, но я уже совершенно твердо знала, что должна идти собственным путем, а не по обочине чужой дороги. Поженись мы, – и высекали бы искры лет шесть, а потом расстались. (С месяц назад он мне так и сказал: была б ты моей женой, я б тебя вообще убил). А так – чуть ли не тридцать лет мы хорошие друзья. Я права, мне нельзя было замуж за военного. Это мои кузины очень хотели, да мама, да тетя. (Впрочем, как выше говорилось, вряд ли мне вообще нужно было замуж. Для меня нет подходящего мужчины, говорю об этом с печалью).
Когда-то он еще раз, уже не трагично, а просто тоном выговора, сказал: эх ты, плохо разве было бы?.. Возил бы тебя в университет каждый день… О деньгах вообще никогда бы не задумывалась, холодильник всегда полон, отдыхать – куда хочешь…
Совершенно серьёзно и в последний раз я объясняла: да, Жорик, я об этом не спорю. Велика сила денег, и ты победитель, твоя жизнь удалась. Есть и ещё одна власть – господство кресла. Связи. Чины. Это тоже большие, особые возможности. Однако пойми: есть ещё и третья власть, невидимая, но сильная. Я человеческих душ хозяйка. Духовная власть. Это я. Не зови меня больше в чужую степь; деньги и связи – не надо мной, а рядом со мной.
И я могу идти только своей самостоятельной дорогой.
С тем и расстались; а дружить не перестанем.
Сейчас подберу только действительно красивые и необычные имена (истории же за ними самые разные, в том числе и одиозные). Виорел, Гайоз, Ионел, Грайр, сын Огненного Глаза. Амиран, Роберт, Зури, Омар, Руфо Андрес… Харри, Луис Анхел… нет, Амиран и Луис сюда зря попали, это эпизоды. Тармо – нет, Тармо и Виорел действительно только имена. Лео… No es tan fero el Leo, como le pintan. Сейчас мы с читателем заблудимся.
Заблуждений не надо. Герои самых серьезных драм, ради которых я собиралась бросить свою жизнь и начать новую, – Гарик (Грайр) и Руфо. Оба раза я хотела уехать вон из России – и оба раза оставалась, и не по своей, а по их воле. Что-то неправильно складывалось в правильнейшей, простейшей геометрической фигуре – треугольнике. Жалею ли я? Конечно, жалею! Однако теперь уже – «не волнуйтесь, я не уехал. И не надейтесь, я не уеду». Я ведь рассказывала вам о Парне из преисподней? Нет ещё? Ну, потом, попозже.
Если читать и апологизировать мою жизнь именно в избранном здесь аспекте, то на сегодняшний период я талантливо веду роль Домны Платоновны, лесковской Воительницы; в особенности удается последняя сцена, и кто услышит моё исполнение, будет потрясен до навзрыда, ставлю что угодно. Однако не надо об этом больше. Довольно. Довольно, довольно, где моя заговорка?!
- Aquila non captat muscas.
- Изредка разве, по простоте.
А начало устойчивых представлений о верной любви – судьбе было положено в детстве. Они были, разумеется, книжными. Но когда я училась во втором классе, во всех кинотеатрах страны пошел фильм «Человек – Амфибия» с дочерью Вертинского Анастасией и никому неведомым Владимиром Кореневым в главных ролях. Я посмотрела его восемь раз кряду (впрочем, куда мне до мамы, смотревшей «Большой вальс» 26 раз – лента оказалась для нее судьбоносной, мама под этим впечатлением пошла на английское отделение инфака). История Ихтиандра и Гуттиэре («Гутьеррес») навсегда определила мои представления о любви, ее драме, о декорациях, – белый город на южном море, – в каких должна протекать эта неимоверно прекрасная и печальная любовь с трагическим концом. С тех пор и до этих пор я влюблена была в Ихтиандра, и если встречаю похожего юношу, добром это не заканчивается. Заканчивается печалью…
Лучше передам всё в стихах. Вот перевод с румынского:
Ион (Нелу) Вэдан.
- Небо рассыпало звёзд вереницы,
- Матери голос в вечерних ветвях.
- Да, умирают в неволе птицы,
- И безнадёжность в моих словах.
- Скосит отец меня вместе с травой,
- Унесёт меня в дом на холме,
- И заплачет на листьях цветок дождевой:
- Это дева грустит обо мне.
- И сестра меня с зёрнами пашни
- Бросит в солнечный диск золотой.
- Но в словах моих песен вчерашних
- Я останусь, всё тот – и иной.
По – румынски это, конечно, гораздо красивее. Нелу учился в Клуже, мы познакомились летом 1970 года и тут же расстались: я не представляла себе тогда брака с иностранцем. Потом пошли наши «иностранцы», советские.
- Вновь и вновь, – о, в который раз!
- Закипает мое волненье;
- Вновь рождает в душе смятенье
- Взгляд горячий царственных глаз.
- Жребий брошен и выбор сделан.
- Мотыльком лечу на ладонь,
- О мой мудрый и пылкий демон,
- Негасимый темный огонь!
- Я на суд тебе отдаю
- То смеясь, то гордясь, то тоскуя,
- Очарованную и хмельную,
- Изумленную душу мою.
- Снова слышу безмолвный приказ,
- Обещание сладкого плена…
- Да ведет меня в бездну, в геенну
- Взгляд горячий царственных глаз!
- …И снова ложатся привычно на струны
- Простые слова безыскусных песен.
- Наш призрачный мир невелик и чудесен:
- Теней полумрак, колдовских и прелестных,
- Шуршит парусами над маленькой шхуной.
- …И снова приходят витой чередою
- Канцоны, созвучья, трезвучья и терции;
- Проникнув в тебя, они станут тобою,
- Твоею любовью, твоею бедою,
- Дав имя тому, что живет в твоем сердце.
- Заглянет рассвет в голубую лагуну,
- И в день мы уйдем, закусив свои губы,
- Уняв свои слезы, скрывая бесчестье…
- И снова падают навзничь на струны
- Глухие слова исступленных песен.
- Нас преследовал холод и дождь.
- Лихорадили солнце и снег.
- Белокурый Орфей, это ложь
- Исказила твой ласковый смех.
- Это ран разрастается боль,
- Отравляя вино наших встреч.
- Безысходная, горькая речь
- В серый круг заключила любовь.
- Это слезы залили мой след.
- Это вянут сухие глаза.
- Снова дождь, снова дым сигарет.
- Знаю все, что ты хочешь сказать.
- О, запомни, Орфей, уходя:
- Ты уносишь не только любовь.
- Истекла, расплетая покров,
- Моя юность под знаком дождя.
Конечно, много стихов о природе: календарь своеобразный.
- Трагичен ноябрь и жалок ноябрь.
- Слезится, кривится, источен дождем.
- И мне тяжело, безысходно, но я бы
- Сказала: «Утешься, еще подождем.
- Свой дух укрепим, если сможем. Поверим
- Во встречу под сводом сиреневых туч.
- О, как нестерпимо блеснет над галерой
- Свободу дарующий солнечный луч!»
- Еще я сказала бы: «Небо разлуки,
- и тусклый белесый осенний туман,
- и дождь из – за снега, унылые звуки,
- бессильный осенний ноябрьский роман, —
- Все будет разорвано, взорвано, смято.
- О, как нестерпимо блеснет из – за туч
- Морозный, стальной, золотой, полосатый,
- Несущий спасение солнечный луч!»
- Сказала б еще я… Да некому слушать.
- Сии излиянья упали в цене.
- Ни друг, ни подруга, ни муж равнодушный…
- А есть ведь чудачки – завидуют мне!
- А что я имею из всей непомерной
- Вселенной, встающей зарей над лицом?!
- Ривьера, триера, террарий, вольера,
- Морковка, поилка, цепочка с кольцом.
- Приходит темно – белый вечер.
- Декабрьский сон, не беспокоясь,
- не суетясь, не быстротечен,
- возьмет за пальцы и за пояс,
- потянет к вечности диванной,
- погасит жизни красованье…
- Какие гости? Это странно.
- Какие книги, песни, знанья,
- стихи, поездки, дети, званья,
- зачем все это? – tutto sanno,
- e nulla fanno.
- Восторг, простор, воздел, простёр,
- молитвенно на кочке замер;
- зиме конец, полей венец,
- скворец над полыми снегами.
- На первый скромненький пикник,
- через овраги напрямик;
- вздох углублен и взор смягчен,
- лоб вешним солнцем облучен.
- Озон, плэнэр, предел, мой друг!
- Ты на холме в экстазе замер;
- И dolce far niente в круг,
- И ни души перед глазами.
- Послезавтра июнь, а сегодня, вчера, и третьего дня,
- и четвертого дня, и неделю, и больше того
- Войско сизое туч планомерно, волна за волнами,
- продвигается быстро туда, где в хорошее, помнится, время
- по утрам занималась заря.
- Черно – ртутный подбой, серо – синий подзор
- создают впечатление принарядившихся к бою
- наемников.
- Смертной сыростью каждый сустав уязвлен человеков,
- дрожащих от ветра.
- Снег склоняет цветущие крылья акаций
- скрести по асфальту,
- Снег туманит и свадебный глянец розеток на вишнях и сливах,
- и стекло ветровое на трассе.
- Чистым градом немелким сечет
- по хвосту и по вздыбленным перьям
- бегущей пешком с паническим воплем
- вороне.
- В цепенеющих мыслях
- кое – как созревает удовлетворительный тезис:
- Обратите внимание,
- Весь этот возмутительный проект конца света
- Именуется захватывающе – романтическим словом
- «мистраль».
- Самая длинная ночь налетает на дрогнувший город.
- Черно – сапфировый склон, синие кони в огнях.
- Черно – фиалковы кудри возничего грозного Норда.
- Черно – жемчужная цепь, бело – серебряный след.
- Ширится рев победительный страшного ветра.
- Неумолимый поток, аквамариновый блеск.
- Обсидиановым перстнем украшена пясть беспощадной.
- Всяк, кто увидит его, оцепенеет навек.
- Двуослепляющий челн полумесяца ветром относит.
- Линзами слез ледяных взгляд нестерпимо разъят.
- Слева морозным кристаллом застыл Орион благородный,
- Ярко и люто горит справа звезда Люцифер.
- Случайных друзей замыкаются руки
- Средь тьмы новогодней в кольцо – оберег.
- Его стерегутся и навьи, и духи;
- В кромешном миру беспокоятся звуки,
- Лепечут, роятся, ложатся на снег.
- Искрится, не жаля, огонь из Бенгали,
- Легчайшие иглы и звезды пестрят;
- Двенадцать ударов из купольной дали
- Сюда подлетали, сюда подлетали,
- Сюда долетали из бронзовой дали
- Двенадцать ударов подряд.
- Пора: пожелайте всего, что хотите!
- Друг первый, меня с этим годом поздравь!
- Смотрите, как светится наша обитель,
- И лодьею месяц скользит по орбите,
- И кругом земным простирается правь.
- Любые хотенья, любые моленья
- Сегодня сбываются в чудной ночи.
- Над навью и правью надежей и явью
- Воздвигнулся вечный хранительный щит.
- Всеблагий правитель небесного круга!
- Всем сердцем молю: свою милость яви,
- И милому другу пошли Ты подругу,
- Даруй ему верную, Боже, супругу,
- Не дай ему, Боже, прожить без любви!
И вот в другом стиле (это было на Яльчике).
- Оставь меня, печаль.
- Скажи сама себе: «Не плачь, малышка».
- Или лучше: «Дорогая,
- не плачь». Не ожидай, что кто-то сладкий
- все это скажет сам, чтоб ты не знала слез.
- Осталось все в лесном фанерном доме.
- Опасно стиснет сердце
- при вспоминаньи чудном отведенных
- гардин – завес и двери отворенной,
- и очерка, что станет в раме двери:
- тот силуэт, та поза ягуара,
- и кудри черные, и нежный взгляд мальчишки,
- не знавшего ни тонких, мудрых мыслей,
- ни хитрости, ни лжи, ни игр мужчины, —
- то воплощенье хитрой, лживой силы,
- игра самовлюбленной красоты.
- Оставь меня, печаль!
- Оставь, мне легче: на вершине вздоха.
- Да, едкая вода в глаза зальется,
- когда попробуешь взглянуть вокруг, нырнув…
- Да, нежная вода разляжется вдали и в берегах
- глубоким черным зеркалом рояля
- концертного под светлым лунным диском,
- под недоступной золотой луной.
- Оставь меня, печаль, а ты – вернись,
- Вернись, не исчезай, упрямый Мастер!
- Я помню ночь: мой сын, твой друг и лодка
- неслышно, тихо, слышно, слышно плещет,
- твой голос нас зовет из – за протоки,
- нас скоро переправят в дом озерный,
- и вдруг, все звезды побеждая некой жизнью,
- неповторимым и нерадостным гореньем,
- прошла нацеленно прекрасная комета
- безостановочно сквозь Млечный Путь…
- Оставь меня, печаль!
- Я проведу тебя:
- Я буду думать, что уже не жду,
- а потихоньку все же буду ждать,
- и обману и случай, и закон
- самой судьбы:
- Да, вот увидишь, подлый бог,
- что я его дождусь!
Вот еще про Яльчик.
Это японская танка, философская.
- Ты был здесь счастлив.
- Потом несчастлив.
- Потом немножко счастлив.
Оказывается, не танка, а хокку. И не хокку даже, потому что в хокку в первой строке пять слогов, во второй семь, в третьей снова пять. Ну ладно, как сказалось, так и живет.
Вот еще стихи разных лет.
- В ту светлую седмицу мая,
- Отгородясь от внешней тьмы,
- Полу – резвясь, полу – страдая,
- Игру в венчанье вили мы.
- Но тише, ш – ш, наденем маски…
- Храни серебряный секрет
- И шелест, шорох, шепот сказки…
- Я не нарушу свой обет,
- Клянусь молчанием созвездий,
- Клянусь серебряной луной,
- Шампанским, шоколадом, Шеззи,
- Шираито и тишиной, —
- Я буду жить в обьятьях эльфа,
- И смех, и гнев людской презрев!
- Рок, случай, знак, оракул в Дельфах,
- Семерка, тройка, дама треф.
- Когда ты ушел, над разливом души
- Пронесся ли вопль, иль аккорд многогласный
- Страстей раздирающих, мыслей больших
- И малых надежд, и страданий напрасных.
- Пронзительной нотой всех выше взвилась
- Обида и ненависть, режущий звук.
- За ними презренье: «Дерзайте, мой князь,
- На приступ! На птичник! Смелее, мой друг!»
- А в среднем регистре – насмешки мелизм,
- А в нижнем – унылого смысла сарказм.
- Ну что ж, Мессалина, давайте без тризн.
- Давайте забудем, что значит оргазм.
- А в контроктаве, как пение гор,
- Как рокот ночной, прозвучал приговор:
- «Сказали мне, что та дорога меня приведет
- к океану смерти,
- И я с полпути повернул обратно. С тех пор
- все тянутся предо мною кривые, глухие,
- окраинные проселки».
Вот стихи, которыми я больше всего в жизни горжусь. Они сделаны из писем Франца Кафки к своей возлюбленной, Милене Есенской. Только я пишу наоборот, от женщины к мужчине.
- Твоя рука
- покоится в моей руке.
- Так будет до тех пор,
- пока ее ты не отнимешь.
- Как мне ответить
- на твой вопрос?
- Ведь не в письме же?
- И не в стихах?
- Вот если мы
- (А в небесах гудит,
- как исполинский колокол:
- «Тебя он не оставит».
- А в двух – трех комнатах,
- и ко всему – в ушах
- звенит другой, поменьше, колокольчик:
- «Он не с тобой. Его здесь нет.
- Он не с тобой».
- А я люблю – но не тебя, гораздо больше:
- Тобой дарованное бытие.
- И лишь одной возможности в нем нет:
- непостижимо – но ее здесь нет:
- возможности того, что ты сейчас
- войдешь и будешь здесь), —
- вот если вскоре
- увидимся мы в Вене, —
- нет, не в Вене, а в Праге, нет, не там,
- а в Братиславе, —
- нет, – конечно, в Вене,
- увидимся, то я наверняка
- тебе скажу. Но только не пиши,
- прошу тебя, ах, не пиши мне больше,
- что ты приедешь в Вену: ты же знаешь —
- я не приеду, но твои слова
- как маленького пламени язык
- неотвратимо к оголенной коже
- прильнувший – да, но где ты, где ты?
- В Вене?
- Но где это?
- А, знаю: это там,
- где на перроне Южного вокзала,
- за Laerchenfelderstrasse – мы прощались…
- Твое лицо, явление природы,
- померкло не от туч, а изнутри.
- Прикосновенье губ – не поцелуй,
- но лишь беспомощность
- всей беспредельной жажды…
Еще: Thomas Dibdin/Emi Tajsin, сделано оно из прекрасных насмешливых стихов другого поэта.
- Old Emi was as brave a girl,
- As ever graced a martial story.
- Rene was fair as a rare black pearl;
- He sighed for Love, and she for Glory.
- With her his fate he meant to plight,
- And told her many a gallant story;
- Till war, their coming joys to blight,
- Called her away from Love to Glory.
- Old Emi met the foe with pride;
- He followed, fought! – ah, hapless story!
- In black attire, by Emi’s side,
- He died for Love, and she for Glory.
A это посвящено Руслану, чудному, талантливому и загадочному.
- I hold a glass of sweet champagne.
- Sun beams on snows of my domain.
- I sing of love, I live again;
- Here’s to my darling Valentine!
- Black beard enthroned on his pale cheek;
- His dome – like forehead’s always bleak;
- Dark clothes close the shape unique
- Of my misterious Valentine.
- His whisper flls the soul of mine;
- His manner shows the grace divine;
- His mind is deep like solemn brine;
- Here’s to my pious Valentine!
- He knows the art of high debate.
- In sacred texts he does his bathe.
- God in His mercy gave him grace,
- And he’s the lover of the Fate.
- Let’s drink a health to him who tried
- The charms of Charm, the chains of Chain,
- Who has endeavoured all the might
- Of spell, and Gospel, and refrain.
- This winter day has golden rim!
- I raise my glass to skies above,
- And I drink my champagne to him,
- And he will drink his one to Love.
- For he’s a poet on the brim
- Of old sophisticated Time.
- I think of him and sing of him;
- Here’s to my noble Valentine!
Вобщем, раньше все стихи были либо о природе, либо о любви. Основная дихотомия – очарование – разочарование.
- «Love me tender, love me sweet», —
- Chirps the golden parrakeet;
- «Love me little, love me long», —
- Warns the wise precautious song.
- I don't care a hair for these,
- I have never prayed for peace.
- I will sing another song:
- Love me short but love me strong.
- Oh boy, why treat me like a saint?
- Release me of your pious love;
- My manners are by no means quaint;
- I do not beam from high above,
- I cannot dance upon my toes,
- I cannot play the harp or fute,
- I do not pardon all my foes,
- My tune is shameless and acute;
- No angel dwells in my brave soul:
- He’d be afraid of eagles nest,
- Afraid to touch my anger’s bowl,
- Or dare touch me while I rest.
- Ambitious, arrogant, and stern,
- I never laugh when I am glad,
- I never cry when I am sad,
- I laugh and cry to gain concern.
- Oh boy, I’ve never loved a man
- For more than two years and a half;
- Like treacherous Mab, I always plan
- The ending act, the bitter laugh,
- The parting scene, the painful moarn,
- The heartquake, earthquake, skyquake roar,
- The tears unshed, the words unborn,
- The curse unbreathed, the slamming door…
- Oh Gods, ye sacred and ye great!
- Oh Cyprid sweet in pearly shell!
- Do teach this boy to separate
- Wise mortal woman from yourself!
- Break down the apparition wraught,
- Don’t make me go through inward change!
- Just leave me to my happy lot:
- To choose, or drop, or to revenge.
- Child, do not treat me like I be
- The Highest Being shaping lives!
- Oh boy, and don’t you realize
- That you’re thus shaping slave of me?
- My faithful youth, I feel like caught
- In silken net by gentle hand;
- For human can betray his God,
- And God just can’t betray his man.
- How overwhelming, strange, and plain!
- My loyal Knight has fallen in Love.
- Who could believe I’d feel the pain
- When he embraced that gentle dove?
- When he pursued that cunning nude,
- Who could believe I would be hurt?..
- I do not play the harp or fute,
- So let my violin now be heard.
- And every soul that knows me well,
- Knows well the passion of my will!
- Same tune Orpheus played in hell
- Descending down Elysium hill.
- Ambitious, arrogant, and blind,
- How dare you come before my eyes?
- Just spare me of your sharp replies;
- I dwell the world you’ve left behind.
- Take your Martini and cigar,
- Keep your guitar and hold your sword.
- Now you’re experienced, brave, and taught,
- I’ve made of you the one you are.
- I’ve been a farmer to the weed;
- I’ve played a priest throughout three shifts;
- And who has made your shape complete?
- And who has kindled all your gifts?
- Who has revealed your power of thought?
- Who’s welcomed every grandious plan?
- Who’s taught you to behave, and court,
- And love a girl, and be a man?
- I combed your hair and gave you bread,
- Taught you to sing when you’re in grief,
- To weave the rhymes, and to forget,
- And to respect, and to forgive!
- You offered me your hand and heart;
- I knew you boasting, lying, mad,
- I saw you struggling, crying, sad,
- I heard you swear we’d never part.
- You broke your word, but I will not
- Deprive you of my helping hand.
- For human can betray his God,
- Yet God just can’t betray his man.
- Он, сидя в кресле у камина,
- Письмом задумчиво играл.
- Шотландский вечер тучи гнал,
- Вился вуалью вечер длинный;
- В затишье бархатной гостиной
- Огонь трещал и обмирал.
- Письмо гласило: «Господину
- Джакомо Россо, в замок О.».
- Свивался в тучу вечер длинный,
- То спал, то пел брегет старинный,
- Луна металась высоко.
- И призрак, житель Южной башни,
- Король кровавых дней вчерашних,
- Неслышно с галереи плыл;
- Скользнул, снимая меч свой страшный,
- В овал гостиной – и застыл.
- В письме стояло: «Друг Джакомо,
- Оставь печальный свой приют.
- Твоё несчастье мне знакомо,
- Но по ушедшим слез не льют
- По стольку лет, вдали от дома;
- Вернись к друзьям в страну твою!
- Абруцци шёлковое небо
- И ток фалернского вина
- Печали утолят сполна.
- Давно, давно ты с нами не был!
- Год траура испив до дна,
- Очнись, веселье – не вина!
- Нам жизнь для радости дана.
- Жена твоя погребена,
- Возврата нет, его не требуй!
- Да снийдет в сердце тишина.
- Красою итальянских дев
- Спасен ты будешь, друг любезный!
- Камзол и домино надев,
- На карнавале, под напев
- Веселой лютни, ты из бездны
- Тоски и пени бесполезной
- Вновь воспаришь, сменив удел,
- И сняв со лба венец железный!»
- Круг замка, в северных горах,
- Выл ветер, снег метя и прах.
- На резком профиле медальном,
- На лбу высоком, на висках
- Сгущались тени… Отзвук дальний
- Лился и плыл со всех сторон;
- То небо источало стон;
- Но в замке правило молчанье.
- Легли драконы на коврах.
- Всё цепенело. Крался мрак.
- …Почил ноябрьский вечер длинный.
- Портьеры дрогнули слегка:
- То призрак вышел из гостиной,
- Забрав свой меч. Тогда картинно
- Взяла бокал с доски каминной
- Прекрасно – бледная рука.
- …Вотще заботливые духи
- В тревоге сервируют стол:
- Милорд на ужин не пришел.
- Вотще невидимые руки
- Бодрят постели томный шелк;
- Напрасны тихих песен звуки;
- Мы в горе к утешенью глухи.
- Милорд и в спальню не пришел.
- И привидение сердито
- По галерее пролетев,
- На духах выместило гнев:
- Рассеялась нагая свита,
- Огромных башен не задев.
- Когда же лунный месяц минул, —
- В Восточной башне, у стены,
- Жил новый призрак. Щит луны
- Блистал над зябнущим камином,
- Не покидая вышины.
- Здесь мира нет – и нет войны.
- …Когда с подножья, от деревни,
- Звучит двенадцатый удар, —
- Обряд поддерживая древний,
- Два короля, и юн, и стар,
- Вия пурпурных мантий стяги,
- Презрев неверный, бренный мир,
- Сближают кубки темной влаги,
- Безмолвный начиная пир.
- Ах, лучше никогда, чем поздно!
- К чему теперь ты мне, бедняк?
- Зачем июнь, медвяный, росный?
- Зачем свободных два – три дня?
- Зачем мне в двадцать лет игрушки,
- А в тридцать – юные пажи?
- А в сорок – золото не нужно,
- А дальше – хоть бы и не жить.
- И запоздалые награды
- Я не желаю примерять,
- И людям на смех мне не надо
- Смотреться ягодой опять.
- Скажи, давно ль ты стал философ?
- По – моему, не так давно…
- Вот миражи видений пёстрых,
- Концептуальное кино;
- Звон комариный и астральный,
- Пульс фигуральный у висков…
- Легко хвалить жару Австралий,
- Июнь прожить не так легко.
- Сегодня всё мне мнится странным:
- Свеча мерцает и двоит,
- Молчанье кажется обманом,
- Дымится пепел, ядовит;
- Свисает тень, склонившись низко,
- Устало не сходя с поста.
- Арабской вязью стал английский,
- Арабской вязью русский стал.
- Тьмой фиолетовой с востока
- Влечется ночь на свой закат.
- Подходит сон, изящный, строгий, —
- И мимо вновь, наверняка!
- Зарю пропев, умолкло сердце.
- Остыл изысканный мундштук.
- И как пророк над иноверцем,
- Воздвигся неба полукруг.
- Простерлась Эос – невозбранно
- Уестествляемой Лилит…
- Болит поверхностная рана,
- Глубокая – не так болит.
- Hey, hop! From branch to branch, from tree to tree!
- How nice to travel in the morning light!
- What grace to feel that you’re agile and free!
- And ain’t my hopping – leaping like a fight?!
- Hey, ho! You people of my native woods!
- Out of your holes, let’s play – and – hide – and – seek!
- Mice, hares, and moles, see how my tail protrudes!
- See how I dance and laugh and tease and squeak!
- I crack the nuts and hide the mushrooms brown;
- I thread the beads of berries and of buds;
- I don’t care much if they be lost or found;
- It’s not the work of need, but of fne arts.
- So long a day, so short a life, my Lord!
- (See I’m no stranger to some serious talk!)
- My vast eternal sea of rustling load
- Lies wide and wavy up to sentry oak.
- But then, oh hush, my humble, and behold:
- Outside the forest sleeps the desert red;
- And, far than that, a mighty rock and old
- Like frozen thunder, bears its peaky head.
- Charmed and entranced, I watch the clouds foat by,
- Half scared, half anxious, eager and obsessed;
- And, on the crowning peak, the highest high,
- I recognize the Saturn – shaped black nest.
- The sunset backcloth burns with magic fre
- Of ancient signs no living – thing can tell.
- Unable to submit or to retire,
- I witness nature ready for the spell.
- …And lo! The light is swiftly fading down;
- The blistful Imdugood spreads whirling wing;
- Across the sky fies roaring silence sound, —
- And here comes His Majesty the King.
To Rev. Igor Tsvetkov
- You know I never pray aloud.
- I hide my hope and faith.
- And when I see a singing crowd,
- Blush comes into my face.
- You think me wrongfully acute,
- Because You heard me tell
- That shower and perfumes substitute
- Me soul and spirit well.
- I know I am a sinner, since
- I doubt Our Father’s might;
- And showing no concern just means
- To show «folie» and spite.
- You sealed me with severe look,
- And I grew weak and meek.
- A royal King of Eagles took
- A fy – away from me.
- Now I’m alone, alone again,
- A doll with broken heart.
- You still believe I cannot pray?
- That’s why You set apart?
- Now see me knealt from high above!
- You’ll hear from down below:
- «Oh, take me to your arms, my love,
- For keen the wind doth blow!»
- Мне волхвовать в коричневой пустыне,
- Корой укрывшись светлой бересты.
- Мне неотступно думать: где ты ныне,
- Меня ль еще воспоминаешь ты?
- Мне воевать с тупые злые бесы,
- И под шелом увязывать власы.
- Тебе воссесть архангелов одесно,
- Следить с восторгом райские красы.
- А в этой жизни, предков чтя обычай,
- Тебе сберечь седую старину,
- А с поля брани захватить добычей
- На час утех ногайскую княжну.
- Защитник, страж, певец родных пристанищ!
- Сим прорицаю: купно с Неиным
- Ты явишь правду, сам же ею станешь,
- Ты будешь счастлив счастием земным!
- По таинстве венчанья, как к святыне,
- Навечно ты прилепишься к жене…
- Мне уходить. Так не рыдай же, сыне,
- Во гробе зряще, не рыдай мене!
- My Lord the Carpenter, behold
- The plea of mortal soul!
- In days of sheer youth I was told
- This story as a whole:
- There once had sprung a tragic love
- Between a lightning white
- Dispersing fres from high above,
- And river, fowing wide.
- The River marveled at the show
- Of sparkling, dazzling spears;
- And he refected them below
- And mirrored radiant spheres.
- Slow waters sparkled in delight
- Or ran in thousand springs;
- The mighty River watched the lights
- That trembled on the strings.
- The Lightning sang her frenzied songs,
- She danced and prophesied;
- The zigzag signs confessed and warned,
- She knew she was desired.
- The deep sweet waters closed the care
- Of deep sweet heart in love;
- He did not notice love was there
- Until he heard enough.
- The mighty River formed a lake
- To hold that furious life
- To hug in marital embrace
- The one he called his wife.
- The Lightning twinkled him a kiss
- And rushed to meet her fate.
- The freball blazed, blew up and hissed
- And few to fall and fade.
- Evaporating, boiling lake
- Was veiled with misty fog;
- The River groaned and strived to take
- Last waters to the bog.
- You could imagine him return
- When tears of rain were shed;
- The lake was dry, the grass was burnt,
- The Lightning, she was dead.
- This moarnful ballad makes me sad
- And shivering from cold.
- I am no bird I am no cat
- I am a human soul.
- My burning nature can't be changed,
- I am all fames and fre;
- Beyond all that, I am engaged,
- And I don't want to die.
- My Lord the Carpenter, I beg
- That You should meet my plea;
- Take cedar logs, and fasten belts,
- And make a raft for me.
- Oh Lord my Savior, here's Your turn
- To show Your magic craft!
- Rejoyce, my soul, red fre, burn,
- Wide River, drive the raft!
Приведу еще стихи, которые были в начале: им двадцать пять – тридцать лет, но я и сегодня думаю так же, как и тогда.
- Догорает мой День, блистая.
- То ль витает воронья стая,
- То ли пепел летучий тает
- Над костром лица моего…
- Кроме страстных, коротких песен,
- Кроме мерно гудящих столетий,
- Да безжалостной, длинной плети
- Я не чту под луной ничего.
- Помертвеет осенний холод,
- Захлебнется коктейлем город,
- Нежных глаз мелькнут хороводы,
- Ночь немая летит ко мне.
- Я умею лечить печали,
- Превращать расставанья в начала,
- Мне Природа – Мать обещала
- Счастье где-то на той стороне.
И более поздние.