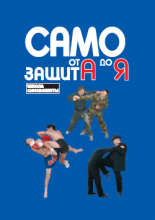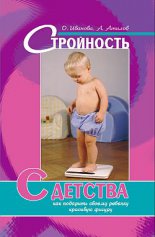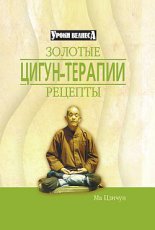Микробы хорошие и плохие. Наше здоровье и выживание в мире бактерий Сакс Джессика

Внутреннее строение пейеровых бляшек сходно с внутренним строением лимфатических узлов, которые будут созревать у младенца на шее, в паху и под мышками. Но если лимфатические узлы напоминают полигоны, на которых иммунные клетки учатся, что им атаковать, то лимфатическая ткань пейеровых бляшек напоминает дипломатическое представительство, где входящие микробы пользуются презумпцией невиновности: их по умолчанию считают “дружественными” или, по крайней мере, “мирными”, пока не будет доказано обратное32.
Однако неправильно было бы сказать, что иммунная система учится игнорировать кишечных бактерий. Взаимодействие микробов с пейеровой бляшкой, вместо того чтобы вызывать убивающую их воспалительную реакцию, запускает массовый синтез антитела, которое называют иммуноглобулином A, или IgA. Как и все антитела, IgA прикрепляется к специфическим мишеням, в данном случае – к определенной разновидности кишечных бактерий. Вместо того чтобы помечать бактериальную клетку для уничтожения (как делает большинство антител), IgA просто скапливается островками на ее поверхности, не давая ей прикрепиться к стенке кишечника, то есть как бы вежливо говоря ей: “Проходите! Не задерживайтесь!”33 Кроме того, встреча, оказываемая микробам на нейтральной территории пейеровой бляшки, вызывает размножение Т-клеток и -клеток, которые поведут атаку на тех же микробов, если они вдруг окажутся на запретной территории, например в крови. Так незрелая иммунная система младенца учится терпимо относиться к проглоченным бактериям и в то же время бдительно держать их на безопасном расстоянии. Чтобы по достоинству оценить всю важность этой дипломатии, представьте себе, что происходит, когда в ее работе случается сбой. При болезни Крона и неспецифическом язвенном колите иммунная система реагирует на соприкосновение с безвредными кишечными микроорганизмами бурным, убивающим ткани воспалением, из-за которого возникают вызывающие мучительную боль язвы, в тяжелых случаях приводящие к гибели человека из-за их прободения34.
Число пейеровых бляшек в выстилке тонкой кишки ребенка по мере его взросления постепенно сокращается, от нескольких сотен до примерно тридцати. Последняя оставшаяся группа этих бляшек концентрируется на стенках последнего отдела тонкой кишки, перед самым выходом в толстую кишку, служащую для бактерий обширным пересыльным центром. В оставшихся бляшках сильно сокращенный дипломатический корпус иммунных клеток продолжает следить за ежедневным передвижением миллионов микроорганизмов, узнавая в подавляющем большинстве из них нормальных и заслуживающих терпимого отношения мигрантов.
Пройдя через тонкую кишку с ее мощными сокращениями и отлавливающими микробов клетками, бактерии попадают в отстойник толстой кишки. Хотя в момент рождения она стерильна, впоследствии ей предстоит стать настоящим тропическим лесом для населяющих человеческий организм микробов. В 1905 году французский микробиолог Анри Тиссье первым начал исследовать становление экосистемы этих джунглей, изучая изменения в продукции, которую она дает на выходе.
Под конец первого дня жизни рожденного естественным путем ребенка состав имеющихся в его стуле немногочисленных бактерий отражает микрофлору влагалища и кишечника его матери. У ребенка же, рожденного с помощью кесарева сечения, в стуле обнаруживается менее предсказуемый набор микробов, попавших в организм с рук акушеров и в целом из окружающей среды35. Если ребенка кормят грудью, то на третий день, независимо от способа родов, его стул содержит почти что монокультуру бифидобактерий, которые продолжают доминировать вплоть до начала питания твердой пищей. Кишечная флора ребенка, вскармливаемого искусственно, тоже содержит бифидобактерий (хотя источник их неизвестен), но в гораздо меньшем количестве, в составе неустойчивой смеси с другими микробами.
Бифидобактерии в кишечнике младенца, как и на его коже и в ротовой полости, препятствуют росту микробов, способных вызвать неприятности, таких как стафилококки, и помогают отобрать первых постоянных поселенцев. Кроме того, исследования показывают, что обилие кишечных бифидобактерий способствует повышению уровня защитных антител в крови ребенка – антител, мишенями которых служат не только потенциально опасные бактерии, но и многие разновидности вызывающих понос желудочно-кишечных вирусов36. Этот факт помогает объяснить, почему смертность выкармливаемых грудью младенцев в странах третьего мира с плохим санитарным состоянием воды в целых шесть раз ниже, чем смертность младенцев, растущих на искусственном питании37. Даже в США, где смерть младенца от вызывающей понос инфекции остается редким явлением, эпидемиологи отмечают на 20 % более высокую выживаемость в течение первых шести месяцев жизни у младенцев, вскармливаемых грудью, по сравнению с получающими искусственное питание – независимо от доходов и уровня образования родителей38.
Первая волна кишечных микробов вызывает также созревание выстилки толстой кишки. Расположенные в глубине кровеносные сосуды протягиваются к поверхности кишечной стенки и образуют там густую сеть тонких капилляров, необходимых для поддержания здоровья кишечной стенки, а также для поглощения питательных веществ, высвобождаемых кишечными бактериями39. При этом первое же соприкосновение с бактериями вызывает пробуждение миллионов стволовых клеток кишечника. После активации клетки начинают нескончаемо делиться, и их размножение позволяет постоянно обновлять нежный поверхностный слой выстилки кишечника. Сами эти поверхностные клетки в свою очередь начинают отпадать с частотой несколько миллиардов клеток в день. Непрерывная замена клеток делает кишечный тракт устойчивым к повреждениям, неизбежно возникающим при переходе к питанию твердой пищей, в которой в изобилии содержатся природные токсины, а время от времени попадаются и острые предметы или болезнетворные микробы.
Начало питания твердой пищей более или менее выравнивает различия между бактериальными сообществами младенцев, вскармливаемых грудью и растущих на искусственном питании, хотя в мире и нет двух людей, у которых в кишечниках обитали бы абсолютно одни и те же виды и штаммы бактерий. В среднем около тридцати видов становятся доминантами, а сотня или около того присутствуют в небольшом количестве. К самым многочисленным и продуктивным из них относятся палочковидные представители бактероидесов (Bacteroides) и эубактерий (Eubacteria). Первые, такие как B. theta iotaomicron (B. theta), B. vulgatus и B. fragilis, составляют от 20 до 30 % кишечных бактерий человека и каждый день выделяют около литра лишенных запаха углекислого газа и водорода. Микроорганизмы из рода Eubacteria заявляют о себе, выделяя более пахучий сероводород, имеющий знакомый всему свету запах тухлых яиц.
Кроме того, рано или поздно мы становимся хозяевами определенного набора кокков – шарообразных анаэробных бактерий. К ним относятся представители родо Enterococcus, Peptococcus, Streptococcus и Peptostreptococcus, сбраживающие определенный набор сложных белков и жиров (гликопротеинов и гликолипидов) до более простых сахаров и жирных кислот, которые наш организм способен усваивать. Попутно они выделяют еще одно пахучее вещество – маслянную кислоту с ее характерным запахом испорченного масла.
В совокупности виды из родов Bacteroides и Eubacteria и разнообразные кокки высвобождают до 30 % калорий, потребляемых человеком с пищей, особенно из богатых углеродами продуктов, таких как кукурузные хлопья или макароны40.
Еще один важный компонент кишечной микробиоты составляют клостридии. Некоторые из них производят токсины, и все они умеют пережидать неблагоприятные условия в виде спор. Самая печально известная из них, Clostridium difficile, обладает отвратительной склонностью вызывать понос и воспаление толстой кишки после курса антибиотиков, устраняющего конкурентов этой бактерии. Как ни странно, C. difficile живет в кишечниках большинства детей, не вызывая у них никаких неприятных последствий. К зрелому возрасту, когда этот микроб может стать источником неприятностей, нормальная микрофлора обычно держит его под жестким контролем.
К представителям меньшинств в сообществе кишечных бактерий относятся полдюжины разновидностей лактобактерий и небольшое число факультативных анаэробов, таких как кишечная палочка, чья способность выживать на открытом воздухе позволяет ей забредать куда не следует и иногда вызывать неприятности в таких местах, как женские мочевые пути. Кроме того, примерно у каждого пятого из нас в достаточном количестве, чтобы их можно было обнаружить, живут метаногенные кишечные микробы, такие как Methanobrevibacter smithii и Methanosphaera stadmanae. Эти метаногены питаются водородом и углекислым газом, которые выделяются их соседями, переваривающими пищевые волокна. Как и водород, метан не имеет запаха, но легко воспламеняется (последнему свойству этих газов не устают радоваться мальчишки всего мира).
Кожа. Рот. Нос. Пищеварительный тракт. К концу восьмидесятых годов прошлого века микробиологи уже могли похвастаться базовыми представлениями о том, кто где обитает на человеческом теле, а также зачаточными знаниями как о пользе этих обитателей, так и о связанных с ними опасностях. Чего наука пока не могла объяснить, это как иммунная система терпит их присутствие – особенно в случае перенаселенного государства, живущего у нас в кишечнике. Другая, не меньшая, загадка – как именно населяющие наш организм бактерии запускают те глубокие изменения, которые их присутствие явно вызывает в наших клетках и тканях. Ответы на эти вопросы обещали не только удовлетворить чисто научный интерес, но и открыть, каким образом нарушения хитроумной дипломатии, определяющей взаимоотношения микробов и людей, могут приводить к болезням.
Кто здесь главный?
Джеффри Гордон, бывший гастроэнтеролог, ставший микробиологом и специалистом по кишечной микрофлоре, возглавляет процветающий новый Центр геномных исследований Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Обширное, освещенное полосками солнечного света помещение лаборатории этого Центра располагается над прославленным университетским Центром секвенирования (прочтения ДНК-букв) генов – одним из главных участников проекта “Геном человека”: в его рамках к 2003 году были секвенированы все те 20 или 25 тысяч генов, которые читаются как Homo sapiens.
“Теперь пора взглянуть на человеческий геном шире, – говорит Гордон, – принимая во внимание, что наш организм содержит, по-видимому, в сотню раз больше микробных генов, чем человеческих”. В 2005 году Гордон и его коллеги из Стэнфордского университета в Калифорнии и Института геномных исследований в Мэриленде вложили средства, выделенные по нескольким многомиллионным грантам (как частными фондами, так и государственными учреждениями), в осуществление своей инициативы “Микробиом человеческого кишечника” – проекта, в рамках которого им предстоит выделить, секвенировать и проанализировать всю совокупность микробных генов, задействованных в поддержании здоровья и жизнедеятельности человеческого организма, а иногда и в возникновении неполадок в его работе. Один из аспектов этого огромного проекта состоит в том, чтобы подготовить характеристику генетических способностей кишечной микрофлоры. Другой – в том, чтобы полностью секвенировать геномы сотни самых многочисленных бактерий, обитающих в толстой кишке человека.
Этот проект, посвященный “другому геному человека”, представляет собой лишь один из дюжины с лишним исследовательских проектов, над которыми единовременно работают сотрудники Гордона, и все эти проекты направлены на изучение влияния на здоровье и болезни человека кишечных микроорганизмов, обитающих не только в толстой кишке, но и в других частях человеческого тела. Штат сотрудников его лаборатории состоит из постоянно эволюционирующей группы из двадцати с лишним аспирантов и постдоков, специалистов по широкому кругу дисциплин – от экологии бактерий до рентгеноструктурного анализа.
Гордон заинтересовался бактериями толстой кишки еще в семидесятых и восьмидесятых годах, когда работал гастроэнтерологом и изучал гены, управляющие делением клеток, благодаря которому выстилка человеческого кишечника непрерывно обновляется. Эта постоянная замена клеток (старые клетки гибнут, когда им исполняется всего три дня) не только делает выстилку кишечника устойчивой к повреждениям, но и не дает обитающим в толстой кишке бактериям ни проникнуть слишком глубоко, ни достичь слишком высокой численности: подавляющее большинство бактериальных клеток, сидящих на сброшенных клетках эпителия, ежедневно удаляется из организма при дефекации. Гордон осознавал, что все это деление клеток дается дорогой ценой: рождение каждой новой клетки сопряжено с риском какой-нибудь случайной мутации, которая может отключить механизм торможения деления и привести к образованию раковой опухоли. Гастроэнтерологов ничуть не удивляет, что рак толстой кишки составляет вторую по частоте причину смертей от рака в промышленно развитых странах (уступая только связанному с курением раку легких)41.
Ранние исследования Гордона были посвящены механизмам включения и выключения различных генов на определенных этапах развития клетки кишечной стенки, по мере того как клетка перемещается из углубления между ворсинками к вершине ворсинки. Он пришел к выводу, что гены при этом строго следуют поступающим откуда-то инструкциям. Но откуда? Рассуждая в традиционном ключе, Гордон стал бы искать источник подобных биохимических сигналов в тканях и органах, лежащих глубже выстилки кишечника. Вместо этого он заинтересовался возможностью того, что клетки кишечника маршируют по указке бактерий, сидящих на их наружной поверхности.
Гордон учитывал, что внутри толстой кишки в каждый момент времени обитают сотни разновидностей бактерий и других микроорганизмов, а значит, для проверки его теории требовалась некая упрощенная модельная система. Сотрудники лаборатории Гордона научились у Абигайль Сэльерс, микробиолога из Иллинойсского университета, искусству выращивания безмикробных мышей. С помощью таких мышей Гордон мог выяснить, что происходит, когда им по одному возвращают представителей микробиоты мышиного кишечника. Абигайль Сэльерс играла для его лаборатории роль неофициального наставника. Гордон получил от нее культуру клеток B. theta, выделенных из стула здорового человека. Ранее она выяснила, что B. theta растет не только в человеческом, но и в мышином кишечнике. Впоследствии Гордон установил, что эта бактерия играет в микробном сообществе кишечника особую, ведущую роль.
Например, исследования команды Гордона продемонстрировали, что когда мышь не получает своей обычной порции пищи, B. theta начинает жить подаянием. Абигайль Сэльерс уже выяснила, что B. theta переносит такие голодные времена, питаясь особым сахаром (фукозой), выделяемым клетками кишечника42. В лаборатории Гордона было показано, что клетки кишечника выдают это угощение только по требованию B. theta43. Вначале исследователи продемонстрировали, что клетки кишечника безмикробных мышей перестают выделять фукозу в течение недели после рождения. “Они как бы готовились к приему гостей, которые так и не появились”, – говорит Гордон. Но стоит впрыснуть порцию микробов из рода Bacteroides в глотку взрослой безмикробной мыши, как выделение сахара сразу возобновляется. На следующем этапе исследователи воспользовались тремя разными штаммами мутантных B. theta (которых тоже предоставила им Абигайль Сэльерс), чтобы разобраться, что именно при этом происходит. Одной группе безмикробных мышей они ввели мутантные клетки B. theta, не способные прикрепляться непосредственно к клеткам кишечника. Но клетки кишечника при этом все равно начинали выделять фукозу. Другой группе безмикробных мышей ввели клетки B. theta, не способные усваивать фукозу. И все равно клетки кишечника начинали ее выделять. Поток этой пищи не поступал лишь у третьей группы мышей, которым ввели монокультуру B. theta, не способную вырабатывать определенный белок – в нем исследователи и подозревали биохимический сигнал, означающий просьбу о подаянии. Иными словами, клетки кишечника начинали выделять сахар не просто в ответ на соприкосновение с бактериями или в случае недостатка фукозы. Ключом к их реакции был сигнал “покормите меня”, получаемый от B. theta и включающий в мышиных клетках ген, который без подобного сигнала отключается в течение первых нескольких дней жизни. Это открытие было первым из полученных Гордоном убедительных подтверждений его казавшейся некогда странной идеи, что кишечные бактерии могут напрямую управлять деятельностью клеток кишечника.
В девяностых годах, с появлением метода ДНК-микрочипов, в распоряжении Гордона оказалось новое мощное орудие для исследований в этой области. ДНК-микрочипы позволяют ученым одновременно проверять на предмет активности тысячи генов. Для этого используются тысячи помеченных флуоресцентными метками отрезков ДНК, расположенных в строго определенном порядке на сетке размером с предметное стекло44. В 2002 году в лаборатории Гордона использовали содержащий около 20 тысяч известных генов мыши “мышиный” микрочип и установили, что сотни из этих генов включаются, когда безмикробной мыши впервые вводят порцию B. theta45. Как и ожидал Гордон, среди этих генов было немало задействованных в процессах нормального созревания выстилки кишечника.
Кроме того, введение B. theta включало также мышиные гены, задействованные в синтезе особых транспортных молекул, необходимых клеткам кишечника для поглощения и использования многих питательных веществ, поставляемых им B. theta и родственными видами бактерий46. Все это усиливало складывавшееся у Гордона впечатление, что присутствие B. theta играет особенно важную роль в поддержании здоровья кишечника.
Команда Гордона завершила секвенирование всех 4779 генов B. theta, ответственных за синтез белков, в 2003 году – в тот же год, когда в рамках проекта “Геном человека” были секвенированы все гены Homo sapiens47. Исследователи выяснили, что более сотни своих генов B. theta использует для добычи непереваренных растительных углеводов, а еще 170 генов служат для расщепления этих углеводов на составляющие, которые может усвоить организм мыши (или человека). Кроме того, оказалось, что B. theta обладает сложным аппаратом, позволяющим отслеживать, какие питательные вещества доступны клетке в каждый момент времени, чтобы подбирать подходящие наборы биохимических инструментов для работы с ними.
Кроме того, секвенирование генома B. theta дало исследователям из лаборатории Гордона возможность получить ДНК-микрочип с генами этого микроорганизма, в дополнение к “мышиному” микрочипу. Теперь у них появился шанс выслушать обе стороны в биохимическом разговоре хозяина и микроба. В следующем, 2004 году они открыли, что главенствующее положение B. theta проявляется и за пределами кишечника. Исследователям удалось перехватить приказания, отдаваемые B. theta жировым клеткам брюшного отдела мыши48. При этом выяснилось, что B. theta останавливает синтез гормона, подавляющего образование жира, так называемого “индуцируемого голодом жирового фактора” – Fiaf (fasting-induced adipose factor). Данное открытие во многом объясняло одно сделанное ранее наблюдение. Когда безмикробным мышам вводили в глотку клетки B. theta, у животных немедленно начинал откладываться брюшной жир, и это притом, что они получали на 30 % меньше еды, а интенсивность обмена веществ у них повышалась так, что они сжигали почти на 30 % больше калорий. За четырнадцать дней жизни с B. theta мыши увеличивали свои запасы жира в среднем на 60 %.
“Мы видим здесь, как B. theta оказывает на своего хозяина гормоноподобное действие, – изумляется Гордон. – Бактерия как бы говорит хозяину: “Оставь это про запас, нам это может еще пригодиться”.
Дальнейшие исследования сложной структуры подобных симбиотических взаимоотношений, проводившиеся командой Гордона, показали, что на ранних этапах жизни организма клетки кишечника и иммунная система начинают выделять вещества, помогающие полезным бактериям, таким как B. theta, закрепляться на своем месте, в то время как другие, потенциально опасные микробы вымываются из толстой кишки49. B. theta, судя по всему, платит за это хозяину тем, что воздерживается от злоупотребления своим положением. Например, эти бактерии не начинают пастись на покрытых сахаром эпителиальных клетках, пока те не оказываются сброшены стенкой кишечника. Кроме того, они не начинают требовать сахара, пока в их распоряжении имеются запасы их обычной непереваренной растительной пищи.
Отсюда Гордон пришел к выводу, что все эти особенности позволяют B. theta придавать своей экосистеме определенную устойчивость. Когда не хватает поступающей извне пищи, бактерии обращаются за помощью к своему хозяину, а в лучшие времена обеспечивают хозяина дополнительными калориями и указанием запасать на черный день хотя бы часть этого подарка судьбы. В самое последнее время Гордон и его команда получили данные, указывающие на то, что представители другой обширной группы кишечных бактерий, отдела Firmicutes, возможно, способны добывать калории и делиться ими еще успешнее, чем бактерии из отдела Bacteroidetes (важнейшим представителем которого является B. theta)50. “Хотя жители переедающих стран могут и не оценить важность этих дополнительных калорий и жира, – говорит Гордон, – я полагаю, что человеческая история знала продолжительные периоды, когда такого рода динамикой и определялась разница между выживанием и смертью от голода”. Неудивительно, что открытия Гордона пробудили интерес к возможности способствовать похудению страдающих ожирением людей путем корректировки работы их кишечной микрофлоры.
Другие сотрудники лаборатории Гордона рассказывают еще об одном интересном результате: что происходит, когда мыши, внутри которой живет монокультура B. theta, впрыскивают клетки метаногенного микроорганизма Methanobrevibactersmithii. В кишечнике такой мыши в итоге оказывается в сто раз больше клеток B. theta, чем было бы без этого впрыскивания. Оказывается, такие метаногены, как M. smithii, существенно повышают эффективность жизнедеятельности клеток B. theta, питаясь ее отходами – водородом и углекислым газом – и превращая их в метан и воду. В отсутствие метаногенов накопление этих отходов замедляет обмен веществ B. theta и ограничивает способность этих бактерий размножаться51. В практическом плане такое повышение эффективности дает мышам, которым ввели клетки обоих микроорганизмов, дополнительные 15 % жира.
Сотрудница той же лаборатории Рут Ли в свою очередь начала масштабное исследование черт сходства и различий в микрофлоре человека и животных – чтобы лучше разобраться в эволюционных корнях нашего внутреннего государства. Как она отмечает, лишь восемь из пятидесяти пяти известных науке отделов бактерий планеты Земля имеют представителей, поселяющихся в пищеварительном тракте животных, что заставляет предположить высокую степень избирательности этих взаимоотношений. “Согласно нашей гипотезе, – говорит она, – они сформированы за миллионы лет коэволюции”.
Стоя над ведерком со льдом, которое набито пузырьками с фекалиями зверей из Сент-Луисского зоопарка (гепарда, льва, слона, кенгуру, гиены), а также образцами навоза, собранными коллегой по ходу собственных исследований у водопоя в Африке, Рут говорит: “Если мы, млекопитающие, действительно коэволюционировали вместе с нашей кишечной микрофлорой, то мы должны найти определенные черты сходства, заставляющие предположить, что некая древняя бактерия в свое время попала в организм некоего древнего предка всех этих видов и начала там свое дело”. Рут уже удалось найти немало общих черт подобного сходства. При этом из восьми отделов бактерий, встречающихся в кишечном тракте у млекопитающих (в том числе у людей), преобладают только три: Bacteroidetes, Firmicutes и Proteobacteria.
Если же сравнивать свойственных разным млекопитающим бактерий на уровне рода (систематической категории на одну ступень выше вида), то обнаруживается масса общих групп. Например, представители рода Bacteroides, такие как B. theta, B. vulgatus и B. distasonis, преобладают у всеядных млекопитающих (таких как мы сами, мыши или свиньи – питающихся как растительной, так и животной пищей). У растительноядных, таких как коровы, овцы или кролики, первое место занимают представители близкородственного рода превотелла (Prevotella ruminicola, P. brevis, P. albensis и др.). Специалист по эволюционной биологии ожидал бы появления именно такого рода различий в результате отделения новых ветвей древних млекопитающих, переходивших к иному образу жизни.
Новое окно в мир микробов
Методы выращивания анаэробных культур, разработанные Холдеман и Муром, наряду с использованными Гордоном способами “генетического подслушивания” сделали микрофлору толстой кишки самой изученной из множества микробных экосистем нашего организма. Но по меньшей мере 10 % видов бактерий, постоянно обитающих у нас в кишечном тракте, никто еще не выращивал в культуре и не описывал. В первые годы XXI века появилась новая революционная технология, которая дала науке возможность далеко продвинуться в поисках последних из них – самых загадочных обитателей нашего организма. Попутно она сильно озадачила мир медицины, обнаружив бактерий в таких частях нашего организма, в которых, как считалось, микробы могут оказаться только при серьезном расстройстве.
Эта технология – генное зондирование – появилась благодаря трудам микробиолога Карла Вёзе, работающего в Иллинойсском университете. В семидесятых и восьмидесятых годах Вёзе занимался поисками генетического мерила для определения степеней родства между разными группами бактерий нашей планеты. Ученые уже давно искали лучший способ объединять организмы в систематические группы, чем по внешним признакам, таким как внешний вид и особенности деятельности (эта тактика могла, например, приводить к попаданию в одну группу микробных аналогов бабочек и летучих мышей). Вёзе понял, что, поскольку все гены со временем накапливают не имеющие никаких последствий крошечные изменения, ему нужен был ген, который был бы одновременно жизненно необходимым всем живым клеткам и достаточно сложным, чтобы небольшие изменения в последовательности его ДНК-букв можно было использовать для измерения эволюционного расстояния. В качестве такого мерила Вёзе выбрал ген, кодирующий одну из ключевых частей бактериальной рибосомы – белковой фабрики бактериальной клетки. Это позволило ему открыть совершенно неожиданное разветвление древа жизни – древнее расхождение, в результате которого возникла отдельная ветвь похожих на бактерий микроорганизмов, которых он назвал археями. Как оказалось, генетически отличные от настоящих бактерий археи живут преимущественно в экстремальных условиях, таких как глубоководные “черные курильщики” и горячие серные источники, но среди них нашлось и несколько обитателей человеческого организма, таких как метаногенные Methanobrevibacter52.
Пока Вёзе перерисовывал древо жизни, один из его постдоков, Норман Пейс, понял, что подобный ключевой ген можно применить также в чем-то вроде ДНК-дактилоскопии, чтобы выявлять множество бактерий в образцах населенной ими среды, например почвы или воды. Иными словами, можно было сделать ДНК-зонд, который позволил бы искать рибосомные гены бактерий в почве или воде, используя в качестве мишени участок одного и того же гена, имеющегося у всех бактерий. Извлекая эти отрезки ДНК из образца, можно было затем изготовить тысячи копий подобных участков с помощью ПЦР, или полимеразной цепной реакции, – той самой методики амплификации (увеличения числа копий) генов, которую используют судмедэксперты для амплификации генетических “отпечатков пальцев”, оставленных на месте преступления. После этого можно было рассортировать эти фрагменты на основании небольших различий между ними. Красота нового метода состояла в том, что он позволил Пейсу выявлять бактерий в смешанном образце, используя ДНК-буквы единственного гена в качестве “штрих-кода”, – что намного проще, чем выделять и выращивать представителей каждого вида в культуре, впоследствии определяя их по химическим и визуальным отличительным признакам53.
К концу восьмидесятых микробиологи всего мира с энтузиазмом взяли на вооружение изобретенный Пейсом метод. При этом они остановились на одном рибосомном гене (кодирующем одну из частей рибосомы – так называемую 16S рРНК), чтобы использовать его в генетической дактилоскопии бактерий. Вскоре секвенирование этого гена у каждой исследуемой бактерии стало общей практикой54. В результате этих исследований была создана постоянно растущая библиотека вариантов гена 16S рРНК, которую можно было использовать для определения бактерий тем же способом, каким судебно-медицинские эксперты сравнивают обнаруженную на месте преступления ДНК с ДНК известных преступников.
Но, быть может, еще важнее было то, что зондирование с использованием гена 16S рРНК впервые дало микробиологам способ, позволяющий напрямую выявлять бактерий, которых нельзя выращивать в чистой культуре, то есть отдельно от сбивающей с толку мешанины из других микробов, вместе образующих единые природные сообщества55. Если же какой-либо “отпечаток” гена 16S рРНК отсутствует во всех библиотеках известных микроорганизмов, значит – эврика! – вы открыли новый вид. Более того, этот новый вид можно поместить в определенную систематическую группу, возможно – даже в какой-либо из уже описанных родов, сравнивая его с хорошо известными видами в поисках наиболее похожего.
Генные зонды Пейса открыли микробиологам новое окно в мир микробов. Например, в 1986 году Пейс опубликовал данные о том, что ранее неизвестные и не выращивавшиеся в культуре бактерии составили, как ни сложно в это поверить, 99 % всех бактерий в некоторых из исследованных им образцов почвы, грязи и воды56. Не могло ли оказаться, что это относится и к сложным микробным сообществам, населяющим человеческий организм?
В числе первых исследователей, занявшихся поисками генов 16S рРНК в человеческих тканях, были микробиологи Дэвид Релман из Стэнфордского университета и Кен Уилсон из Университета Дьюка. В 1991 году независимо друг от друга они оба занялись зондированием тканей пациентов, зараженных ВИЧ и страдающих болезнью Уиппла. Симптомы этой болезни, редко встречающейся у людей со здоровой иммунной системой, включают сильную потерю веса, артрит и повреждения различных органов57. В течение восьмидесяти пяти лет медикам не удавалось культивировать маленький палочковидный организм, который попадался им в тканях пациентов, и поэтому у них не было возможности ни определить его, ни сравнить с другими, известными разновидностями бактерий. Проведенное Уилсоном и Релманом секвенирование гена 16S рРНК этого загадочного микроба позволило уверенно отнести его к порядку актиномицетов (Actinomycetales) – бактерий, образующих ветвящиеся нити, напоминающие гифы грибов (к этому порядку относятся многие представители микрофлоры ротовой полости и кишечника). Еще важнее было то, что Уилсон и Релман дали медикам новый метод генетического анализа, позволяющий быстро диагностировать болезнь Уиппла, что было жизненно важно, потому что своевременное лечение соответствующим антибиотиком позволяет останавливать развитие этой инфекции раньше, чем она вызовет необратимые нарушения в сердце и головном мозге.
Еще через пару лет Релман продолжил поиски гена 16S рРНК, на этот раз в ротовой полости здорового человека (своей собственной), с единственной целью – оценить уровень разнообразия ее экосистемы. Он вернулся в лабораторию от зубного врача с несколькими заранее простерилизованными пробирками, в которых находились соскобы, взятые с его зубов непосредственно из-под края десен. Затем вместе с сотрудниками своей лаборатории он амплифицировал бактериальную ДНК из этих образцов и секвенировал 264 различных варианта гена 16S рРНК. Чуть больше половины соответствовали вариантам этого гена, отмеченным у известных бактерий, а тридцать пять оказались отличными настолько, что указывали на новые для науки виды (а не штаммы, то есть разновидности, уже известных видов)58.
Начиная с 1994 года Брюс Пейстер и Флойд Дьюхёрст из Института Форсайта, филиала Гарварда, проводят генное зондирование на ген 16S рРНК для намного более полного анализа микробиоты ротовой полости, оценивая уровень разнообразия микроорганизмов у десятков испытуемых, как здоровых, так и страдающих от различных стоматологических проблем. К настоящему времени им удалось обнаружить варианты этого гена у представителей семисот с лишним разновидностей бактерий ротовой полости, большинство из которых были ранее неизвестны. Во рту одного человека, по данным Пейстера и Дьюхёрста, их обычно одна или две сотни. Некоторые из этих бактерий всегда связаны с расстройствами, в то время как другие способствуют свежему дыханию и поддерживают здоровье ротовой полости59.
Ученые из Института Форсайта создали на основе своей обширной базы данных по гену 16S рРНК специальный ДНК-микрочип, который можно использовать как своего рода устройство для считывания штрих-кода, чтобы быстро определять, какие именно из двух сотен преобладающих разновидностей бактерий ротовой полости имеются у человека во рту и присутствуют ли они в большом или в малом количестве. Этот микрочип, хотя он еще и не готов к внедрению в стоматологическую практику, позволяет исследователям оценивать риск развития стоматологических заболеваний, выясняя, кого из “хороших парней” не хватает, а также кто из нарушителей порядка проник в ротовую полость. Он также позволяет им отслеживать, что происходит со сложными комплексами бактерий во рту пациента по ходу лечения, будь то обработка корневого канала или курс антибиотиков (то и другое иногда оказывается источником новых неприятностей).
ДНК-микрочипы позволили микробиологам отслеживать подобным образом изменения, происходящие и в других экологических нишах нашего организма. Например, в 2006 году Релман и Гордон вместе с учеными из Института геномных исследований в Роквилле (штат Мэриленд) завершили амбициозный проект по секвенированию гена 16S рРНК обитателей кишечного тракта. Они обнаружили в образцах стула двух здоровых взрослых людей больше двух тысяч различных вариантов этого гена, из которых около ста пятидесяти отличаются настолько, что соответствуют новым разновидностям бактерий, а тридцать пять – новым для науки видам60.
Тем временем Релман и его коллеги продолжают находить бактерий в тканях, которые долго считались безмикробными. “Может выясниться, что в человеческом организме не так уж много тканей, в которых нельзя обнаружить присутствие бактериальной ДНК”, – говорит Релман61. Представляют ли эти микробы скрытые инфекции или нормальную микрофлору – это еще предстоит выяснить. “На что я надеюсь, – говорит он, – так это на то, что, начав с образцов, взятых у здоровых людей, мы будем вправе предполагать, что обнаруженные у них микробы, вероятно, были с нами на протяжении какой-то части нашего пребывания на этой планете и вполне могут оказаться важными для нашего здоровья”.
Инфекции-невидимки или безобидные посторонние?
Надо сказать, что даже поведение хорошо известных бактерий, живущих у нас в организме, расходится со старым, прямолинейным представлением об инфекционных болезнях, воплощенным в незабвенных постулатах Коха, согласно которым любой болезнетворный микроб должен неизменно обнаруживаться в пораженном организме и всегда вызывать заболевание при введении новому хозяину. Helicobacter pylori – наверное, самый известный микроб, опровергающий этот пункт. Когда-то обитавший в желудках почти всего человечества, он лишь в последнее время начал вызывать язвы желудка. Но и сегодня H. pylori вызывает язвы лишь у скромной доли носителей.
“Такие вещи сводят с ума микробиологов старой школы, – говорит специалист по молекулярной биологии Алан Хадсон, – потому что постулаты Коха здесь просто неприменимы”. Вопреки этим постулатам, такие скрытые инфекции, как вызываемая H. pylori и другими недавно открытыми микробами, судя по всему, оказываются источником неприятностей лишь у некоторых людей и лишь иногда, обычно после многих лет, если не десятилетий непрочного мира между хозяином и бактерией.
Хадсон, микробиолог, гордящийся тем, что у него никогда не было собственного микроскопа, любит рассказывать одну историю из своей практики, показывающую, что генные зонды не только произвели революцию в медицинской микробиологии, но и сильно запутали эту область62. “Молодой солдат подхватывает за границей хламидиоз, известное венерическое заболевание, вылечивается от него антибиотиками, а потом возвращается домой и женится на своей школьной подружке, – начинает свой рассказ Хадсон, откинувшись в кресле за рабочим столом в тесном углу своей лаборатории в Университете Уэйна в Детройте. – Но три недели спустя у них обоих развивается сильнейший хламидиоз”.
Муж, исходя из обычных двойных стандартов, возмущен, что его девушка изменяла ему, пока его не было, хотя она это категорически отрицает. “И вот мне звонит врач из того городка, который пытается спасти их брак, – говорит Хадсон. – Он знал ее с детства и верит, что она говорит правду”. Этот врач хочет понять, мог ли муж каким-то образом заразить ее, хотя его, судя по всему, как следует лечили и вылечили. “И вот я говорю ему: “Пришлите мне образец его мочи и мазок с ее шейки матки”. Причем это происходит уже после того, как они оба прошли полный курс антибиотиков под наблюдением этого доктора. “Я сделал ПЦР того и другого, – говорит Хадсон, – и оказалось, что у мужа по-прежнему явные признаки инфекции”. Хадсон предполагает, что, вместо того чтобы уничтожать возбудителей, антибиотики просто переводили их в неактивное состояние. Если одна из таких покоящихся клеток передалась новому хозяину (молодой жене), она могла начать делиться и вызвать развитие активной инфекции, которая затем передалась от жены обратно мужу.
Хотя покоящиеся хламидии редко реактивируются, вызывая повторное развитие венерического заболевания, Хадсон давно подозревал их в других злодеяниях. В начале девяностых, исследуя образцы ткани из суставов пациентов, страдающих артритом, он обнаружил два вида хламидий: Chlamydia trachomatis, обычно связанную с венерическими и глазными заболеваниями, и Ch. pneumoniae, распространенного возбудителя респираторных инфекций63. В другом, более знаменитом случае в 1996 году он начал находить Ch. pneumoniae в клетках головного мозга жертв болезни Альцгеймера64.
Примерно в то же время генетические отпечатки пальцев Ch. pneumoniae и разнообразных бактерий ротовой полости стали обнаруживаться в ходе медицинских исследований в артериальных бляшках пациентов, перенесших сердечный приступ65. Это открытие побудило многих кардиологов прописывать своим пациентам антибиотики. Большинство кардиологов отказались от этой практики в 2005 году, когда стали известны долгожданные результаты исследования, в котором было задействовано более четырех тысяч пациентов, страдающих кардиологическими заболеваниями, в течение двух лет принимавших сильный антибиотик гатифлоксацин. Эти результаты подтвердили, что такое лечение не снижает риск ни сердечного приступа, ни атеросклероза, то есть закупорки артерий66. Однако эта проверка не столько оправдала Ch. pneumoniae, сколько продемонстрировала, что даже продолжительный курс сильных антибиотиков не позволяет полностью уничтожить эту бактерию. Поэтому данное исследование, хотя оно и пресекло ширящуюся практику лечения кардиологических заболеваний гатифлоксацином, вызвало колоссальный интерес к разработке более сильных, более эффективных курсов антибиотиков, которые позволили бы уничтожать не только Ch. pneumoniae, но и многих других возбудителей так называемых инфекций-невидимок (stealth infections), а их становится известно все больше и больше.
Понятно, что материальные стимулы здесь огромны. Если выяснится, например, что какой-то сильнодействующий новый антибиотик хотя бы частично сокращает риск сердечного приступа, это приведет к тому, что его будут прописывать миллионам, если не десяткам миллионов пациентов. “Речь идет о курсах антибиотиков, возможно нескольких одновременно, для большей части населения”, – говорит Уильям Митчелл, специалист по хламидиям из Университета Вандербильта и один из основателей фармакологической компании, занимающейся поисками как раз такого средства67. Более того, если предварительные результаты будут хоть как-то указывать на его эффективность, пациентам будут предписывать ежедневно принимать такие антибиотики не в течение нескольких дней, а месяцами, если не годами.
Многие ревматологи уже сегодня прописывают длительные и даже пожизненные курсы антибиотиков пациентам, страдающим воспалительным артритом, потому что такое лечение ослабляет у них болезненные воспаления68. (Пока неясно, достигается ли этот эффект за счет уничтожения бактерий-невидимок или за счет какого-то неизвестного механизма.) В самое последнее время психиатры начали прописывать длительные курсы антибиотиков юным пациентам, страдающим синдромом навязчивых состояний. Эта практика возникла из идеи, что такие дети могут страдать от некоторой разновидности неврологических аутоиммунных заболеваний, запускаемых оказавшимися не на своем месте пиогенными стрептококками, оставшимися после развития активной инфекции69.
Каталогизация микрофлоры нашего тела, разработка способов выращивания безмикробных животных-хозяев и развитие методов генетического зондирования все вместе обеспечили постепенное углубление наших знаний о взаимодействиях (как благотворных, так и вредных) микробов-путешественников с людьми, которые их подвозят. Судя по всему, что на сегодня известно, для этих микробов совершенно нормально время от времени оказываться в нашем организме где-нибудь не на своем месте, хотя генетические технологии лишь теперь позволили нам обнаруживать их присутствие.
Хадсон, со своей стороны, предупреждает, что, прежде чем приниматься за уничтожение наших попутчиц-бактерий, “нам надо, черт возьми, сперва разобраться, что они там делают”. С этой целью он начал работать с собственным набором ДНК-микрочипов, а именно одним микрочипом для хламидии и другим для ее хозяина – человека. Вместе они позволяют ему подслушивать биохимические разговоры человеческого тела с полупокоящимися хламидиями, обнаруженными им в тканях суставов. Ему даже пришлось прибегнуть к помощи устройства, которым он долго пренебрегал ради ДНК-зондов: микроскопа, хотя и не простого, а стоящего 250 тысяч долларов, цифровым световым микроскопом, который позволяет увеличивать живые объекты в беспрецедентные 15 тысяч раз. Этот микроскоп находится в лаборатории его супруги, иммунолога Джудит Уиттам-Хадсон, работающей в том же университета над созданием вакцины против хламидий.
Видеоэкран этого микроскопа позволил Хадсону пронаблюдать, как клетки хламидий переходят из инфекционной, активной формы в малоизученную хроническую. “Вначале видна совершенно нормальная, сферическая бактерия, которая в итоге превращается в этакую крупную, глупейшего вида клетку”, – говорит он. Ясным весенним днем он склоняется над экраном микроскопа, наводя объектив на резкость на мутном пятне активности внутри одной из хламидий. “Она что-то делает, – говорит он. – Чем-то занята. Что-то говорит своему хозяину”.
Часть 3
Не слишком ли мы чистые?
Любовь к грязи – одно из самых ранних увлечений, и она же оказывается нашим последним увлечением. Куличики из грязи служат для удовлетворения одного из самых первых и лучших инстинктов. Пока мы грязные, мы чисты.
Чарльз Дадли Уорнер (1870)
Запредельная чувствительность
Рохан Кремер Гуха – очаровательный мальчик из Нью-Джерси с робкой улыбкой и мягкими черными волосами – знает, что ему нельзя прикасаться к крошкам и прочим следам, которые оставляют за едой другие дети на празднованиях дней рождения. “Мне страшно подумать, – говорит его мать Девьяни Гуха, – что будет, если он дотронется до пятна от мороженого? Но мне не хочется, чтобы он слишком выделялся. Поэтому я его отпускаю и стараюсь не стоять у него над душой”. Надо сказать, что Рохан знает многих других детей, страдающих аллергиями, но ни у кого из них нет такого широкого их набора.
Проблемы с аллергиями начались у Рохана рано. К шести месяцам его кожа, поначалу такая красивая, покраснела и зашелушилась от экземы. А когда у них дома работали уборщицы, Девьяни или приходящая няня должны были обязательно забирать Рохана куда-нибудь на весь день.
“Иначе всякий раз, когда пылесосили ковер, он покрывался ужасной сыпью и начинал хрипеть”. Когда он только начал ходить, у него была диагностирована аллергия едва ли не на все пищевые продукты из списка. Наиболее опасные – молоко, яйца и пшеница – моментально вызывали у него тошноту и рвоту. Затем, когда Рохану было два года, половина лица у него покрылась красными волдырями размером с монету в двадцать пять центов, оттого что дедушка поцеловал его в щеку. За полчаса до этого дедушка съел кусочек каджу-катли – восточноиндийской помадки, в которой содержатся сливочное масло и кешью.
К тому времени мама Рохана не кормила его почти ничем, кроме курицы и картофельного пюре, и сама села на такую же строгую диету, чтобы продолжать кормить его грудью. Даже самые гипоаллергенные кормовые смеси вызывали у него неприятности, а о коровьем молоке, конечно, и речи быть не могло. “Я страдала от голода, и мы беспокоились, достаточно ли пищи он получает”, – вспоминает Девьяни. Поэтому, когда в январе 2001 года аллерголог Рохана порекомендовал ей привести его в больницу для серии проверок реакции на разную пищу, она возлагала на это большие надежды. “Он сказал, что многие дети со слабыми положительными результатами анализов на всевозможные аллергии на самом деле не страдают такой уж сильной аллергией на многие продукты”. На всякий случай в ходе этих проверок рядом с Роханом постоянно находилась тележка с реанимационным набором. На этой тележке было все, что нужно, чтобы спасти ребенка в случае нарушения дыхания или остановки сердца.
В десять утра одного буднего дня голодный Рохан, ему было тогда два с половиной года, сидел в больнице на койке, а его миндального цвета руки и ноги терялись в складках больничной одежды, которая была ему велика. Медсестра уже поставила мальчику капельницу с простым физиологическим раствором – еще одна мера предосторожности из серии “на всякий случай”, чтобы можно было в любой момент быстро ввести спасительное лекарство. Младшая сестра принесла поднос с десятком пронумерованных, но никак иначе не маркированных емкостей с рисовым пудингом. В каждой из них диетолог запрятал одну восьмую чайной ложки еды, к которой Рохан мог оказаться чувствителен.
Рохан осилил первые три образца, ни на что не жалуясь, но стоило ему только слегка попробовать четвертый, как он отказался продолжать. Он начал ерзать и жаловаться, что у него болит живот. Мама пыталась уговорами снова привлечь его внимание к ложечке рисового пудинга, когда его вырвало и он потерял сознание. Младшая сестра немедленно сделала ему укол адреналина и в течение нескольких секунд начала вливание антигистаминного препарата в вену через капельницу. Когда Рохан пришел в сознание, сестра усадила его на постели и надела ему на лицо маску, чтобы он вдыхал через нее успокаивающие иммунную систему стероиды. “Это было страшно, – говорит Девьяни. – Только тогда мы и осознали, что имеем дело с чем-то, от чего наш сын может умереть”. В четвертом образце было запрятано ничтожное количество ячменя.
Через шесть месяцев у новорожденного брата Рохана, которого назвали Зубин, тоже начали развиваться тяжелые аллергические реакции. Девьяни ушла с работы, где она успешно занималась городским планированием, специализируясь на обеспечении бедных кварталов структурами здравоохранения. “Я чувствовала, что мне небезопасно уходить из дома и потому, что нельзя оставлять детей без присмотра, и потому, что нужно слишком строго следить за тем, что я ем и могу передать Зубину с грудным молоком. К восьми и четырем годам соответственно некоторые формы аллергии у обоих мальчиков прошли.
В рацион их семьи теперь снова входят соя и турецкий горох. Но у обоих осталась предрасположенность к астме и экземе. Особенно часто жестокие и пугающие приступы астмы случаются у них после респираторных инфекций, например гриппа. Но Девьяни знает, что ее детей нельзя прививать от гриппа, потому что вакцина содержит яичные продукты – одну из тех категорий пищи, на которую у них осталась тяжелая аллергия.
В наше время во всех развитых странах аллергии, астма и другие разновидности воспалительных расстройств из почти неизвестного недуга превратились в нечто обыкновенное1. В каждом из этих расстройств задействованы разрушительные иммунные реакции на какие-либо безвредные вещества, например на пищевые продукты, пыльцу растений, нормальную микрофлору толстой кишки и даже на здоровые клетки собственного организма. Иммунные атаки на такие клетки могут вызывать аутоиммунные заболевания, такие как сахарный диабет первого типа, рассеянный склероз, волчанка и многие другие. Кажется, что иммунная система современных людей утратила какой-то аварийный ограничитель и осталась запредельно чувствительной и часто не способной отличать друзей от врагов. Конкретные проявления этого излишнего рвения иммунной системы, по-видимому, зависят от генетической предрасположенности каждого. Склонность к аллергиям и астме определенно передается в некоторых семьях по наследству, и к аутоиммунным заболеваниям это тоже может относиться. Но существенное повышение частоты встречаемости этих недугов за последние 150 лет было слишком резким, чтобы его можно было объяснить наследственностью. Они остаются редкими в странах третьего мира, но заболеваемость детей иммигрантов имеет тенденцию приближаться к заболеваемости коренных жителей западных стран, причем к родителям это тоже относится, хотя и в меньшей степени. Примечательно, что у нас в Соединенных Штатах многие иммигранты из стран Африки и Восточной Европы полушутя называют аллергии “болезнью гражданства” (citizenship disease), потому что характерные насморк и чихание нередко начинаются у них примерно в то самое время, когда срок их пребывания здесь достигает пяти лет, позволяя получить гражданство2.
Может быть, причина в загрязнении воздуха? Стрессах, сопутствующих современной жизни? Переизбытке пищи? Снижении числа детских заболеваний? Все эти факторы назывались в качестве возможных виновников исторического роста частоты иммунных заболеваний в промышленно развитых странах. Но исследования в целом не позволили получить данных, подтверждающих подобные предположения.
Наверное, самая странная из всех подобных версий допускает, что причина этой эпидемии кроется в сравнительно резкой изоляции от моря микробов, в основном безвредных, когда-то пропитывавшего всю нашу жизнь через неочищенную воду, которую мы пили, пищу, которую мы доставали из земли и хранили как могли, животных, которых мы выращивали и на которых охотились, и грязь, среди которой мы ходили, работали и нередко спали. Один из биологических трюизмов гласит, что эволюция превращает неизбежное в необходимое. Не может ли быть так, что эволюция выработала у нас зависимость нормальной работы иммунной системы от постоянного взаимодействия с бактериями и другими микробами? Если да, то что должно было произойти, когда в течение одного или двух столетий (всего лишь мгновение для эволюции) мы изолировались от взаимодействия с ними, очищая свою воду, обрабатывая свою пищу, обливаясь противомикробными лекарственными и моющими средствами и удалившись от природных ландшафтов?
От Гиппократа до гигиенической гипотезы
Заглянув в анналы медицины, мы убеждаемся, что частота всех трех категорий воспалительных расстройств, занявших к XXI веку такое заметное место в нашей жизни, возрастала сходным образом. Сюда относятся, во-первых, аллергии и астма, во-вторых, аутоиммунные заболевания, такие как сахарный диабет первого типа, рассеянный склероз и волчанка, и, в-третьих, воспалительные расстройства пищеварительного тракта, такие как болезнь Крона и неспецифический язвенный колит. В древней медицинской литературе все эти болезни отмечались редко или не отмечались вообще. Например, Гиппократ был знаком с астмой, но этот недуг вызывался физическими упражнениями, а не аллергией. Гиппократ описывал редкие случаи, когда люди плохо реагировали на определенную пищу, например на молоко, но симптомы – расстройство желудка и газы – заставляют предположить скорее индивидуальную непереносимость, чем аллергию3.
Первое упоминание респираторной аллергии датируется началом X века и содержится в трактате персидского врача Ар-Рази “О том, почему головы людей опухают во время цветения роз, вызывая катар”4. Аллергический ринит, или сезонная аллергия, был в следующий раз описан в европейской медицинской литературе лишь в XVII веке и оставался медицинской диковинкой вплоть до XIX века, когда он сделался модным недугом среди аристократии, многие представители которой, как утверждалось, “не переносят деревенского воздуха”5. В 1819 году лондонский врач Джон Босток начал почти десятилетнее исследование того, что он называл catarrhus aestivus, или летний катар (то есть насморк). “Одно из самых примечательных обстоятельств, касающихся этого заболевания, состоит в том, что оно не отмечалось как некое особое расстройство вплоть до последних десяти или двенадцати лет”, – писал он. В 1828 году он представил свое описание двадцати восьми случаев летнего катара Лондонскому медицинскому и хирургическому обществу, доложив, что это заболевание встречается лишь “у представителей среднего и высшего классов общества, даже у иных лиц высокого звания”. Кроме того, расспросив аптекарей из бедных районов Лондона и других мест, Босток сообщил, что ему не удалось обнаружить “ни одного несомненного случая этого заболевания среди бедноты”6.
В 1873 году манчестерский врач Чарльз Блэкли, который сам страдал от сенной лихорадки, показал, что это расстройство представляет собой респираторную аллергию: летом он сохранил пыльцу злаков в бутылке, а зимой вынул из нее пробку и вдохнул порцию воздуха вместе с пыльцой. От этого у него сразу же возникли обычные симптомы: слезящиеся глаза, насморк и чихание. Сообщая о полученных результатах, Блэкли, подобно его предшественнику Бостоку, отметил, что частота этого расстройства существенно выросла за последние несколько десятков лет, и выразил недоумение по поводу того, что оно не встречалось в семьях фермеров, которые более всех подвержены действию пыльцы. Блэкли отвергал распространенную идею, будто респираторные аллергии относятся к наследственным заболеваниям, вызываемым близкородственными браками, и связаны с королевской кровью, поскольку они были обычны среди европейских нуворишей – промышленников и коммерсантов. Сам же он описывал этот недуг как болезнь “образованных классов” и предполагал, что здесь имела место своего рода “предрасположенность, порождаемая умственной культурой”7.
К началу XX века респираторные аллергии стали таким обычным явлением по всей Западной Европе и Северной Америке, что во многих городах были организованы “общества страдающих сенной лихорадкой”, чтобы поддерживать несчастных хотя бы сочувствием. В 1988 году историк медицины Мартин Эмануэль назвал респираторные аллергии “эпидемией периода после промышленной революции”, поразившей около 10 % населения США. “Тем не менее, – писал он, – причины подобного роста понятны сегодня не больше, чем в 1873 году, когда его отметил Блэкли”8. Прибавим к этому пищевые аллергии, которые тоже были редки до XX столетия, и окажется, что от аллергических расстройств сегодня страдают почти 60 миллионов американцев, или 20 % населения страны. При этом у 15 миллионов из них аллергические реакции настолько сильны, что могут вызывать анафилактический шок, представляющий угрозу для жизни9.
Распространение астмы шло в ногу с распространением респираторных аллергий, и по ходу дела этот недуг превратился из знакомого древним грекам заболевания, вызываемого физическими упражнениями, в заболевание, возникающее в основном из-за аллергических реакций, особенно на домашние раздражители, такие как плесень или микроскопические экскременты клещей домашней пыли и тараканы10. Первое явное указание на эту разновидность вызываемой аллергией астмы относится к 1552 году, когда Джироламо Кардано, прославленный врач эпохи Возрождения, приехал в Шотландию и исцелил архиепископа Сент-Эндрюсского от хронического затруднения дыхания, предписав ему избавиться от набитых перьями подушек и пуховых одеял, предположительно кишевших клещами11. В течение следующих четырех веков астма, как и сенная лихорадка, ассоциировалась с высшими классами, и классическим образом астматика был бледный и изнеженный ребенок, избегавший выходить на улицу.
К восьмидесятым годам XX века астма стала самым распространенным хроническим заболеванием у детей и главной причиной пропуска уроков и детской госпитализации в Северной Америке и Европе, особенно в городах12.
Уже к середине XX века стало ясно, что предрасположенность к аллергическим расстройствам наследуется. Однако такая предрасположенность может проявляться у одного члена семьи в виде пищевой аллергии, у другого – в виде респираторной аллергии или астмы, а у третьего – в виде аллергической кожной болезни, такой как экзема. Наличие у человека одного из этих расстройств повышает шансы развития других13. Это открытие заставило исследователей задаться вопросом, какие элементы современного стиля жизни (особенно стиля жизни сливок общества или городского населения) толкают людей с генетической предрасположенностью за ту грань, после которой у них развивается заболевание. Серьезные поиски таких факторов начались в восьмидесятые годы.
Эпидемиолог Дэвид Строн, тощий молодой шотландец в очках в черной оправе, дужки которых зацеплены за торчащие уши, стал преподавателем Лондонской школы гигиены и тропической медицины в 1987 году, опубликовав к тому времени целый ряд добротных научных статей о распространении детской астмы и ее связи с домашней средой. Избежав связанных с тяжелой работой в странах третьего мира приключений, которыми прославились эпидемиологи Лондонской школы, Строн нашел себе нишу в изучении замусоленных архивов семейных врачей и почти не поддающихся расшифровке заметок, которые они делали на полях карточек своих пациентов. Результаты проведенных Строном исследований указывали на открытые окна спален и сырость в доме как на возможных подозреваемых14.
Работая в Лондонской школе, Строн быстро расширил область своих изысканий за пределы заметок семейных врачей – в глубины баз данных национализированной системы здравоохранения Великобритании. Одни лишь открытые окна и плесень не могли отвечать за приобретавшую все большие масштабы эпидемию атопии, то есть аллергических заболеваний. В восьмидесятые годы уже примерно один из восьми британских детей страдал от каких-либо проявлений атопии, будь то экзема, пищевая аллергия, сенная лихорадка или астма.
Строн проанализировал статистическую золотую жилу “Британского национального исследования развития детей” – колоссального проекта, целью которого было проследить за здоровьем и благополучием 17 414 британцев – каждого ребенка, родившегося с 3 по 9 марта 1958 года, в районе пика послевоенного всплеска рождаемости. К тому времени представителям этой когорты уже перевалило за двадцать. Поэтому Строн удалось составить сводные таблицы и вычислить коэффициенты регрессии между всевозможными параметрами, отражающими их жизнь от рождения до ранних зрелых лет, чтобы выявить все, что могло коррелировать с обычными показателями предрасположенности к аллергии – экземой и сенной лихорадкой.
Проведенный анализ позволил Строну обнаружить поразительную связь между аллергиями и размером семьи: чем больше братьев и сестер было у ребенка, тем ниже была вероятность развития у него экземы или респираторной аллергии. Строн нашел подтверждение этому результату, проанализировав данные статистики по другой когорте рождения – британским детям, родившимся в течение одной недели весной 1970 года. В пятилетнем возрасте они тоже демонстрировали обратную связь между размером семьи и риском развития аллергии.
Статистика, которую изучал Строн, ничего не говорила ему о том, по какой же причине наличие многих братьев и сестер защищает ребенка от развития аллергии. Но он был уверен, что знает ответ. В посвященной своему исследованию статье, опубликованной в 1989 году в British Medical Journal, Строн сделал вывод: “За последнее столетие сокращающиеся размеры семьи, улучшение бытовых условий и повышение стандартов личной гигиены уменьшили возможность перекрестной передачи инфекций в молодых семьях. Именно это и могло привести к более широкому распространению клинических симптомов атопии, еще раньше проявившемуся у более состоятельных людей”15. Современная эпидемия аллергий и астмы, согласно выводу Строна, была порождена непосредственно снижением частоты некогда распространенных вирусных заболеваний у детей, от обычной простуды до кори, свинки и краснухи.
Строн выбрал для своей лаконичной статьи аллитерированное название Hay Fever, Hygiene, and Household Size (“Сенная лихорадка, гигиена и размеры семьи”). Журналисты, с наслаждением обсуждавшие его неожиданное обвинение в адрес безупречно вычищенного жилья, занявшего прочное место на телеэкране тех лет и якобы повинного в эпидемии аллергических заболеваний, переплюнули его самого, придумав термин “гигиеническая гипотеза” (hygiene hypothesis). Статья Строна была с большим успехом взята на вооружение растущим движением против прививок, поскольку в ней подразумевалось, что, предотвращая детские инфекции, современная медицина лишает иммунную систему тренировок, надолго укрепляющих человеческое здоровье.
В 1999 году норвежские исследователи придали гигиенической гипотезе Строна новый поворот, выяснив, что именно старшие братья, а не старшие сестры обеспечивают детей, родившихся в больших семьях, львиной долей защиты от аллергии. В той же работе было показано: источником защиты служат также домашние питомцы, особенно собаки16. Строн ухватился за эту статью как за подтверждение своих идей, ведь братьев обычно считают большими распространителями инфекций, чем сестер, предположительно чистюль17. И все же мальчики определенно болели не чаще девочек, а собак едва ли можно было обвинить в распространении простудных заболеваний, гриппа и кори.
Тем временем в дело вступили иммунологи, предложившие возможный механизм, объясняющий, как подхваченные в раннем детстве инфекции способны защищать людей от развития аллергических заболеваний. Исследования иммунных клеток, циркулирующих в крови людей, склонных к аллергии, выявили дисбаланс между двумя недавно открытыми подгруппами так называемых Т-хелперов (Т-помощников). Генерал-майоры иммунной системы, Т-клетки реагируют на антигены, выделяя сложную смесь сигнальных молекул цитокинов. Антиген – это по определению любое вещество, которое связывается с рецепторами на поверхности Т-клетки и запускает клонирование Т-клеток, чьей мишенью служит именно этот антиген. Антигены, задействованные в борьбе с инфекциями, состоят из опознаваемого кусочка вируса, бактерии или поврежденной собственной клетки организма, которую требуется уничтожить. Антигены, задействованные в аллергических реакциях, или аллергены, представляют собой частицы вещества, ошибочно принятого иммунной системой за опасное. В случае аутоиммунных реакций антиген может сидеть на поверхности клеток определенного типа, которые иммунная система по ошибке помечает для уничтожения.
В конце восьмидесятых годов иммунологи открыли, что Т-клетки реагируют на антигены двояко. Т-клетки первого типа, получившие название Т-хелперы 1, или Th1, выделяют цитокины, указывающие клеткам-солдатам иммунной системы (макрофагам, Т-киллерам и тому подобным), какие зараженные, злокачественные или другие болезненные клетки организма они должны поглотить. Т-хелперы 2, или Th2, в свою очередь выделяют цитокины, которые организуют иммунный ответ, включающий наплыв тучных клеток и базофилов в слизистые оболочки, где они выделяют гистамин и другими способами вызывают развитие воспаления и сокращение подлежащих мышц. Последняя стратегия, судя по всему, предназначена для того, чтобы вымывать кишечных паразитов, таких как ленточные и круглые черви, или по крайней мере их личинок, чтобы они не могли закрепиться в организме и вырасти во взрослых червей. Любопытно, что длительное заражение кишечными паразитами как раз подавляет реакцию T-хелперов 2 – скорее всего потому, что длительная воспалительная реакция принесла бы больше вреда, чем сами паразиты. В любом случае в отсутствие таких паразитов именно активность массы не в меру ретивых Th2-клеток, по-видимому, и вызывала воспаление, выделение жидкости и мышечные сокращения при аллергиях и астме.
Результаты дальнейших исследований заставляли предположить, что новорожденные появляются на свет с иммунной системой, перекошенной в строну иммунного ответа типа Th2, потому что “нормальный” убивающий клетки иммунный ответ типа Th1 мог бы привести к смертельному конфликту с клетками и иммунной системой матери. В норме иммунный ответ хелперов второго типа за первые недели или месяцы жизни снижается. Но у детей, страдающих аллергией, уровень клеток Th2 и связанных с ними цитокинов остается аномально высоким до достижения зрелости и в дальнейшем18. Эти результаты прекрасно согласуются с гигиенической гипотезой Строна, указывая на то, что недостаток инфекций в раннем детстве может привести к аномальному застопориванию иммунной системы человека в Th2-режиме, характерном для раннего младенчества.
Концепция дисбаланса клеток Th1 и Th2 дала гигиенической гипотезе научный вес в дополнение к широкой популярности. В 1997 году казалось, что она убедила даже мудрецов из журнала Economist: в пространной редакционной статье, озаглавленной “Болезни от исцеления”, обсуждалась гигиеническая гипотеза как предположение, “что борьба с инфекциями может иметь нежелательные последствия не только для болезнетворных микробов, но и для их хозяев – то есть для людей”19. Окончательно закрепил гигиеническую гипотезу в качестве одного из догматов медицины The New England Journal of Medicine, опубликовавший результаты проведенного в Аризонском университете исследования, авторы которого изучили медицинскую документацию более тысячи детей от их рождения в начале восьмидесятых до тринадцатилетнего возраста. Эти результаты подтвердили, что ранние контакты со многими другими детьми, будь то старшие братья и сестры или дети в яслях или в детском саду, обеспечивают сильную защиту от астмы20. Как и Строн, педиатры из Аризоны связывали защитный эффект с многочисленными простудами и другими респираторными инфекциями, которые распространяются среди детей в яслях и в детских садах и которые дети приносят домой, заражая младших братьев и сестер.
При этом нескольким исследованиям, которые не подтверждали предполагаемую связь между ранними респираторными инфекциями и защищенностью от аллергии и астмы, пресса уделяла намного меньше внимания. В 1996 году самому Строну не удалось найти прямой корреляции в ходе статистического анализа связи между числом простудных и легочных заболеваний, перенесенных детьми в течение первого года жизни, и развитием сенной лихорадки в более позднем детском возрасте21. Еще некоторые исследования подтверждали защитный эффект больших семей, но при этом свидетельствовали о том, что респираторные инфекции, перенесенные в младенческом возрасте, напротив, повышают вероятность развития у ребенка аллергических расстройств. Более подробный анализ показал, что повышенный риск коррелирует не столько с инфекциями как таковыми, сколько с использованием антибиотиков22. (Большинство респираторных инфекций имеют вирусную природу и поэтому не предполагают лечения антибиотиками.)
Примерно в то самое время идея, что аллергии развиваются из-за нарушений шаткого равновесия между двумя подразделениями иммунной системы, рассыпалась перед лицом одного простого наблюдения. Если бы аллергии и астма развивались оттого, что иммунная система слишком перекошена в сторону иммунного ответа типа Th2, то в западных странах наблюдалось бы соответствующее снижение частоты расстройств, вызываемых чрезмерной агрессивностью иммунного ответа Th1, то есть аутоиммунных болезней, при которых убивающее клетки подразделение иммунной системы по ошибке разрушает здоровые ткани. На деле же происходило нечто обратное.
История саморазрушения
Подобно аллергиям и астме, многие аутоуиммунные заболевания в течение XIX и XX веков тоже стали из редких или совершенно неизвестных довольно обычными. В 1966 году гарвардский невролог Дэвид Посканзер отмечал наличие “двойного санитарного градиента”, связанного с географической широтой и материальным благополучием и лежащего в основе необычной эпидемиологии рассеянного склероза. Продолжавшееся распространение рассеянного склероза, более чем с чем-либо другим совпадало с внедрением внутренних трубопроводов по всей северо-западной Европе и Северной Америке. Исключением, подтверждающим это правило, как отмечал Посканзер, была низкая заболеваемость рассеянным склерозом в Японии – стране, расположенной в довольно высоких широтах и отличающейся высоким уровнем материального благополучия, но выделяющейся своей антисанитарной практикой использования “ночной почвы” (человеческих экскрементов) в качестве сельскохозяйственного удобрения23. В семидесятых годах, в соответствии с результатами исследований Посканзера, в распространении рассеянного склероза многие обвиняли матерей-домоседок, помешанных на поддержании идеальной чистоты у себя дома.
Эпидемиологи обнаружили сходные градиенты, связанные с материальным благополучием, и в распространении других аутоиммунных заболеваний. Самый яркий пример касался сахарного диабета первого типа (или инсулинозависимого диабета), который развивается оттого, что иммунная система разрушает выделяющие инсулин клетки поджелудочной железы24. (Диабет второго типа, в свою очередь, вызывается инсулиноре-зистентностью, то есть неспособностью организма адекватно реагировать на нормальное количество инсулина, которая часто развивается после многих лет ожирения.) В 2000 году Патрисия Маккинни, эпидемиолог-педиатр из Университета Лидса, представила данные, свидетельствующие о том, что риск развития диабета первого типа обратно пропорционален суммарному времени, проводимому ребенком в яслях, и числу других присутствующих там детей. Если в яслях было более двадцати других детей, риск развития у ребенка диабета этого типа снижался вдвое25. А в 2004 году патолог Джим Моррис и статистик Аманда Четвинд из Ланкастерского университета показали, что столь же высокая защищенность от диабета свойственна детям, которые или спали в одной комнате с другими детьми, или регулярно и с раннего возраста контактировали с домашними питомцами или сельскохозяйственными животными26.
Распространенность многих из примерно восьмидесяти различных аутоиммунных заболеваний, насчитывавшихся к концу XX века, возросла за предшествующие пятьдесят лет втрое или вчетверо, другие же возникли вообще ниоткуда27. Кроме рассеянного склероза и диабета сюда относятся волчанка и склеродермия, при которых иммунная система начинает широкую атаку на соединительные ткани; ревматоидный артрит, разрушающий ткани суставов; поражающая мышцы миастения, характерным признаком которой служит разрушение рецепторов в нервно-мышечных связях; болезнь Аддисона, при которой атакуются клетки надпочечников, и болезнь Хасимото, при которой разрушаются клетки щитовидной железы. От всех аутоиммунных заболеваний в совокупности в странах Европы и Северной Америки сегодня страдает от одной двенадцатой до одной двадцатой населения28. Как и в случае с аллергическими заболеваниями, предрасположенность, судя по всему, наследуется. Например, один из трех человек, страдающих волчанкой, страдает также от одного или двух других аутоиммунных расстройств, а у каждого второго есть хотя бы один родственник, у которого тоже диагностировано какое-либо аутоиммунное заболевание29.
Очевидно, что бы ни было причиной поразившей западные страны эпидемии аллергических заболеваний и астмы, связанных с иммунным ответом типа Th2, эта причина действовала не в ущерб аутоиммунным реакциям, связанным с ответом Th1. Судя по всему, что-то скорее ослабило тормоза в обоих иммунных локомотивах, последствия же этого ослабления зависели от генетической предрасположенности каждого человека. Но в то самое время, когда концепции “защитных” инфекций и дисбаланса систем Th1 и Th2 были отвергнуты, гигиеническая гипотеза возродилась в новой форме благодаря растущему объему данных, указывающих на то, что на самом деле болезнетворные микробы могут играть здесь меньшую роль, чем полчища безвредных микробов, с которыми нашей иммунной системе приходилось иметь дело на протяжении сотен миллионов лет – то есть началось это задолго до того, как развитие цивилизации сделало инфекционные заболевания частью нашей повседневной жизни.
Дети в хлеву
Эрика фон Мутиус шагает по длинному, просторному коридору, ведущему в ее астмологическую клинику в детской больнице при Мюнхенском университете, и звук от ее низких каблуков, глухо стучащих по блестящему линолеуму, отдается эхом от ярко-желтых металлических шкафов, тянущихся от пола до потолка. В кабинете, где она принимает пациентов, шторы с цветочным орнаментом и денежное дерево на подоконнике помогают смягчить строгую обстановку, чему способствует и сама Эрика с ее пышными и непокорными короткими волосами и белым халатом, оживленным значками: с золотым солнцем, с прыгающим ребенком и с бабочкой.
На столе для обследования сидит раздетый до пояса круглолицый золотоволосый младшеклассник, первый из процессии весьма опрятных детишек, которых ей предстоит сегодня принять. “Guten Morgen”, – говорит Эрика с улыбкой, вызывающей робкую улыбку и на лице пациента. Мать ребенка рассказывает о причине визита: ночном кашле и дневной одышке. Эрика просит мальчика глубоко вдохнуть, прижимая к его груди холодный металл стетоскопа. “Gut, gut”, – ободряет она его, прислушиваясь к знакомым хрипам в груди.
Когда Эрика еще только начинала учиться на педиатра в той же самой больнице в середине восьмидесятых, она быстро осознала все плюсы специализации на аллергии и астме. Переплетающиеся кривые в графиках частот обоих заболеваний в то время уже начали свой стремительный подъем, гарантируя, что у нее не будет недостатка в юных пациентах. На научном же фронте теории, объясняющие причины подъема, были столь же многочисленны, сколь редки строгие эпидемиологические данные. “Работая в астмологической клинике, я поняла, как это важно, – говорит она. – Я поняла, какая это ужасная болезнь не только для детей, но и для их перепуганных родителей”.
В 1989 году, уже обучаясь на аллерголога, Эрика начала сравнивать заболеваемость аллергиями и астмой у детей из урбанизированного Мюнхена и у детей, живущих в маленьких населенных пунктах в окрестной сельской местности. В то время большинство исследователей винили загрязнение воздуха в том, что среди детей из мегаполисов заболеваемость астмой намного выше, хотя разница могла быть связана и с любыми другими различиями в условиях среды и образе жизни. Эрика надеялась определить эти факторы, используя данные семейных анкет и анамнезов. Но полученные результаты ее разочаровали. Хотя аллергия и астма, судя по всему, и были распространены немного меньше за пределами мегаполиса, они отнюдь не были редки. Еще больше удивляло то, что одна из подгрупп загородных детей отличалась намного более низкой частотой этих заболеваний. “Когда мой коллега-статистик все подсчитал, – говорит Эрика, – он сказал мне: “Здесь только один большой сигнал. По всей видимости, защищены дети, живущие в домах с угольным или дровяным отоплением”. Это было совершенно непонятно. Если загрязняющие воздух виды отопления и могли как-то влиять на развитие астмы, то они должны были бы способствовать ему, а не защищать от болезни. “Стоит ли говорить, что мы не стали публиковать эти результаты, – добавляет Эрика. – Они слишком противоречили всем устойчивым представлениям тех времен”.
Пару месяцев спустя Эрика забыла и думать о сравнении сельских и городских детей: 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена. Воссоединение Германии, как сразу поняла Эрика, давало ей беспрецедентную возможность сравнить уровень распространения астмы и аллергии у двух этнически идентичных популяций, живших в принципиально разных условиях. В то время немногие страны превосходили ФРГ по уровню стандартов качества воздуха и контроля промышленных выбросов. А ГДР задыхалась под гнетом загрязнения, связанного с ее ролью промышленного центра разваливавшегося Восточного блока. “Если говорить о загрязнении, то в Европе просто не было другого такого места, как Лейпциг или Галле”, – вспоминает Эрика.
В течение следующих двух лет вместе с небольшой командой медсестер и врачей она провела анализы на аллергию и астму у семи тысяч пятисот с лишним детей с обеих сторон бывшей границы ФРГ и ГДР, сопоставляя полученные результаты с подробными анамнезами и данными заполненных родителями анкет для выявления признаков аллергии (от экземы до сенной лихорадки) и различий в образе жизни. На этот раз результаты, полученные статистиками, оказались еще удивительнее. Загрязнение воздуха, очевидно, и в самом деле сказывалось на здоровье восточногерманских детей, судя по более высокой заболеваемости бронхитами – признаку повреждения дыхательных путей, сходного с таковым, наблюдаемым у курильщиков. Но данные статистического анализа говорили о том, что те же дети втрое реже страдали сенной лихорадкой и были на треть меньше подвержены риску развития астмы, чем их западногерманские ровесники. Дальнейший анализ обнаружил корреляцию астмы с более высокой заболеваемостью аллергиями на респираторные аллергены, такие как клещи домашней пыли, перхоть животных и пыльца растений. Оказалось, что среди западногерманских детей от аллергии страдает заметно больше трети, в то время как среди восточногерманских – меньше одной пятой.
Когда в 1994 году результаты исследования Эрики фон Мутиус и ее коллег были опубликованы в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, они сразу привлекли к себе внимание. Многие отвергали их как невероятные. “Я была тогда простым безвестным врачом”, – вспоминает Эрика. Но другие усмотрели в них возможную параллель с недавно снискавшей популярность гигиенической гипотезой Строна, где упор делался на защитную роль контактов с инфицированными детьми. “ГДР была социалистической страной, и почти все восточногерманские матери работали, а детей отдавали в ясли с младенчества”, – объясняет Эрика. А в яслях и детских садах дети постоянно подхватывали друг от друга простуды и другие инфекции.
Эрику заинтересовала идея Строна, что недостающим звеном могут быть детские инфекции. Но, вернувшись в Лейпциг через пять лет после воссоединения Германии, она обнаружила, что хотя среди старших учеников начальной школы астма по-прежнему встречалась редко, заболеваемость сенной лихорадкой выросла вдвое, а экземой – в полтора раза30. Большинство из детей, родившихся еще до воссоединения, провели младенческие годы в яслях. Что изменилось с того времени, так это то, что их семьи быстро переняли западный стиль жизни, в том числе резко изменили свой рацион, перейдя с традиционных сельскохозяйственных продуктов, таких как непастеризованные молочные изделия и немытые, недавно собранные овощи, на импортируемую и преимущественно обработанную пищу, такую как маргарин или консервированные овощи.
Тем временем разговор с коллегой, работавшей на другом конце Альп, напомнил Эрике необычные результаты ее первого исследования, в ходе которого странным образом выяснилось: заболеваемость астмой понижена у детей, живущих в домах, отапливаемых дровами или углем. Швейцарский эпидемиолог Шарлотта Браун-Фарлендер провела сходное исследование заболеваемости аллергиями у полутора с лишним тысяч детей, живущих в сельской местности. По настоянию одного местного врача она включила в семейную анкету вопрос о ведении фермерского хозяйства. Этот деревенский доктор утверждал, что дети, живущие на молочных фермах и свинофермах, в тех краях не страдают сенной лихорадкой. Его наблюдение подтвердилось. Исследование показало: у детей фермеров аллергии развивались втрое реже, чем у их ровесников, чьи родители вели городской образ жизни. Причем чем больше фермерской работы выполняли родители, тем лучше: дети тех из них, кто занимался исключительно фермерством, страдали от аллергии вдвое реже, чем дети тех, кто трудился на ферме неполный рабочий день31. “Все вдруг встало на свои места, – говорит Эрика о своих давних результатах, – потому что ведение фермерского хозяйства в значительной части Европы совпадает с использованием дровяного или угольного отопления, традиционного для старых ферм”. Что же именно в жизни фермеров давало защиту их детям?
В 1998 году Эрика фон Мутиус и Шарлотта Браун-Фарлендер начали новое исследование, отправив небольшую армию студентов и медработников в сельские районы Баварии и Швейцарии, чтобы опрашивать фермеров и собирать образцы крови у членов их семей, а также собирать пылесосом пыль в хлевах и конюшнях, на кухнях, в детских кроватках и из воздуха в домах. Единственным фактором стиля жизни, связанным с низкой заболеваемостью астмой и респираторными аллергиями, оказалось раннее и частое пребывание в местах содержания животных. У детей, проводивших первые пять лет жизни рядом с сельскохозяйственными животными, частота таких заболеваний оставалась меньше одного процента, то есть в десять раз ниже, чем у городских детей32. Кроме того, изучая образцы пыли, исследователи обнаружили отчетливую обратную связь между аллергией или астмой и уровнем липополисахаридов – химических маркеров присутствия бактерий – в детских матрасах33. Наиболее высокие показатели содержания липополисахаридов соответствовали наиболее низким показателям частоты аллергических расстройств, в том числе астмы.
Большие семьи, ясли и детские сады, хлева и конюшни – искомой общей чертой, судя по всему, оказывались бактерии, в изобилии размножающиеся в грязи, в пеленках и подгузниках, а также в навозе. Другие новые исследования показали, что эффект защиты от аллергии, связанный с ранними контактами с домашними питомцами, намного сильнее в случае с собаками, нежели с кошками. Это заставляло заподозрить принципиальную разницу в том, где и что домашний питомец обнюхивает или облизывает34. Добавив к этому предположение о роли “фекального фактора”, итальянский эпидемиолог Паоло Матрикарди опубликовал в 2000 году результаты своего исследования антител, обнаруженных в крови 1659 новобранцев итальянских ВВС. Антитела по своей природе отражают прежние контакты человека с возбудителями респираторных заболеваний (таких как корь, свинка или краснуха) или фекальнооральных инфекций, которые распространяются через воду и руки, загрязненные невидимыми микробами из кишечника зараженного человека. Матрикарди искал по наличию антител следы взаимодействия с такими представителями последних, как желудочная бактерия Helicobacter pylori, кишечный паразит токсоплазма (Toxoplasma gondii) и вирус гепатита A. Лишь немногие из новобранцев заболевали в результате контакта с последними тремя микробами, которые обычно заражают людей, не вызывая у них симптомов болезни. Но Матрикарди обнаружил, что среди новобранцев, контактировавших со всеми тремя или со всеми, кроме одного, из этих микробов, аллергиями или астмой страдали менее 7 %. А среди тех, кто никогда не встречался ни с одним из этих микробов, аллергическими расстройствами страдали более 20 % – разница втрое!35
Гигиеническая гипотеза в том виде, в каком она начала вырисовываться в конце XX века, сильно отличалась от той, которую выдвинул Строн в восьмидесятых годах. Согласно этой гипотезе в ее позднем варианте, от расстройств в работе иммунной системы людей предохраняют не болезни, а ранние и постоянные контакты с микробами, особенно с теми бактериями, которых дети регулярно вдыхают и проглатывают, когда имеют дело с другими детьми, животными или неочищенной водой. Или, быть может, точнее будет сказать, что недостаток контактов с такими микробами, скорее всего, способствует развитию иммунных расстройств на фоне предрасположенности к подобным расстройствам. И все же иммунологи всего мира понимали, что они сделали лишь первые шаги в познании регуляторных механизмов, которые в норме держат иммунную систему под контролем. Идее, что контакт с бактериями может приводить к чему-либо, кроме направленного на борьбу с инфекцией воспаления, еще предстояло пробить себе дорогу в учебники. Эта идея осталась предметом некоторых разногласий, несмотря на растущие объемы опубликованных данных, свидетельствующих в ее пользу.
Обучение толерантности
В 1989 году, когда Дэвид Строн опубликовал свою гигиеническую гипотезу, а Эрика фон Мутиус нашла первые свидетельства защищенности фермерских детей от аллергии, совершался и еще один научный прорыв. Новоиспеченный стэнфордский профессор Дейл Умэцу, иммунолог, еще недавно работавший постдоком в Гарварде, только что опубликовал данные, доказывающие, что клетки Th2 работают и в человеческом организме36.
В течение следующего десятилетия, совмещая лабораторные исследования с медицинской практикой, Умэцу все больше увлекался идеей, что инфекция (или что-то похожее на инфекцию) может отвращать иммунную систему от ответа Th2 и тем самым защищать от мучительных приступов астмы, от которых страдали его пациенты в Детской больнице Люсиль Паккард при Стэнфордском университете.
Проводя в своей лаборатории эксперименты на склонных к аллергии мышах, он разработал вакцину на основе убитых клеток желудочно-кишечного микроба листерии (Listeria monocytogenes). В последнее время эта бактерия стала печально известна своей способностью вызывать пищевые отравления, когда она в массе размножается в консервированных мясопродуктах, например в сосисках. Но на протяжении большей части человеческой истории (вплоть до последней четверти XX века) почти все люди сталкивались с этой бактерией в небольших количествах: в воде, в свежих продуктах, а также в почве и пыли в местах содержания животных. Исследования показали, что листерия способна вызывать сильный неаллергический иммунный ответ, то есть ответ типа Th1, и Умэцу предположил, что контакт с этой бактерией может позволить отвратить склонную к аллергии иммунную систему от противоположного ответа – типа Th2. В 1998 году его исследовательская команда сделала экспериментальную противоаллергическую “вакцину”, соединив убитые клетки листерии с действующим аллергеном – в данном случае белком, содержащимся в некоторых морепродуктах. Исследователи установили, что единственная инъекция этого препарата защищает от аллергии мышей, которые до этого реагировали на данный аллерген так сильно, что следовые его количества могли вызвать у них смертельный анафилактический шок37.
В соответствии с представлениями того времени Умэцу и его коллеги думали, что волшебное исцеление от аллергии с помощью листерии как-то связано с восстановлением баланса иммунных качелей Th1 /Th2. Но когда они попытались ввести клетки Th1 мышам, склонным к астме и аллергии, то были поражены: такая инъекция только усугубляла воспаление, развивающееся в легких животного38. Эти поразительные результаты помогли Умэцу по-новому взглянуть на противовоспалительный эффект препарата бактериальных клеток.
Умэцу рассуждал так: само по себе то, что легкие не страдающих аллергиями мышей – или людей – не демонстрируют сильного воспаления, еще не означает, что иммунная система не распознаёт аллергены и не реагирует на них. Исследования крови показали, что у всякого человека имеются антитела почти ко всему, что содержится в окружающей среде. Умэцу понял: иммунная система человека, не страдающего аллергиями, не то чтобы не замечает таких антигенов, а распознаёт их как безопасные и активно реагирует, повышая толерантность к ним за счет подавления воспалительных реакций. А значит, источником аллергии было не нарушение равновесия между иммунными клетками Th1 и Th2 (и те и другие вызывают воспаление своего типа), а недостаточная толерантность к аллергенам.
Чтобы проверить это, в 2004 году Умэцу подробнее изучил клетки Th1, реагировавшие на его вакцину из листерии и аллергена у подопытных мышей. Оказалось, что это не обычные T-хелперы. Они не выделяли тех сигнальных молекул, которые указывают иммунной системе, какие зараженные или иным образом поврежденные клетки собственного организма ей атаковать. Эти клетки Th1 выделяли интерлейкин-10 – универсальный сигнал, приказывающий иммунной системе “отменить боевую готовность”39. Этим свойством они напоминали другую недавно открытую породу иммунных клеток, получивших название регуляторных T-клеток, или клеток T-reg, помогающих удерживать иммунную систему от атаки тканей собственного организма – то есть от развития аутоиммунных реакций.
Класс регуляторных T-клеток за год до этого открыли японские иммунологи40. Кроме того, они показали, что порча главного регуляторного вещества (Foxp3) клеток T-reg вызывает развитие фатального сочетания сильнейших аллергий, воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта и аутоиммунных расстройств41. В дальнейшем в лаборатории Умэцу разработанную там листериево-аллергенную вакцину с успехом использовали для выработки толерантности к аллергенам, содержащимся в таких продуктах, как яйца, орехи и плесень, предотвращая развитие угрожающих жизни респираторных и пищевых аллергий42. Что особенно важно, при участии этой лаборатории было показано, как безвредные бактерии, такие как убитые клетки листерии, могут способствовать выработке подобной толерантности. И сделать это удалось, задействовав не столь хорошо изученный, но намного более древний отдел иммунной системы.
Врожденный иммунитет
Т-клетки с их способностью узнавать и атаковать определенные антигены входят в состав так называемого адаптивного отдела иммунной системы. Адаптивная иммунная система работает поразительно эффективно: стоит ей однажды встретить определенный антиген, как в ней запускается производство долгоживущих клеток памяти, которые продолжают циркулировать по телу. Когда антиген опять покажет свое молекулярное лицо, эти клетки памяти начнут быстро размножаться, порождая целую армию клонов. Благодаря этому вакцины и некоторые разновидности инфекций и вызывают выработку длительного и даже пожизненного иммунитета.
Механизмами адаптивного иммунитета объясняется то, как иммунная система реагирует на угрозы, с которыми она уже сталкивалась. Но на протяжении большей части XX века иммунологи плохо понимали, каким образом “наивные” (то есть необученные) Т-клетки отличают антигены, которые стоит атаковать (связанные с болезнетворными микробами или пораженными клетками), от антигенов, по отношению к которым нужна толерантность (связанных с едой, мусором и пылью, встречающимися нам в повседневной жизни, а также с полезными бактериями, живущими у нас в толстой кишке).
Затем, в конце восьмидесятых и в начале девяностых, исследователи открыли древнее семейство белков, назвав их толл-подобными рецепторами43. Их обнаружили на поверхности иммунных “клеток-разведчиков”, работа которых состоит в том, чтобы ловить чужеродные вещества и предъявлять их генерал-майорам – Т-клеткам. В ходе дальнейшего изучения этих белков ученые поняли, что толл-подобные рецепторы представляют собой молекулы распознавания образов, реагирующие на уникальные для микробов генетические маркеры. Например, первые два открытых толл-подобных рецептора, TLRi и TLR2, связываются с липопептидами (жирными белками) на поверхности грамположительных бактерий. Активацию TLR3 вызывает вирусная РНК. TLR4 узнаёт характерные выступы на поверхности липополисахаридной оболочки грамотрицательных бактерий. TLR5 реагирует на химическое прикосновение жгутика (то есть “хвоста”) плавающих бактерий. Толл-подобные рецепторы еще одной разновидности связываются с “голыми генами” (неметилированной ДНК), которыми пользуются все бактерии и многие вирусы.
У растений и беспозвоночных животных толл-подобными рецепторами усыпана поверхность клеток многих типов. Около 400 миллионов лет назад в ходе эволюции адаптивного иммунитета рыб и высших позвоночных клетки, несущие толл-подобные рецепторы, взяли на себя особую роль: они начали ловить микробов и другие чужеродные вещества и предъявлять их предварительно обработанные останки T-клеткам в качестве антигенов44. Важнейшие из этих антиген-предъявляющих клеток – напоминающие осьминогов дендритные клетки, которые концентрируются под слизистыми оболочками дыхательной системы и пищеварительного тракта, протягивая свои длинные щупальца наружу, сквозь нежную выстилку соответствующих органов, и собирая пробы всевозможных бактерий, частиц пищи и других веществ, проносящихся или ковыляющих мимо45.
После открытия толл-подобных рецепторов иммунологи увидели в дендритных клетках разведчиков и военных советников. Исследования показали, что эти клетки не просто предъявляют антигены T-клеткам для распознавания, но и производят при этом выплеск сигнальных цитокинов, которые позволяют им сообщать, заслуживает ли атаки данный антиген46.
Затем, в 2001 году, иммунологи из Рокфеллеровского университета сообщили, что научились заставлять дендритные клетки выполнять ровно противоположную функцию – выключать адаптивный иммунный ответ. Им удалось это сделать, в течение долгого времени многократно стимулируя толл-подобные рецепторы этих клеток47. Дальнейшие исследования подтвердили это неожиданное открытие, показав, что при отсутствии явных признаков опасности (таких как повреждения тканей) дендритные клетки реагируют на длительное присутствие бактериальных продуктов, таких как липополисахариды, выделяя успокаивающий цитокин толерантности – интерлейкин-1048. Это, в свою очередь, приводит к созреванию наивных Т-клеток, которые при этом превращаются не в вызывающие воспаления клетки Th1 или Th2, а в регуляторные T-клетки, передающие сигнал, выделяя еще больше успокаивающих иммунную систему цитокинов49.
Когда Дейл Умэцу и его стэнфордские коллеги вылечивали мышей от астмы с помощью вакцины из убитых клеток листерии, они обнаружили, что можно извлечь дендритные клетки из организма мыши, которую лечили такой вакциной, ввести эти клетки другой мыши, страдающей от астмы, и вылечить ими от астмы и вторую мышь50. Кроме того, они обнаружили, что астму у мышей можно облегчать, вводя больным мышам всего лишь обрезки бактериальной ДНК51. Умэцу говорит, что это демонстрирует возможность выключения вызывающего астму воспаления под действием бактерий или их ДНК не за счет простого смещения равновесия от аллергического иммунного ответа Th2 в сторону убивающего клетки ответа Th1, а за счет использования недавно открытого сигнального пути толерантности.
Эти данные прекрасно согласуются с данными Эрики фон Мутиус о здоровье фермеров и следующим из них выводом, что ранний и постоянный контакт с бактериями, присутствующими в постельных принадлежностях и в воздухе, способствует защите детей от аллергии и астмы52. Это подтвердили и дальнейшие исследования семей фермеров, показавшие, что у тех сравнительно немногих фермерских детей, у которых аллергии или астма все же развиваются, часто имеются мутации в генах толл-подобных рецепторов, регистрирующих присутствие бактерий53.
В 2005 году Умэцу вернулся в Гарвард, где он теперь продолжает свои исследования тайн иммунной системы с помощью убитых бактерий в стремлении разработать действенное средство от аллергии и астмы. При этом он внимательно следит за ведущейся в Великобритании работой, результатом которой может стать еще более необычная и еще более полезная разновидность бактериальной вакцины, чем его препарат из убитых клеток листерии.
Вакцина из грязи
Джон и Синтия Стэнфорд вернулись в Милл-хаус, свой фермерский дом XVIII века, ради небольшой передышки между двумя заграничными поездками. В это утро в конце зимы 2006 года процессия идущих к ним пациентов начинается еще до утреннего чая. Джон Стэнфорд, недавно вышедший на пенсию с должности заведующего отделением микробиологии Медицинской школы Университетского колледжа Лондона, ходит во фланелевой рубашке и плотных брюках. Пышная белая борода и взъерошенные волосы усугубляют производимое им впечатление жизнерадостной эксцентричности. Стоя в уютной натопленной кухне, он наклоняется, подставляя для поцелуя щеку первой посетительнице – полной, румяной английской бабушке в коричневой вязаной кофте и юбке с рисунком “в елочку”. Сью Гамильтон-Миллер ходит на бактериальные инъекции уже больше двух лет, после того как у нее диагностировали неоперабельную меланому с метастазами в легких. “Меня уже везли в операционную, когда ко мне подошел доктор с результатами рентгена, – рассказывает она. – Он сказал: “Мне очень жаль. Оперировать нет смысла”.
Синтия Стэнфорд ведет Сью в гостиную, где и стены и пол покрыты слоями персидских ковров. Синтия маленькая и стройная, в отличие от высокого и широкоплечего мужа. Их делает похожими некогда бледная, как у настоящих англичан, кожа, теперь покрытая пятнами плотного загара, полученного за десятки лет непростых путешествий по странам третьего мира. Когда, пригнув голову в дверном проеме, в гостиной появляется Джон, он уже держит в руках шприц, заполненный убитыми нагреванием клетками Mycobacterium vaccae в растворе борной кислоты, помогающем расщепить микроба на составляющие. Сью снимает кофту и закатывает рукав, открывая дюжину небольших розовых вздутий, идущих вдоль плеча. Это заживающие следы прошлых инъекций. “Они раздуваются с каждым новым уколом, – говорит она, – а потом опять спадают”.
Сью обратилась к Стэнфордам, когда узнала от своего онколога, что стандартные методы лечения сулят мало надежды, учитывая степень запущенности ее рака. Муж Сью, Джереми, специалист по медицинской микробиологии из Королевской бесплатной больницы в Лондоне, следил за иммунологическими исследованиями Стэнфордов уже не один год, и Джон с Синтией охотно включили Сью в список своих пациентов, получающих экспериментальную вакцину в порядке благотворительной помощи.
Уже через несколько недель после первой инъекции M. vaccae анализы показали, что рост опухолей у Сью остановился. Затем, в ходе курса еженедельных, а затем ежемесячных инъекций, опухоли стали уменьшаться без всякой химиотерапии и лучевой терапии. К концу года рентгеноскопия грудной клетки показала, что опухоли в легких сжались до половины своего исходного размера. Сью продолжает ходить к Стэнфордам на дополнительные инъекции того, что британские СМИ окрестили “вакциной из грязи” (dirt vaccine). Список недугов, от которых она должна помогать, вызывает искушение сравнить ее с шарлатанской панацеей: это не только рак, но и множество аллергических расстройств, в том числе астма и несколько разновидностей аутоиммунных заболеваний, и даже туберкулез и проказа. “Причина всех этих заболеваний в дисбалансе иммунной системы, – утверждает Джон, – в том, что иммунный ответ, вместо того чтобы очищать тело от пораженных клеток, оказывается недейственным или разрушительным”.
Разработка метода иммунотерапии на основе Mycobacterium vaccae продолжается с начала семидесятых, когда Джон и Синтия вместе с пятью своими маленькими детьми исколесили всю Уганду, собирая образцы почвы. Они искали в почве что-нибудь, что могло бы объяснить, почему вакцина БЦЖ (BCG, Bacillus Calmette-Guerin – Бацилла Кальметта – Герена) так эффективно защищает угандийских детей от туберкулеза и проказы. Mycobacterium tuberculosis и Mycobacterium leprae, возбудители этих болезней, входят в число полудюжины болезнетворных представителей обширной группы почвенных бактерий, отличающихся восковыми, водоотталкивающими клеточными стенками. БЦЖ, самая популярная вакцина во всем мире, содержит ослабленный штамм еще одной микобактерии, M. bovis, которая может вызывать туберкулез у крупного рогатого скота. Когда вакцина БЦЖ помогает, она обеспечивает выработку перекрестного иммунитета к человеческому туберкулезу, точно так же как полученная Эдвардом Дженнером знаменитая вакцина из коровьей оспы защищала людей от натуральной оспы.
Но вакцина БЦЖ с давних пор обескураживала врачей широкой изменчивостью своего защитного действия. Она оказывается эффективнее у младенцев, чем у детей постарше и взрослых, а степень даваемой ею защищенности у населения в целом варьирует от 80 % в одних странах до о % в других54. Даже в пределах Уганды, страны размером со штат Миннесота, эффективность этой вакцины варьирует в зависимости от региона, достигая максимума на труднодоступных берегах озера Кьога – неглубокого внутреннего водоема, где люди из кочевых племен купаются и откуда берут воду для питья.
Исследователи туберкулеза, такие как коллега Стэнфордов Джон Грейндж, уже давно высказывали предположение, что изменчивость действия БЦЖ может быть отчасти связана с чем-то вроде природной повторной иммунизации, при которой благодаря контакту с безвредными микобактериями из окружающей среды у человека вырабатывается перекрестный иммунитет55. Большинство микобактерий, многочисленных в топких, богатых кислородом болотах и на заболоченных берегах, живут не заражением людей, а расщеплением и переработкой растительных остатков. Принимая это во внимание, Стэнфорды начали обследовать почву и воду Уганды по сеточной схеме в поисках одной или нескольких разновидностей микобактерий, которые сильно коррелировали бы с хорошей реакцией на БЦЖ у местных детей. Из грязи на берегах озера Кьога Джон выделил M. vaccae. Из всех микобактерий, живущих в почве у озера Кьога, объясняет он, именно у M. vaccae имеется та сложная, богатая антигенами клеточная стенка, которая, по его мнению, должна вызывать особенно сильный иммунный ответ.
Поначалу, работая с M. vaccae, Джон стремился прежде всего создать вакцину от туберкулеза и проказы, которая была бы эффективнее БЦЖ или сама по себе, или в комбинации с ней. В обоих направлениях им были получены умеренно хорошие результаты56. Другая, более амбициозная его задача состояла в том, чтобы научиться с помощью M. vaccae очищать от инфекции организмы людей на ранних этапах развития этих болезней. И M. tuberculosis, и M. leprae вызывают хроническое прогрессирующее заболевание лишь у 10 % зараженных. У остальных 90 % сильный иммунный ответ типа Th1 очищает организм от инфицированных тканей. Прогрессирующее разрушение легких при хроническом туберкулезе и обширное повреждение костей, хрящей и нервной системы при проказе развивается в тех случаях, когда иммунная система выбирает смешанный ответ типов Th1 и Th2, в результате чего разрушаются ткани, окружающие инфицированные клетки, постоянно отгораживая инфекцию, вместо того чтобы ее уничтожить. Джон надеялся, что если реакция иммунной системы на M. vaccae будет достаточно сильной, то инъекция убитых бактерий может оказаться одним из способов переориентировать иммунную систему пациента в направлении желаемого целебного ответа. Тем самым это могло бы дать надежду в тех случаях, когда чрезвычайно устойчивый к медикаментам штамм не удается уничтожить антибиотиками.
В 1975 году, перед тем как начать инъекции своей экспериментальной вакцины кому-нибудь другому, Стэнфорды ввели ее друг другу. “Если бы мы не были готовы применять ее на себе, мы едва ли могли бы предлагать ее другим людям как безвредную”, – объясняет Синтия. Впоследствии оказалось, что она была, по-видимому, первым человеком, которому помогла эта вакцина. “После того как небольшое розовое вздутие на месте инъекции исчезло, я совсем забыла о ней, – вспоминает она, – пока мы снова не оказались в Англии, холодной, сырой зимой, когда я заметила, что у меня больше не развивается, как обычно, синдром Рейно”.
Синдром Рейно, аутоиммунное расстройство, при котором у людей нарушается кровоснабжение конечностей, может приводить к болезненному онемению пальцев рук и ног, обычно в качестве реакции на холод или стресс. Этим наследственным заболеванием страдали многие в семье Синтии, поэтому в течение всего следующего года ее мать, сестра и младшая дочь Томасина раз в несколько месяцев по очереди получали инъекции новой вакцины. И им тоже полегчало. “Тогда мы заметили, что исчезают и другие расстройства”, – говорит Синтия. У ее матери начал регрессировать рак спинного мозга, у сестры прошел артрит, а у дочери на два месяца прекратилась астма и уже никогда не начиналась в полную силу. Врачи, испытывавшие вакцину из M. vaccae в азиатских лепрозориях и туберкулезных диспансерах, тоже отмечали приносимую ею неожиданную пользу. Из Индии поступали сообщения о пациентах, у которых после вакцинации проходили симптомы псориаза57. Это аутоиммунное расстройство развивается, когда иммунная система убивает здоровые ткани кожи и мертвые клетки накапливаются на ее поверхности в виде шелушащихся серебристых бляшек.
Полезные эффекты вакцины из M. vaccae уже имели прецедент. Еще в шестидесятые годы врачи сообщали, что у детей, привитых БЦЖ, наблюдалась пониженная заболеваемость аллергиями, астмой, аутоиммунными расстройствами, такими как сахарный диабет первого типа, и даже лейкемией58. С конца семидесятых вакцину БЦЖ использовали даже как средство от рака, особенно эффективное против небольших опухолей при поверхностном раке мочевого пузыря59. Работавший в том же направлении американский хирург-ортопед Уильям Коули первым стал применять бактериальные вакцины для лечения саркомы – злокачественных опухолей костей, мышц и других соединительных тканей. Вакцина, которую использовал Коули, состояла из смеси убитых клеток Streptococcus pyogenes и Serratia marcescens60. Американская медицинская ассоциация одобрила использование этой вакцины еще в 1936 году, но она вышла из употребления в течение следующего десятилетия в связи с растущей популярностью радиотерапии и химиотерапии61. Более долговечной оказалась интересная идея, что контакт с определенными бактериями, будь они живыми или мертвыми, может каким-то образом побуждать иммунную систему к эффективным действиям. Стэнфорды пришли к заключению, что M. vaccae – лишь одна из многих бактерий, живущих в природной среде, от которых у нашей иммунной системы выработалась зависимость, мешающая ей оптимально работать в их отсутствие. “Нам удалось выявить целый ряд родственных бактерий, способных вызывать подобные полезные изменения в работе иммунной системы”, – говорит Джон.
Вскоре после того как в 1975 году Стэнфорды привезли M. vaccae из Уганды, Джон начал сотрудничать со своим коллегой по Университетскому колледжу Грэмом Руком – иммунологом, интересовавшимся механизмами, лежащими в основе взаимодействия бактерий с иммунной системой. Их первые эксперименты на подопытных животных и несколько небольших клинических испытаний подтвердили, что инъекция мертвых клеток M. vaccae может не только помогать при аллергиях и астме, но и повышать способность иммунной системы бороться с раком62. В 1992 году при поддержке Университетского колледжа Лондона Стэнфорд и Рук организовали открытую акционерную компанию SR Pharma, через которую инвесторы могли финансировать ряд сложных клинических испытаний, необходимых, чтобы сделать из M. vaccae полноценное лекарственное средство. Обнадеживающие результаты первых испытаний и детективная история открытия вакцины из M. vaccae стали поводом для документальных фильмов и журнальных статей, посвященных этой “вакцине из грязи”, с заголовками вроде “Зовите микробов” или “Путь едят грязь!”63.
Затем появились обескураживающие результаты нашумевшего в прессе исследования больных с запущенным раком легких, параллельно проходивших стандартную процедуру химиотерапии. Это исследование не показало достоверного повышения продолжительности выживания – лишь заметно более высокое “качество жизни” у пациентов, получавших инъекции из M. vaccae. Представители этой группы, по данным исследования, чувствовали себя намного лучше и были намного активнее, бодрее, энергичнее и общительнее, чем те, кто вместо вакцины получал плацебо64.
Стэнфорды говорят, что независимая команда, нанятая для проведения этого исследования, напортачила с подбором испытуемых, объединив пациентов с разными формами рака легких. Повторный статистический анализ полученных результатов показал, что на самом деле у пациентов, страдающих аденокарциномой, вакцина из M. vaccae повышала продолжительность выживания на 135 дней, хотя и не повышала ее у больных плоскоклеточным раком легких65. Тем не менее публикация первоначальных результатов в 2001 году вызывала обвал стоимости акций SR Pharma66. Управляющие делами компании незамедлительно приняли меры по сокращению расходов. В течение года они свернули клинические испытания вакцины из M. vaccae, вывели Рука и Стэнфорда из состава главного совета директоров (хотя они по-прежнему остаются консультантами и акционерами компании) и изменили основное направление работ на поиски более передовых биотехнологий.
Рук несмотря ни на что продолжил работу в своей лаборатории. Стэнфорды, которым скоро предстояло выйти на пенсию, в 2004 году основали новую, частную компанию BioEos. Патент на M. vaccae принадлежал SR Pharma, поэтому они занялись разработкой вакцин для ветеринарного использования на основе полудюжины других близкородственных бактерий. Джон вводил один из препаратов клеток этих бактерий в злокачественные опухоли кожи пятилетней породистой верховой лошади, принадлежавшей его сестре. После четырнадцати инъекций тринадцать из четырнадцати опухолей полностью исчезли. На фотографиях видно, как самая большая из них, около трех дюймов в диаметре, сжалась до плоского шрама шириной около четверти дюйма. Через два года после последней инъекции ни одна из этих опухолей не выросла снова. В 2006 году Стэнфорды начали использовать ту же бактерию в более масштабном испытании на нескольких сотнях лошадей, страдающих от тяжелой аллергии на укусы мокрецов, которая каждую весну поражает миллионы лошадей. У четверти животных аллергия полностью прошла, достоверно ослабившись примерно у половины67.
Судя по предварительным данным, несколько других бактериальных препаратов Стэнфордов могут принести еще больше выгоды. Некоторые из них ускоряют рост поросят и телят, а также выращиваемых на фермах рыб и креветок68. Джон предполагает, что эти направляющие иммунную систему бактерии помогают животным избавиться от второстепенных инфекций, которые в противном случае подтачивали бы их силы. Если более масштабные испытания подтвердят полезность данных препаратов, подобные продукты могут стать альтернативой способствующим росту антибиотикам, которые недавно были запрещены Евросоюзом. “Тогда эти деньги можно было бы использовать для финансирования клинических испытаний лечения аллергии, астмы и других человеческих недугов, – говорит Джон, – в чем и состоит наша цель. А это – средство”.
Тем временем пациенты, страдающие раком, по-прежнему находят дорогу в дом Стэнфордов на юге Англии. В тот день в конце зимы вслед за Сью Гамильтон-Миллер, выздоравливающей от меланомы, приходили люди, страдавшие такими болезнями, как рак толстой и прямой кишки и поджелудочной железы. Один из них выбрал лечение M. vaccae вместо колостомии, а у двоих несколько лет назад были диагностированы неизлечимые стадии рака. Все они утверждали, что чувствуют, когда им нужна еще одна инъекция, потому что из их жизни исчезает какая-то искорка. “Это трудно объяснить, – говорит Сью, – но после укола я могу перемыть все окна и начинаю искать, что бы еще сделать”.
Когда Стэнфордов спрашивают о тех, кого не удалось спасти, они с горечью отмечают общую закономерность. “Когда им становится лучше, их врачи говорят им: “Ну вот, теперь у вас хватит сил для химиотерапии”, – рассказывает Синтия. – А следующее, что мы о них узнаем, – что они умерли”. Это не так уж удивительно, говорит Джон, учитывая, что химиотерапия печально известна подавлением иммунной системы. И все же Стэнфорды понимают, что, судя по их результатам, вакцина из M. vaccae может показаться чем-то вроде помеси амигдалина с транквилизаторами. “Вот в чем беда, не так ли? – говорит Синтия. – Может показаться, что мы полнейшие психи”.
Старые друзья
Тем временем давний коллега Стэнфордов Грэм Рук, по-прежнему работающий в Университетском колледже, в кабинете с видом на лондонский интеллектуальный район Блумсбери, все так же увлеченно занимается M. vaccae, хотя, вероятно, интересуется не столько использованием этого микроба в современной медицине, сколько механизмами его действия на иммунную систему. Стройный, прямой как жердь англичанин, Рук одевается в кембриджскую “униформу” – светло-голубую рубашку, брюки цвета хаки и свитер с вырезом лодочкой. Диаграммы, показывающие распределение сигнальных веществ иммунной системы и поверхностно-клеточных маркеров, покрывают ничем другим не украшенные стены кабинета, заваленного книгами и статьями. Рук, в отличие от Стэнфордов, продолжает активно работать консультантом в компании SR Pharma. В то же время благодаря должности в Университетском колледже в его распоряжении есть лаборатория, где полно студентов и аспирантов, с энтузиазмом продолжающих исследования M. vaccae.
Сотрудники Рука, как и их коллеги из лаборатории Умэцу в Соединенных Штатах, вводили убитых бактерий (в данном случае – M. vaccae) мышам, предрасположенным к аллергиям и астме, и отслеживали связи изменений в их симптомах с лежащими в основе этих изменений сдвигами в работе иммунных клеток разных типов. В ходе экспериментов они установили, что инъекция или впрыскивание в ротовую полость мыши дозы M. vaccae существенно снижает аллергические и астматические реакции, стимулируя при этом размножение регуляторных Т-клеток и дендритных клеток69.
Рук и его коллеги уже разобрали M. vaccae по кусочкам на химические составляющие, чтобы выделить то самое вещество, которое, судя по всему, и заставляет иммунную систему, ведущую себя неподобающим образом, исправиться и вести себя хорошо. Выделение данного ключевого вещества, или действующего начала, началось с наблюдения Рука, что если лишить бактерию ее водоотталкивающей оболочки, это лишает ее и противоаллергического эффекта. После чего Рук отправил экстракт веществ из клеточных оболочек M. vaccae коллеге-химику, чтобы тот разделил его на фракции. “Он разделял эти вещества на две порции по каким-то химическим критериям, и мы проверяли обе порции и снова отправляли ему ту из них, которая оказывала на мышей противоаллергическое действие, – говорит Рук, – после чего он разделял ее еще на две порции. Когда в конце концов он сказал нам: “Там уже мало что осталось”, – мы попросили его определить, что же это было за вещество”. Оказалось, что это единственный липид из восковой оболочки бактерии, который команда Рука с тех пор научилась синтезировать в лабораторных условиях, получив запатентованный впоследствии продукт SRP312 (то есть продукт 312 компании SR Pharma) – синтетический заменитель клеток бактерии M. vaccae.
Теперь в лаборатории Рука работают как с бактериальными клетками, так и с SRP312. Всего лишь два микрограмма (две миллионных доли грамма) этого вещества защищают мышь, страдающую аллергией на яйца, от тяжелых приступов астмы, обычно вызываемых у нее впрыскиванием небольшого количества содержащихся в яйцах белков. В дальнейшем Рук и его коллеги проанализировали состав легочного секрета мышей, подвергнутых воздействию SRP312, и обнаружили, что их ткани пропитаны интерлейкином-10 – противовоспалительным цитокином, концентрация которого оказалась примерно в десять раз больше, чем у мышей, не подвергнутых воздействию SRP312, и примерно в четыре раза больше, чем у мышей, которым вводили убитые клетки M. vaccae70.
Тем временем Рук пошел дальше, чем кто-либо другой, в переработке исходной гигиенической гипотезы Строна с ее акцентом на болезнях, ошибочность которого была в целом показана впоследствии. “Сама идея, что инфекции полезны, оказывается, если подумать, довольно глупой, – говорит он. – Инфекция предполагает воспаление, а воспаление само по себе вредно”. Рук предлагает различать болезнетворные инфекции и безвредное заселение организма нормальной микрофлорой и бактериями из окружающей среды, проходящими через него вместе с пищей и водой. Он также отмечает, что инфекционные болезни стали частью нашей повседневной жизни только при переходе к цивилизации с ее скученностью – порядка пяти тысяч лет назад, в то время как микобактерии из грязи и необработанной воды, а также лактобактерии и другие микроорганизмы, многочисленные на свежих или сохраняемых примитивными методами продуктах, сопровождали нас на протяжении всей нашей эволюции.
“Мне больше нравится идея “старых друзей” – организмов, сопровождающих нас все время, ежедневно и неизбежно”, – говорит Рук. По его словам, иммунная система, в соответствии со свойством природы принимать неизбежное, отреагировала на океан безвредных бактерий, которые наполняют нашу жизнь, выработкой регуляторных клеток, выделяющих биохимические сигналы толерантности. “Когда у нас нет нормального фонового уровня бактерий, в нашем организме нет и фонового уровня регуляторных цитокинов, и наша иммунная система начинает реагировать на все слишком бурно”.
Согласно разрабатываемой Руком теории иммунной регуляции, которую можно назвать теорией “старых друзей”, выделяют три важнейшие группы успокаивающих иммунную систему организмов. Первая – это многочисленные в природной среде бактерии. Вторая – это населяющие наше тело бактерии-комменсалы, или симбионты, состав которых может существенно нарушаться или меняться под действием антибиотиков. Как отмечает Рук, более полудюжины масштабных исследований подтвердили, что дети, принимавшие антибиотики в течение первого года жизни, в дальнейшем страдают аллергиями и астмой более чем вдвое чаще других, даже если антибиотики им прописывали для лечения каких-либо нереспираторных заболеваний71. Результаты экспериментов на животных, которые провели иммунологи Майри Новерр и Гэри Хаффнагл из Мичиганского университета, частично объясняют этот эффект. После того как кишечники мышей заселяли Candida albicans (дрожжеподобным грибком, живущим в пищеварительном тракте человека), а затем нарушали кишечную микрофлору этих мышей антибиотиками, животные становились крайне предрасположенными к респираторным аллергиям и астме. Исследователи пришли к выводу, что антибиотики позволяют C. albicans разрастаться в кишечнике, достигая вредного уровня и вызывая воспаление, которое делает организм предрасположенным к развитию аллергии72.
Другие изменения кишечной микрофлоры, не связанные с использованием антибиотиков, также могут вызывать у ребенка предрасположенность к аллергии. Например, у детей, рожденных с помощью кесарева сечения, заболеваемость пищевыми аллергиями вдвое выше, чем у детей, рожденных через родовые пути. Эти данные указывают на то, что бактерии из родовых путей и заднего прохода матери приносят пользу, которой обделены дети, извлеченные на свет хирургическим путем73. Результаты других исследований показали, что у детей, страдающих аллергиями, кишечная микрофлора обычно больше похожа на микрофлору взрослых (у которых многочисленны бактерии группы кишечной палочки и даже стафилококки), чем у других детей (у которых больше лактобактерий и бифидобактерий)74. Причем подобный переход к кишечной микрофлоре взрослого типа в целом намного чаще встречается у детей из стран с высоким уровнем санитарии, таких как Швеция, чем у детей из менее развитых стран, таких как соседняя Эстония, где заболеваемость детей аллергиями и астмой намного ниже75.
“Очевидно, что проблема не только в этом, – говорит Рук, – иначе мы все страдали бы аллергиями и астмой”. Третьей важнейшей группой “старых друзей” Рук считает гельминтов (то есть кишечных червей, или глистов). “Многие паразитологи просто с ума сходят, когда я называю гельминтов старыми друзьями, – говорит он, – но зараженный организм должен воспринимать их как друзей, потому что если не включить регуляторные клетки и не остановить иммунную реакцию, это приведет к разрушению лимфатической системы и закончится слоновой болезнью”. Судя по всему, эволюция организовала подразделение Th2 адаптивной иммунной системы так, чтобы оно сильно реагировало на ранние признаки заражения гельминтами, но затем смирялось с неизбежностью трудновыводимых паразитов и отключало иммунный ответ.
Об этом свидетельствуют данные, полученные в 1999 году голландским биологом Марией Язданбахш, которая установила, что когда зараженных детей в африканских деревнях вылечивали от глистов, у них сразу повышалась предрасположенность к аллергиям. Через несколько месяцев после лечения у этих детей наблюдались аллергические реакции на вдвое большее число веществ, чем у их сверстников, по-прежнему зараженных глистами76. Никто, подчеркивает Рук, не предлагает отказаться от лечения таких детей, потому что сильное заражение гельминтами может задерживать их рост и способствовать развитию дизентерии, малокровия и даже умственной отсталости. Но подобные открытия побуждают исследователей к поиску способов воспроизводить успокаивающее иммунную систему полезное действие кишечных паразитов, не воспроизводя при этом их вредное действие. Например, Джоэл Уайнсток, гастроэнтеролог из Университета Айовы, с помощью напитка, содержащего взвесь яиц свиного хлыстовика (безвредного для человека гельминта), добился облегчения тяжелых случаев воспалительных кишечных заболеваний у своих пациентов с успехом в 80 % случаев и без каких-либо нежелательных побочных эффектов77. Другие ученые продемонстрировали возможность защищать от аллергии склонных к ней подопытных животных, намеренно заражая их аналогичными паразитами78.
За пределами иммунитета
В самое последнее время Рук заинтересовался свидетельствами того, что наши сократившиеся контакты с бактериями из окружающей среды и другими “старыми друзьями” могут влиять на качество нашей жизни и в других отношениях, выходящих за пределы иммунной системы. К этой теме его привело сотрудничество со Стаффордом Лайтманом из Бристольского университета. Рук и Лайтман исследовали гормональные изменения, вызываемые иммунными ответами разного типа. Они провели эксперименты, в которых, вводя подопытным мышам клетки M. vaccae, стимулировали у мышей подавляющий инфекцию иммунный ответ типа Th1. Иммунный ответ типа Th2 они вызывали, вводя предрасположенным к аллергии мышам белки из яиц. По чистой случайности в соседней лаборатории работал молодой нейробиолог, изучавший клетки головного мозга, выделяющие гормон серотонин. Этот молодой исследователь, Кристофер Лоури, уже знал, что активация выделяющих серотонин клеток в одной части мозга улучшает настроение, а активация таких клеток в другой его части усиливает настороженность и волнение79. Открытие во многом объясняло, почему антидепрессанты определенного класса, так называемые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (прозак, золофт и другие), могут вызывать нежелательные побочные эффекты в виде бессонницы и тревоги. Идеальный антидепрессант, предположил Лоури, активировал бы только те выделяющие серотонин клетки мозга, которые улучшают настроение человека, при этом не активируя те клетки, которые вызывают тревогу и чрезмерную настороженность.
Все это не имело никакого отношения к исследованиям Рука и Лайтмана – так им, по крайней мере, казалось. “Крис Лоури был так поглощен изучением этих двух разновидностей серотонергических нейронов, – вспоминает Рук, – что однажды он зашел и сказал: “О, у вас тут есть замечательные мышиные мозги. Можно, я изучу их у себя под микроскопом?” Что он и сделал, окрасив мозговую ткань пигментом, маркирующим клетки, которые активно обмениваются серотониновыми сигналами. Рук рассказывает: “Он ворвался обратно в лабораторию Лайтмана с криком: “Вы должны это видеть! Это просто потрясающе! А ведь вы всего-то и сделали, что ввели своим мышам этих несчастных дохлых микробов”. В мозгу мышей, которым вводили препарат M. vaccae, серотониновая активность наблюдалась только в тех клетках мозгового ствола, которые связаны с улучшением настроения. “Это был прозак без побочных эффектов”, – говорит Рук.
Смысл необычного открытия стал проясняться, когда Рук раскопал данные, показывающие, что инъекции интерлейкина-10 (цитокина, в наибольшей степени связанного с регуляторными иммунными клетками) препятствуют развитию апатии и замкнутости у стареющих лабораторных крыс80. После этого ему стало известно об исследованиях психиатра Марианны Вамбольдт из Колорадского университета, открывшей общность генетической предрасположенности к депрессии и аллергическим расстройствам. Хотя здесь и можно было возразить, что стресс, вызываемый хроническими аллергиями, может приводить к психологическим проблемам, примененный Марианной Вамбольдт близнецовый метод показал: наличие у одного из двух близнецов какого-либо аллергического расстройства (например, сенной лихорадки, экземы или астмы) повышает вероятность развития депрессии у другого, даже если сам второй близнец не страдает аллергиями81. Причем эта связь оказалась намного сильнее у однояйцевых близнецов, чем у разнояйцевых, что тоже служит явным признаком общего генетического фактора.
Не могло ли быть так, что сигнал “всё в порядке” интерлейкина-10 распространяется и за пределы иммунной системы? Рук подтверждает это, ссылаясь также на данные полудюжины публикаций, свидетельствующих о том, что такие антидепрессанты, как препараты лития, повышают уровень интерлейкина-10 и снижают уровень связанных с аллергиями цитокинов, таких как интерферон гамма82. Не могло ли приподнятое настроение тех раковых больных, которых в частном порядке лечит Джон Стэнфорд, объясняться повышенным уровнем интерлейкина-10, вызываемым инъекциями клеток M. vaccae? Рук не уверен в этом: “Не могу сказать. Его лечение, кажется, едва ли не укладывается в рамки эффекта плацебо, чего-то вроде лечения верой в лекарство”. И все же, говорит Рук, это объясняет показанный в ходе клинических испытаний намного более высокий уровень качества жизни больных поздними стадиями рака легких, которым вводили вакцину из M. vaccae.
“Было бы интересно, – говорит он, – если бы оказалось, что мы напрасно виним в растущей частоте тревоги и депрессии исключительно повышенный уровень стресса, свойственный современной жизни, и что на самом деле мы наблюдаем эффект такой приземленной вещи, как недостаток бактерий в нашей пище, воде и окружающей среде”. Он смеется, вспоминая, какую реакцию он вызвал именно этим предположением у группы психоаналитиков. “Мы с ними тогда уже какое-то время выпивали, – сознаётся он, – и должен сказать, что они сразу стали вести себя очень недружелюбно, даже невежливо”. По словам Рука, после того как ему несколько минут наперебой кричали, доказывая всю нелепость предположения, будто таким жалким веществом, как один из цитокинов, могут объясняться исторические изменения поведения людей, ему пришел в голову превосходный контраргумент: “Я сказал: “Ну вот, смотрите, есть такое вещество – этанол, вы его только что приняли, и оно определенно изменило ваше поведение”.
Часть 4
Микробы, подсевшие на лекарства
Совершенно ясно, что бактерии были задолго до нас и что по отношению к ним мы, возможно, составляем лишь временное явление в истории.
Стюарт Ливи, доктор медицины (2000)
Убийца в детской палате
НОВЫЙ ШТАММ МИКРОБОВ УНЕС МНОГО ЖИЗНЕЙ
В США исследуют опасную форму стафилококка, устойчивую к антибиотикам
Специально для “Нью-Йорк таймс”
ВАШИНГТОН. Министерство здравоохранения сегодня сообщило…
Хайнцу Айхенвальду незачем было читать дальше заголовка, чтобы узнать подробности истории, статья о которой разделяла пополам посвященную городским новостям страницу воскресной газеты за 22 марта 1958 года. Ему был прекрасно знаком этот проклятый микроб – особо вредный и устойчивый к медикаментам штамм давно известного злодея – золотистого стафилококка.
Работая во главе отделения детских инфекционных болезней Нью-Йоркской больницы, этот беззаветно преданный своему делу суровый молодой врач следил за распространением смертельной инфекции с 1955 года, когда вызывающий ее штамм был впервые обнаружен в родильных отделениях и детских палатах больниц Калифорнии. Он также понимал, почему теперь эта тема попала в заголовки. В начале той же недели под жестким напором СМИ администрация хьюстонской Больницы Джефферсона Дэвиса провела пресс-конференцию, на которой признала, что недавно от стафилококка в этой больнице умерли шестнадцать новорожденных. Кроме того, было сообщено, что более половины докторов и медсестер оказались носителями этого опасного штамма. Устойчивый к медикаментам микроб, известный медикам как Staphylococcus aureus фагового типа 80 /81, не реагировал не только на пенициллин, но и на любые другие антибиотики, имевшиеся в аптеках, в том числе сульфаниламиды, тетрациклин, левомицетин, эритромицин и стрептомицин.
Теперь главный врач Службы здравоохранения США объявлял о кризисе национального масштаба. Все это было Айхенвальду уже известно, как и многое другое. Но он чуть не поперхнулся своим кофе, когда прочитал заключительные строки статьи в “Нью-Йорк таймс”:
У НАС ВСПЫШКИ НЕТ
Официальные представители органов здравоохранения и больниц Нью-Йорка сообщили вчера, что у нас не наблюдается никаких признаков вспышки этой инфекции. Доктор Моррис А. Джейкобс, представитель комиссии по больницам, заявил вчера вечером, что уверен в эффективности стерилизации и автоклавирования (стерилизации под давлением), используемых в наших больницах. Стерилизация как мера предосторожности против этого стафилококка особенно важна в связи с его устойчивостью к антибиотикам1.
Ну что ж, Моррис, по крайней мере, не наврал в отношении последнего, подумал Айхенвальд, который прекрасно знал, что в Нью-Йоркской больнице в настоящее время шла борьба с чудовищной вспышкой, хотя администрация и не спешила заявлять об этом, боясь отпугнуть пациентов. Да и в какой больнице поступили бы иначе?
В течение предыдущего года Айхенвальд работал по двенадцать часов в сутки, бегая из детской палаты в отделение педиатрии и обратно: из первой выписывали здоровых новорожденных, а последнее наполнялось больными детьми чуть более старшего возраста. Тогда-то он и заподозрил, в чем дело. Некоторых из поступавших младенцев привозили посиневших от недостатка кислорода, тяжело дышавших, им наполняли воздухом заполненные жидкостью зараженные легкие. Другие, покрасневшие и пылающие от жара, лишались сознания, когда стафилококк проникал в их жизненно важные органы.
В то самое время Айхенвальду стали активно звонить семейные врачи, многие из которых просто сходили с ума от неспособности остановить у своих пациентов развитие ужасной стафилодермии – разновидности кожного стафилококкового заболевания. Во многих семьях эта отвратительная кожная болезнь передавалась от новорожденных их родителям, а также братьям и сестрам, прогрессируя и образуя открытые язвы и уродливые желтые нарывы. У некоторых кормящих матерей в молочных протоках развивались такие обширные гнойники, что когда инфекция наконец проходила, грудь у них резко опадала. Старомодные промывание и дренирование ран не позволяли избавиться от инфекции, равно как сульфаниламиды и антибиотики, которые еще несколько лет назад так легко уничтожали стафилококков.
К тому времени, как всплыла хьюстонская история, Айхенвальд выяснил, что один из источников этой инфекции был у него в больнице. “У нас была скрытая эпидемия, – говорит он, полвека спустя вспоминая свое отчаяние. – Скрытая потому, что младенцы казались совершенно здоровыми, когда их выписывали из палаты новорожденных и отправляли домой”. Айхенвальд участвовал в координации радикальных мер, с помощью которых врачи пытались остановить нарастающую вспышку. Санитары и медсестры заливали едкими химикатами полы и рабочие поверхности больницы. Устанавливались ультрафиолетовые лампы, убивающие микробов. Администрация требовала от всех врачей соблюдать более строгие меры предосторожности при пользовании перчатками и спецодеждой. Но ничто, казалось, не могло замедлить распространение смертоносного штамма. В отчаянии руководство больницы попыталось давать младенцам антибиотики в течение часа после рождения. “Если это и имело какой-то эффект, он состоял в том, что они заражались еще быстрее”, – вспоминает Айхенвальд. Администрация приказала проверить всех сотрудников на наличие штамма 80 /81, отправляя на больничный каждого, кто оказывался носителем. “Больница, где врачей и сестер заставляют сидеть дома, получая полную зарплату? Это дает представление о том, насколько все было серьезно”, – добавляет Айхенвальд.
И все же эпидемия продолжала разрастаться. Айхенвальд начал работать с медсестрой-эпидемиологом, единственная функция которой состояла в том, чтобы следить за здоровьем выписанных из больницы новорожденных. Она обзванивала родителей и доброжелательно интересовалась, стараясь ничем их не напугать: “Просто проверяем, как здоровье ребенка… Хорошо питается?.. Выглядит нормально? Какие-нибудь проблемы?” Большинство выписанных младенцев оставались здоровыми. Но у некоторых развивались тяжелые формы стафилодермии, глазных инфекций или воспаления легких. Кроме того, родители сообщали, как инфекция передавалась от одного члена семьи другому за месяцы или даже годы. Одна семья в итоге покинула собственный дом. Другие родители развелись, не выдержав тяжелого испытания.
В то же время Айхенвальд и его коллеги знали, что почти каждый человек порой оказывается носителем того или иного штамма золотистого стафилококка. Примерно каждый четвертый из нас предоставляет этому стафилококку постоянное жилье2. В большинстве случаев микроб остается сосредоточенным в наиболее благоприятной для него среде слизистой оболочки носовой полости и не вызывает никаких неприятностей. Но золотистый стафилококк всегда был оппортунистом наихудшего пошиба, склонным больше всех остальных населяющих наш организм микробов при первой удобной возможности вторгаться в другие его части и в массе размножаться там. Именно этот микроб вызывал нарывы, которые Иов соскабливал со своего тела черепицей. И именно им были образованы те кремовые колонии, которые росли в чашках Петри у Александра Флеминга в 1928 году, когда он случайно сделал свое знаменитое теперь открытие бактерицидного эффекта плесени пеницилла.
Опасный и устойчивый к медикаментам штамм 80 /81, расплодившийся в больницах в начале пятидесятых, отличался особенно отвратительной склонностью пользоваться малейшей брешью в нормальных защитных механизмах человеческого организма. Младенческие прыщи и опрелости служили ему воротами в кровоток, через который эта бактерия была способна заселять другие органы, в том числе мозговые оболочки. Не менее опасной могла оказаться подхваченная младенцем первая простуда, дающая штамму 80 /81 возможность размножаться в легких, где он вызывал необычайно тяжелое воспаление, нередко быстро приводящее к смертельному исходу.
Хотя своей патогенностью штамм 80 /81 и не был обязан антибиотикам, они помогли ускорить его распространение. Внедрение этих чудесных лекарств в госпиталях и больницах в конце Второй мировой войны привело к тому, что в микробном мире в небывалом масштабе заработала эволюционная сила, уничтожающая неустойчивых к медикаментам конкурентов. Тем самым антибиотики способствовали успеху любого штамма или вида, наделенного врожденной способностью противостоять их действию. Штамм 80 /81, вызвавший первую пандемию таких супермикробов, оказался неуязвимым для любых видов оружия из современного арсенала антибиотиков и заставил специалистов по инфекционным болезням во всем мире заняться поиском иных решений этой проблемы.
В Нью-йоркской больнице Айхенвальд и специалист по инфекционным заболеваниям Генри Шайнфилд придумали и разработали не всеми одобренную программу, предполагавшую преднамеренное введение в носовую полость и остаток пуповины новорожденного сравнительно безвредного штамма другого стафилококка, прежде чем туда успевал проникнуть штамм 80/81. Шайнфилд нашел этот защитный штамм (названный 502A) в носовой полости медсестры, работавшей с новорожденными в Нью-йоркской больнице. Подобно Тифозной Мэри, только с благотворным эффектом, сестра Ласки заражала стафилококком множество новорожденных, за которыми она ухаживала. В результате ее младенцы отличались здоровьем, в то время как младенцы, о которых заботились другие сестры, заболевали. После того как при участии Шайнфилда эпидемию в Нью-йоркской больнице удалось остановить, вместе с несколькими коллегами он стал ездить по стране, с помощью штамма 502A помогая бороться с аналогичными вспышками в других больницах. Айхенвальд остался в Нью-Йоркской больнице, откуда он посылал флаконы со штаммом 502A по всему миру.
Сегодня лишь немногие их тех, кому нет пятидесяти, знают, какое всемирное бедствие вызывал в свое время устойчивый к медикаментам стафилококковый штамм 80 /81, говорит Айхенвальд, ушедший в 2005 году на пенсию с должности заведующего отделением педиатрии ЮгоЗападного медицинского центра Техасского университета. “Речь идет о нескольких из тех немногих лет минувшего столетия, в течение которых младенческая смертность в США не снижалась, а повышалась”3. Но применение штамма 502А вспоминает Айхенвальд, неизменно останавливало вспышки инфекции во всех больницах. “Я не могу утверждать и знаю, что Генри тоже не утверждает, что именно штамм 502A позволил справиться со штаммом 80/81”, – говорит Айхенвальд. Но он не связывает избавление от этой инфекции и с тем антибиотиком, который многие провозглашали чудодейственным средством, избавившим человечество от штамма 80/81 и обещавшим навсегда решить проблему устойчивости микробов к медикаментам.
Конец бактериальным инфекциям?
Начиная с 1960 года компания Beecham, гигант британской фармацевтики, и американская фирма Bristol-Myers выпустили в продажу метициллин – сперва в Европе, а затем и в США. Этот долгожданный препарат попал в заголовки газетных статей еще в 1959 году, когда врачи с помощью его экспериментальной дозы спасли жизнь актрисе Элизабет Тейлор, которая во время съемок фильма “Клеопатра” заболела пневмонией, вызванной стафилококковым штаммом 80/81. Метициллин, первый синтетический антибиотик, был получен химиками из компаний Beecham и Bristol путем внесения небольшого изменения в структуру молекулы пенциллина – добавления химического “шипа” к ее бета-лактамному кольцу. Это изменение сделало антибиотик неуязвимым для деактивирующих ферментов, вырабатываемых устойчивыми к пенициллину микробами. На основе метициллина, препарата для инъекций, используемого преимущественно в больницах, были разработаны несколько устойчивых к желудочному соку препаратов для приема внутрь, таких как оксациллин, нашедший широкое применение за пределами больничных стен.
Но прошло меньше года с начала применения антибиотиков метициллиновой группы, и врачи стали сталкиваться со штаммами, устойчивыми к этим препаратам4. И хотя подобные средства и оказались действенными против штамма 80/81, на самом деле на момент внедрения в медицинскую практику метициллина этот высокопатогенный штамм был уже на пути к исчезновению. “Не то чтобы такие микробы действительно вымирали, – поясняет Айхенвальд, – они просто исчезают на какое-то время, а затем возвращаются в более устойчивой форме”5. К 1964 году европейские больницы начали сообщать о массовых вспышках инфекций, вызываемых устойчивым к метициллину золотистым стафилококком – MRSA (meticillin-resistant Staphylococcus aureus), штаммы которого вскоре стали всплывать и в медицинских учреждениях других континентов. Для многих специалистов по медицинской микробиологии быстрый ответ бактерий на разработанный в лабораторных условиях антибиотик положил конец мечтам о “волшебной пуле”, которая позволила бы покончить с бактериальными заболеваниями. Новой парадигмой стала концепция бесконечной гонки вооружений между медициной и миром микробов. Как говорила Черная Королева из “Алисы в Зазеркалье”: “Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте!”
Фармацевтическая промышленность взялась за решение проблемы, сформулированной Черной Королевой, и добилась впечатляющих результатов. Шестидесятые и семидесятые годы ознаменовались дебютом нескольких совершенно новых классов антибиотиков, показавших сябя действенными средствами против широкого спектра бактерий по обе стороны разделяющей бактериальное царство границы между грамположительными и грамотрицательными6. Клиндамицины, фторхинолоны и цефалоспорины стали поистине “большими пушками”, из которых можно было расстреливать едва ли не любые инфекции, не разбирая, по кому стреляешь. Они позволяли спасать жизнь в критических ситуациях, например когда у врача-реаниматолога просто не было времени на анализы, которые позволили бы установить, какой именно микроорганизм убивает пациента. Но стремящаяся сократить расходы администрация больниц и перегруженные работой врачи вскоре сообразили, что такие универсальные антибиотики позволяют им экономить на дорогостоящих и отнимающих много времени мерах по определению возбудителей заболеваний даже тогда, когда времени на это хватало. Исходя из принципа “в любом случае не повредит”, хирурги тоже стали давать своим пациентам перед операцией антибиотики широкого спектра действия и предписывали им принимать такие антибиотики в течение ряда дней после операции, чтобы застраховаться от любых возможных инфекций. За пределами больниц врачи-терапевты тоже оценили эти средства за их удобство и эффективность. “С антибиотиками широкого спектра действия терапевты чувствовали больше уверенности в своем лечении, – вспоминает Айхенвальд. – Они думали: “Не знаю точно, что это за микроб. Надо бы воспользоваться каким-нибудь средством, убивающим все на свете”. И фармацевтическая промышленность всячески поощряла такой подход рекламой, смысл которой сводился к лозунгу “Лучше перестраховаться!”.
Но у всего этого удобства была и темная сторона. Беспорядочная стрельба по бактериям антибиотиками широкого спектра действия приводит к гибели не только возбудителя, по которому стреляют, но и триллионов других населяющих наш организм бактерий, от потенциальных источников неприятностей, таких как стафилококки, до представителей защитной и другой полезной микрофлоры. В результате эти препараты проводили отбор на устойчивость среди широкого круга бактерий, для которых человеческий организм – как дом родной. На осознание последствий этого отбора ушло не одно десятилетие. Но уже к восьмидесятым годам стало ясно: “беговая дорожка Черной Королевы” ускоряется, и фармацевтическая промышленность перестает за ней поспевать.
Микроскопические брачные игры
Горькая очевидность того, что бактерии могут эволюционировать, и эволюционировать быстро, пришла уже вскоре после начала применения первых бактерицидных препаратов – сульфаниламидов в тридцатые годы, а затем пенициллина в сороковые. Всего через пару лет после внедрения каждого нового средства появлялись устойчивые к нему штаммы болезнетворных микробов. Стоило им появиться, как их устойчивость, казалось, быстро передавалась и бактериям других разновидностей. Иногда врачи сталкивались с инфекциями, борьба с которыми требовала все более высоких доз и продолжительных курсов лечения тем же антибиотиком. В других случаях им приходилось иметь дело с внезапным появлением коварного микроба, обладающего полной устойчивостью.
Ученые были озадачены. Может быть, бактерии способны постепенно вырабатывать устойчивость к антибиотикам, подобно тому как человек постепенно приспосабливается, скажем, к большим высотам над уровнем моря или к острой пище? Другое возможное объяснение состояло в том, что в пределах любой колонии бактерий могли найтись один или два носителя удачной мутации, которая позволяла им выдерживать химическую атаку антибиотика. После того как лекарственный препарат убивал всех восприимчивых бактерий, оставшиеся в живых мутанты получали шанс размножиться и занять их место, порождая новый штамм из своих клонов, устойчивых к данному препарату.
В 1951 году супруги Джошуа и Эстер Ледерберги, микробиологи из Висконсинского университета, продемонстрировали изящное и простое доказательство того, что именно имеющиеся изначально мутации, а не постепенно вырабатываемая невосприимчивость, лежат в основе множества случаев приобретения бактериями устойчивости к новым препаратам. Ледерберги обнаружили, что, используя лоскутки бархата, закрепленные на деревяшках размером с чашку Петри, можно одновременно брать сотни крошечных бактериальных колоний из одной заполненной бактериями чашки и переносить их ровно в том же положении на ряд других чашек, содержащих какой-либо антибиотик, например стрептомицин. Если устойчивость вырабатывалась благодаря мутации, изначально имевшейся у немногих бактерий в исходной чашке, то новые колонии должны были во всех чашках со средой, приправленной антибиотиком, возникать ровно на том же месте. Именно это Ледербергам и удалось пронаблюдать: как оказалось, устойчивостью к стрептомицину изначально обладали одна-две клетки на каждый миллион или десяток миллионов7. Это означало, что каждый новый антибиотик становится мощным новым фактором бактериальной эволюции, отсеивая всех бактерий, кроме тех, ничем иным не примечательных, кто оказывался способен противостоять его действию. Избавившись тем самым от конкурентов, удачливые мутанты могли расселяться на их месте, тут же порождая новую, устойчивую к антибиотику колонию.
Эта новость стала для медиков источником ложного ощущения безопасности. Если мутации могут дать устойчивость к антибиотикам не более чем одной бактерии на десять миллионов, решение проблемы должно быть простым: нужно всего лишь наносить микробам двойные удары, применяя два разных средства одновременно. Шанс, что у бактерии обнаружится устойчивость к обоим средствам, казался ничтожно малым: один на десять миллионов раз по десять миллионов, то есть на сто триллионов (1014). Беда была в том, что бактерий, судя по всему, не убедили эти расчеты. Устойчивость ко многим антибиотикам начала проявляться в больницах и кабинетах врачей уже в конце сороковых и начале пятидесятых. В некоторых случаях такая устойчивость, похоже, вырабатывалась последовательно, то есть в составе штамма, уже устойчивого к одному антибиотику, выделялся подштамм, устойчивый также и к другому. Однако, как ни странно, некоторые врачи сообщали и о том, что они сталкивались с бактериями, которые внезапно превращались из вполне восприимчивых к стандартным средствам в абсолютно устойчивых ко множеству бактерицидных препаратов. Большинство специалистов отвергали эти сообщения как необоснованные.
Хотя в то время никто этого еще не осознавал, предшествующие работы Ледербергов уже указывали на множество причудливых трюков, к которым могут прибегать “простые” бактерии в ходе эволюции для преодоления любых преград, стоящих на их пути. Для начала еще в 1946 году юный Джошуа Ледерберг, которому шел тогда двадцать второй год, поразил научный мир сообщением, что у бактерий бывает половая жизнь8. Это утверждение казалось диким, учитывая, что бактерии определенно лишены тех сложных клеточных структур, которые позволяют более крупным и сложнее устроенным организмам сортировать и разделять свои гены по половинчатым наборам, содержащимся в сперматозоидах и яйцеклетках. Было общеизвестно, что бактерии размножаются простым делением надвое, при котором каждой “дочерней” клетке достается точная копия генов “материнской”. Этот примитивный способ воспроизводства дает единственной бактерии возможность размножаться быстро и в геометрической прогрессии, порождая несколько миллионов потомков за несколько часов и до миллиарда в течение суток.
Существование полового процесса у бактерий было доказано Ледербергом с помощью набора мутантов кишечной палочки. Каждый из этих мутантов был лишен способности синтезировать одно или несколько жизненно важных веществ. Поэтому такие мутанты могли размножаться только на питательных средах, содержащих тот витамин или аминокислоту, которой они были не способны обеспечить себя сами. Но, смешивая в разных сочетаниях таких частично неполноценных мутантов, Ледерберг получил полноценное “потомство”, то есть бактерий, способных самостоятельно производить все нужные им для жизни вещества и успешно расти на питательной среде без каких-либо добавок. Неполноценным мутантам удалось каким-то образом объединить свои генетические активы. У организмов, видимых невооруженным глазом, от червей до человека, родители объединяют свои гены в потомстве путем слияния сперматозоида и яйцеклетки. Что собой представляет “половой акт” у бактерий, этого не знал тогда и сам Джошуа Ледерберг.