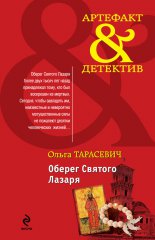Живописные истории. О великих полотнах, их создателях и героях Опимах Ирина

А тем временем Веласкес создавал один шедевр за другим. В 1656 году он написал знаменитые «Менины», сценку из жизни королевской четы, инфанты Маргариты и ее подружек, где изобразил и себя, в первый и последний раз, — конечно же, у мольберта, с кистью в руке. Написал себя среди царственных особ, равным среди равных. Кстати, и в этой картине есть зеркало — в нем мы видим короля и королеву. Затем были «Пряхи», таящие в себе множество смыслов, лежащих гораздо глубже, чем просто изображение гобеленной мануфактуры, как полагали ранее, — тут и спор о цивилизации и естественности, о духовном и материальном, об аристократии и народе, об искусстве и ремесле… Веласкес становился философом, мыслителем.
Считается, что художник всегда был обласкан королем, но это не совсем так. Да, в конце жизни его произвели в рыцари ордена святого Яго, но при этом руководство ордена затеяло постыдное выяснение родословной Веласкеса, которая в конце концов была признана весьма сомнительной и недостойной члена ордена. Дворяне-аристократы отказывались считать равным себе художника Веласкеса, мало отличающегося по их понятиям от обычного ремесленника. И только после особого распоряжения короля и специального разрешения папы Римского Веласкесу разрешили не ворошить свою родословную — в ноябре 1659 года он был признан полноправным рыцарем ордена. Вся эта возня была страшно унизительна для Веласкеса. А потом король пожаловал ему звание маршала дворца. Звучит весьма пышно, но на деле оказалось, что на Веласке-са возложили не очень-то почетные обязанности. Среди них каждодневное стояние позади королевского кресла, пока его величество принимал пищу. Кроме того, Веласкес должен был следить за украшением королевских покоев, а еще он заведовал устройством жилья придворных, отоплением дворца, следил, чтобы топлива было достаточно, руководил истопниками, трубочистами, а также был главным над уборщиками, мойщиками и подметальщиками, и более того — в его ведении были дворцовые отхожие места. Веласкес был главным ассенизатором дворца! «На старости лет, — пишет автор книги о Веласкесе Александр Якимович, — гений Испании стал маршалом трубочистов и подметальщиков, начальником отхожих мест!» Ничего вельможного в его службе не было, зато времени она отнимало много. Времени, которое он бы мог отдать искусству…
Летом 1660 года Веласкесу поручили участвовать в организации династического брака инфанты Марии Терезии и Людовика XIV. Путешествие во Францию оказалось сложным и очень утомительным для художника. В начале июля он писал другу: «Я вернулся в Мадрид уставшим от ночных переездов и дневных дел». Дело довершила лихорадка и обильные кровопускания, которые практиковала тогдашняя медицина. 6 августа 1660 года художника не стало. Все, провожавшие Веласкеса в последний путь, отметили, что никто из рыцарей святого Яго на похороны не пришел, хотя по обычаю орден всегда отдавал почести своим почившим рыцарям. Так гранды-аристократы отомстили гениальному, но невысокородному собрату.
А его «Венера с зеркалом» продолжала свою жизнь. После смерти любвеобильного маркиза дона Гаспара картина досталась его дочери Каталине, маркизе дель Карпио. Когда же она вышла замуж за одного из герцогов Альба, шедевр Веласкеса стал достоянием дома Альба. В начале XIX века картина принадлежала Каэтане Альба, той самой Каэтане, которую так любил другой великий испанский художник — Франсиско Гойя, и с которой он написал свою Венеру — «Обнаженную маху». После смерти герцогини Каэтаны, в 1802 году, Карл IV приказал Альба продать картину (вместе с другими принадлежавшими им полотнами) своему фавориту и премьер-министру Мануэлю Годою. Когда фортуна отвернулась от этого гордого красавца, когда его изгнали из страны и конфисковали все имущество, «Венера» попала на Британские острова, где ее приобрел за 500 фунтов стерлингов (ныне эта сумма эквивалентна 25 000 фунтам стерлингов) известный коллекционер, историк и большой друг Вальтера Скотта Джон Моррит. Этот прекрасно образованный, увлеченный искусством и историей эсквайр (именно он впервые доказал, что Троя — не только легенда, но и действительно существовавший в далекие времена город, и именно его труды стали основополагающими для Шлимана) сразу понял всю ценность полотна Веласкеса.
Несколько десятилетий картина хранилась в поместье Морриттов Рокеби-Парк (в Англии ее так и называют — «Венера Рокеби»). В те годы о ее существовании знали немногие, но когда в 1906 году наследникам Джона Морритта понадобились деньги и они решили ее продать, о картине заговорила вся Британия. Покупатель нашелся тут же, однако за океаном, и вся страна — впервые, дабы сохранить для потомков произведение искусства, — собирала деньги в складчину. Свой вклад, решающий — 8000 фунтов стерлингов (сегодня это 640000 фунтов), — анонимно внес восхищавшийся картиной король Эдуард VII. В конце концов нужная сумма, 45000 фунтов, была собрана, и в 1905 году «Венера» попала в Лондонскую национальную галерею, став одной из самых ярких жемчужин ее коллекции.
Но на этом превратности веласкесовой Венеры не закончились.
10 марта 1914 года в зал, где висела картина, вошла довольно невзрачная девушка, ничем не выделявшаяся из толпы обычных посетителей музея. Подойдя к творению великого испанца, она вдруг выхватила из-за пазухи маленький топорик и с остервенением набросилась на картину. Ей удалось нанести семь ударов! Конечно же, ее тут же арестовали. «Меня зовут Мэри Ричардсон, — заявила она констеблю. — Я суфражистка, борец за права женщин. Вы можете купить еще одну картину, но ни за какие деньги вы не купите вторую Эммелин Панкхёрст, если убьете ее в тюрьме». Эммелин Панкхёрст, о которой говорила Мэри, была главой движения суфражисток. Она сидела в это время в тюрьме Холлоуэй, где объявила голодовку.
Во время следствия Мэри Ричардсон объясняла, почему она, студентка, будущий искусствовед, решилась поднять руку на одну из самых знаменитых картин в европейской живописи: «“Венера перед зеркалом” стала предметом вожделения для мужчин. Эти сексисты пялятся на изображение прекраснейшей из женщин как на порнографическую открытку. Женшины всего мира благодарны мне за то, что я положила этому конец!»
Англичане были потрясены. Покушение на шедевр, на который совсем недавно собирала деньги вся страна, совершил не сумасшедший, не религиозный фанатик, а девушка, да еще будущий искусствовед! И все это из-за каких-то там прав женщин!
Статьи о происшедшем в Национальной галерее появились на первых полосах газет, и журналисты тут же прозвали Мэри Ричардсон по аналогии с легендарным убийцей Джеком-Потрошителем Мэри-Потрошительницей.
Мэри Ричардсон прожила долгую жизнь (она родилась в 1889-м, а умерла в 1961 году). До 1935 года она активно занималась политикой, делала и какие-то полезные дела, но англичане так и не простили ей покушение на национальное достояние — «Венеру с зеркалом» Веласкеса. Ей и другим суфражисткам не простили и то, что покушение на «Венеру» стало первым в ряду атак на сокровища Англии. Жертвами ярых суфражисток были картины, рисунки, скульптуры, украшавшие лучшие музеи страны, соборные витражи. Вождь и идеолог суфражизма Эммелин Панкхёрст заявляла: «Мы не проливаем кровь, как террористы-мужчины. Мы знаем, что есть нечто, чем наше правительство дорожит больше, чем человеческой жизнью. Это — общественная собственность. Именно тут мы и разим врага». Остановить вошедших в раж суфражисток смогла только Первая мировая война.
А «Венеру» Веласкеса отреставрировали — работали лучшие мастера Соединенного Королевства. Через три месяца она снова вернулась на прежнее место в галерее и вот уже несколько десятилетий после того страшного дня 1914 года по-прежнему дарит свою красоту посетителям музея, напоминая им о великом художнике Диего Веласкесе и о Золотом веке его родины — Испании.
Когда-то «Венерой» Веласкеса восхищались только самые близкие друзья маркиза де Эличе, допущенные в его спальные покои. Сегодня о ней знают во всем мире, ведь с этой красавицы, единственной обнаженной в творчестве Веласкеса и вообще в классическом испанском искусстве, началось новое направление в европейской живописи. Гойя и Мане, Дега и Матисс вослед гениальному испанцу создавали своих Венер — живых женщин, со своими характерами, со своими несовершенствами, смертных, прекрасных, сводящих с ума, обворожительных, и уж совсем не богинь. Помнят о ней и в наши дни: «Венера с зеркалом» часто появляется на открытках, в рекламе, на календарях и афишах, используется в произведениях актуального искусства.
За два с лишним столетия своей жизни «Венера» Веласкеса не потеряла ни малой толики своего очарования и притягательности. Она по-прежнему хороша, чувственна, горда и загадочна. И так хочется, чтобы она все-таки когда-нибудь повернулась к нам лицом и раскрыла все свои тайны…
Приключения евангелистов.
Франс Хале. «Святой Марк»
В 2013 году московский Музей изобразительных искусств им. Пушкина стал владельцем картины Франса Халса «Святой Марк», которую приобрел для него «Фонд Усманова». До сих пор в музее не было полотен великого голландца, и потому это было невероятно важное событие не только для музея, но и для всех любителей искусства в нашей стране. В голландском искусстве рядом с Халсом можно поставить лишь Рембрандта. Однажды Ван Гог сказал о Халсе: «Он писал портреты, одни только портреты… Дальше этого он не шел, но это вполне стоит “Рая” Данте, всех Микеланджело и Рафаэлей и даже Греков…» Героями Халса были самые разные люди — и простые ремесленники, и зажиточные купцы, и офицеры-аристократы, и бродяги, цыгане, и завсегдатаи кабаков; они пьют вино, поют и танцуют, важно позируют или просто радуются тому, что вот сейчас они сыты, здоровы, спокойны, и ничто их не тревожит. Они любят жизнь во всех ее проявлениях, как любил жизнь и сам художник — у Франса Халса была репутация кутилы, он обожал пиры и красивых женщин. Неудивительно, что Церковь недолюбливала художника, не жаловал и он святых отцов. Неудивительно и то, что герои Священного Писания появлялись на его картинах невероятно редко и всегда в образе его современников, друзей — это были простые голландские мужики, крестьяне, жители Харлема и окрестных деревень. А однажды из-под его кисти вышли четыре удивительные картины — портреты евангелистов святых Иоанна, Марка, Матфея и Луки. И вот один из них и вошел в коллекцию московского музея.
История этой картины — настоящий детектив.
В XVIII веке почти все европейские монархи принялись создавать свои личные музеи. У некоторых они уже давно были. А у русских императоров — не было. И тогда амбициозная Екатерина Великая тоже решила заиметь свой музей, и, конечно же, он должен быть не хуже собраний ее европейских собратьев! И вот ее посланники бросились покупать для русской царицы лучшие, как им казалось, полотна старых и современных мастеров. Как правило, их выбор был более чем оправдан. Именно тогда будущий Эрмитаж получил шедевры, которыми гордится и теперь, — полотна Рубенса, Тициана, Рембрандта, Ватто, Шардена и многих других замечательных художников прошлого. Надо сказать, что у Екатерины были очень хорошие советники, к примеру, Дидро и Фальконе.
Не всегда удача сопутствовала эмиссарам государыни. В 1771 году два корабля с купленными в Гааге картинами голландских мастеров (и среди них — четыре портрета евангелистов кисти Франса Халса), а также другими приобретениями императрицы попали в сильнейший шторм: одно из судов потонуло, но второе, получив пробоину, все-таки дошло до Петербурга. К счастью, именно на нем плыли халсовы «Евангелисты». В 1773 году они уже значатся — под соответствующими номерами — в каталоге собрания Эрмитажа, составленном Эрнестом Минихом. В особой графе каталога восхищенный работой Халса Миних не смог не отметить: «Эти четыре картины очень выразительны и написаны с присущей автору смелостью кисти».
Халс родился предположительно в 1582 году (точная дата, как и многое другое в биографии художника, неизвестна) в Антверпене, в семье ткача. В 1585 году Антверпен перешел под власть Испании, и семья Халса перебралась в Северные Нидерланды, в Харлем. В начале 1600-х молодой художник учился у Карела ван Мандера, а уже в 1610 году стал членом гильдии святого Луки, то есть вполне самостоятельным и признанным в городе мастером. Его картина «Банкет офицеров стрелковой роты св. Георгия» (1616) принесла ему известность и заказы. В 1620-х Халс писал в основном жанровые сцены; композиции на религиозные темы были чрезвычайно редки в его творчестве, а потому особенно ценны. И среди них — портреты четырех евангелистов. Возможно, эти картины были написаны для католической или лютеранской церкви, хотя их размеры дают основания предположить, что художник их написал для небольшой частной капеллы или нелегальной (тогда уже в Голландии было опасно открыто провозглашать себя католиком) харлемской католической церкви, а может, даже для частного дома. Но вполне вероятно, что заказчик был протестантом. Не исключено также, что Халс мог написать эти портреты просто для себя.
Позже он создал еще много прекрасных картин, но со временем его популярность стала падать — появлялись новые живописцы, да и его рука с годами ослабевала. Постепенно иссякли заказы. Конец жизни художника был довольно грустный — Халс умер в нищете, всеми забытый, в харлемской богадельне 26 августа 1666 года. А его «Евангелисты» продолжали свою жизнь. До XVIII века полотна находились на родине. Первое письменное упоминание о них относится к 1760 году — они фигурируют в описании наследства художника Герарда Хоета Младшего. Затем картины переходили из рук в руки, пока в 1771 году их не приобрел в числе многих других картин голландских мастеров для Екатерины голландский аукционер Йен Ивер.
Во второй половине XIX века интерес к творчеству Халса невероятно вырос. Его картины все чаще стали появляться на аукционах, и покупались они за сумасшедшие деньги как частными коллекционерами, так и большими музеями. И на этом фоне Александр II отдает приказ подарить католическим церквам Таврической губернии (земли, недавно отвоеванные у Турции), в состав которой входила Одесса, несколько старых картин религиозного содержания. Франц Лабенский, который тогда заведовал картинной галереей Эрмитажа, спешит выполнить приказ императора и в 1812 году передает католическим прелатам тридцать картин и среди них — четырех евангелистов Халса! И император, «просвещенный» потомок Екатерины Великой, одобряет его выбор!
Более ста лет картины Халса висели в полутемном притворе католической церкви в Одессе. Эта церковь находилась недалеко от вокзала, и приезжавшие в город благочестивые гости города у моря истово молились о здоровье и успехах в делах перед ликами голландских стариков, запечатленных в образе евангелистов великим художником.
Но в России началась революция, потом — Гражданская война. Отношение к Церкви менялось, и многие сокровища, хранившиеся в храмах, переезжали в музеи. Так случилось и с евангелистами Халса, точнее, с «Матфеем» и «Лукой» — они попали в одесский Музей западного и восточного искусства. В то время уже никто не помнил, кто автор этих картин, и их записали в каталоге как произведения неизвестного художника XIX века. «Марка» и «Иоанна» в церкви тогда уже не было. В 1959 году в Одессу приехала известный искусствовед, сотрудник Эрмитажа и большой знаток голландской живописи Ирина Владимировна Линник. Наткнувшись в запасниках одесского музея на старые холсты, она обнаружила в углу полотен крупные красные цифры — «фирменный» знак старой эрмитажной каталогизации (№ 1895 у «Луки» и № 1896 у «Матфея»). Проведя экспертизу картин, Ирина Линник доказала, что это — полотна великого Халса, давно считавшиеся потерянными. Она писала: «Беспримерная по своей смелости манера живописи, широкая и энергичная, могла принадлежать только самому гениальному новатору живописной техники — Франсу Халсу». В 1962 году «Матфея» и «Луку» представили на большой выставке Халса, состоявшейся в его родном Харлеме. Открытие Линник стало настоящей сенсацией и было высоко оценено всем мировым сообществом, ведь специалисты знали, что у Халса были работы на религиозные темы, но их никто не видел, к тому же любое полотно Халса имеет огромную ценность, а по сути — бесценно!
А халсовского «Луку» ждало еще одно испытание. Его похитили, и только усилиями работников КГБ картина вернулась в музей. На основе этих драматических событий был снят фильм «Возвращение “Святого Луки”». Весной 1965 года обе одесские картины — «Луку» и «Матфея» — привезли в Москву, на большую выставку в Пушкинском музее. 9 марта в музее был санитарный день, и посетителей не было. А на следующий день, когда работники музея пришли на работу, они с ужасом обнаружили, что халсовский «Лука» исчез! А ведь совсем недавно министр культуры СССР Екатерина Фурцева во время одного из официальных визитов в Европу гордо заявляла: «В Советском Союзе в отличие от Запада музеи не грабят». И действительно, эта кража была первым случаем подобного рода в СССР. Тут же было принято решение: всю информацию о совершенном преступлении засекретить — советским людям совсем не обязательно знать, что в их стране такое возможно.
Прошло несколько месяцев, но, несмотря на все усилия милиции, картину найти не удавалось. По просьбе Фурцевой дело передали в КГБ. Рассматривались различные версии, различные коллекционеры — советские и зарубежные, но… В какой-то момент дело зашло в тупик.
К счастью, не выдержали нервы у преступника — кража была раскрыта не благодаря усилиям сыщиков, а из-за ошибки вора! Спустя почти полгода после происшедшего, в августе, преступник, жаждавший уже наконец избавиться от опасного полотна и получить хорошие деньги, выбрал в толпе возле магазина «Грампластинки» на Калининском проспекте мужчину, одетого «по-западному», и предложил купить картину старого мастера «уровня Рембрандта» всего за 100 тысяч рублей. К счастью, этим одетым «по-западному» господином был сотрудник советского посольства в ФРГ и к тому же, как это тогда нередко бывало, сотрудник КГБ. Настоящий профессионал, он сразу почувствовал, что обратившийся к нему человек не блефует. «Нет, я живописью не интересуюсь, но могу найти покупателя», — сказал он.
Роль покупателя сыграл сотрудник внешней разведки Л. Краснов, говоривший на немецком как на родном русском. Итак, встреча была назначена на субботу 28 августа. Покупатель и продавец поторговались, и цена картины упала до 60 тысяч рублей. После встречи за молодым человеком установили слежку. Каково же было изумление сыщиков, когда они обнаружили, что их подопечный идет в Пушкинский музей, причем заходит со служебного входа! Его личность тут же была установлена: Валерий Волков, 27 лет, по образованию — столяр-мебельщик, в 1957 году осужден за кражу личного имущества, освобожден досрочно, в 1963 году был принят на работу реставратором по дереву в Музей изобразительных искусств имени Пушкина по рекомендации одного из сотрудников. Это был настоящий позор для всех занятых в деле следователей: где они только не искали картину, а в это время работник музея почти год прятал ее в своей квартире!
Впоследствии Волков говорил, что украл «Луку» по просьбе московского коллекционера Валерия Алексеева, который собирался перепродать полотно за границу, причем весьма задорого. Однако Алексеев всячески отвергал свою связь с Волковым — его вина так и осталась недоказанной. А Волков получил за преступление десять лет тюрьмы и штраф на сумму, потраченную на реставрацию полотна: во время хранения в свернутом виде, в неправильном температурном режиме, картина была сильно повреждена, многие специалисты тогда считали, что она просто утрачена для искусства. Однако после двух с половиной лет усилий одного из лучших реставраторов СССР Степана Чуракова (он приобрел бесценный опыт, реставрируя полотна Дрезденской галереи, пострадавшие во время войны) «Лука» вернулся в Одессу и занял свое прежнее место в собрании Музея западного и восточного искусства, рядом с «Матфеем».
Итак, судьба изображений двух евангелистов прояснилась, но вот два других — «Иоанн» и «Марк» — пропали на долгие годы. Скорее всего они были похищены из одесской церкви и отправлены в Европу еще во времена Крымской войны. Историки искусства уже почти отчаялись обнаружить их следы.
В октябре 1972 года в Лондоне открылся очередной аукцион. Среди прочих первоклассных картин там был выставлен на продажу «Портрет бородатого мужчины». Поначалу его приписывали кисти итальянского художника Луки Джордано. На холсте — пожилой мужчина с бородой, одетый по моде середины XVII века в темный костюм с белым отложным воротником и широкими манжетами. Изучая картину, известный искусствовед доктор “Клаус Гримм обнаружил невероятное сходство манеры изображения головы и рук данного персонажа с уже хорошо известными к тому времени картинами из Одессы. Он сделал химический анализ красочных пигментов — пробы были взяты из десяти разных мест полотна. Результаты оказались поистине поразительными: все пигменты, использованные при написании лица, рук, фона и костюма (помимо воротника и манжет), соответствовали материалам, применявшимся живописцами XVII столетия, а пигменты с воротника и манжет появились на палитре художников лишь в XIX веке! Разными оказались и связующие компоненты: в одном случае это было льняное масло, в другом — яичный желток. Оказалось, что костюм, соответствующий моде 1640-х годов, написан поверх грубого плаща, а слева реставраторы обнаружили изображение головы льва — атрибута евангелиста Марка! Зачем замазали льва? Вероятно, картину, нетипичную для художника по сюжету, какие-то из ее владельцев хотели сделать более «халсовской», превратив в обычный портрет…
И наконец, в 1997 году на аукционе Сотби в Лондоне появился четвертый евангелист, «Святой Иоанн», — его купили представители музея Пола Гетти в Малибу (Калифорния, США).
Так все четыре евангелиста великого Франса Халса снова вернулись к людям.
Тайны мастерства.
Ян Вермер. «Искусство живописи»
Музей истории искусств в Вене — один из лучших в мире. В его коллекции — творения Босха, Брейгеля, Дюрера, Джорджоне и многих других великих мастеров живописи.
Но, пожалуй, самая ценная и самая дорогая картина в собрании — знаменитая картина Вермера «Мастерская художника» («Искусство живописи» или «Аллегория живописи» — художник не оставил названия картины, и искусствоведы называют ее по-разному). Долгие годы ее недооценивали, потом приписывали другому художнику, за обладание ею боролись миллиардер Мэллон, Геринг и Гитлер, она чудом уцелела во время Второй мировой войны, и в наше время вокруг нее по-прежнему кипят страсти…
Великий голландский художник Ян Вермер родился в 1632 году в Делфте. Уютный, небольшой, типичный голландский город — зеленые воды каналов, чудесные арочные мостики, красные кирпичные дома с острыми крышами, устремленные вверх в небо, к Богу, шпили церквей… Здесь жили предприимчивые, решительные люди, зарабатывавшие деньги ради процветания своих семейств. Главным в их жизни был культ домашнего очага. Делфтское отделение Ост-Индской компании получало огромные прибыли, большие деньги давало и производство ставшего уже тогда знаменитым делфтского голубого фаянса. Все эти средства местное купечество тратило на каждодневные нужды, обустраивая свой быт с таким комфортом и вкусом, каких было еще поискать в других городах Голландии. Здесь царили чистота (на улицах, в домах и в душах), строгость нравов и строгое соблюдение традиций.
Семейство Вермера назвать благородным, пожалуй, было бы неправильно — кого тут только не было! Его дед по материнской линии Бальтазар Герритс был фальшивомонетчиком, бабка по отцу Нелгте Горрис торговала подержанной одеждой и бельем, имела трех мужей, была замечена в мошенничестве, после чего объявила себя банкроткой. Дядя художника Рейнер Балтенс был военным, занимался сооружением укреплений и после работ в порту Броуверхавене попал в тюрьму за растрату казенных денег. Отец художника Рейнер Янсзон занимался производством дорогой ткани «каффы», это сложное ремесло он освоил в Амстердаме. Приходилось не только ткать, но и придумывать и выполнять на ткани сложные узоры. Видно, он был неплохим рисовальщиком. В*1615 году Рейнер женился на милой девушке Дигне Балтенс (дочери фальшивомонетчика Герритса). Через пять лет у них родилась дочь Гертрув, а в 1632 году — сын Ян. Крестили мальчика 31 октября в делфтской Новой церкви.
Ткачество не приносило большого дохода, а потому Рейнер Янсзон решил открыть постоялый двор (он назвал его почему-то «Летучая лиса»), а кроме того, занялся торговлей картинами — в те времена они пользовались большим спросом у всех делфтцев независимо от уровня благосостояния. К примеру, один богатый голландец, чье состояние сильно выросло после ряда удачных торговых операций в Вест-Индии и Леванте, не только украсил десятками картин комнаты и коридоры своего дома, но даже развесил их в помещениях для слуг — в комнате одной из его служанок было аж семь картин! Зажиточные и не очень горожане с удовольствием покупали морские и городские пейзажи; картины, посвященные драматическим моментам истории Северных провинций; подробные карты республики; сельские ландшафты. Особым спросом пользовались сцены из каждодневной жизни бюргеров в их домах или садиках. Это было глубоко светское искусство, отражавшее отвращение простого голландца-кальвиниста к любому проявлению идолопоклонства. Вместо эпизодов из жизни героев Священного Писания на картинах голландских мастеров — жанровые сценки, бюргеры, работающие в своих двориках или сидящие вместе со своими домочадцами за столом во время завтрака. Вместо христианских мадонн художники прославляли своих жен и матерей, спокойно занимавшихся вполне земными делами. Обретя политическую свободу и свободу вероисповедания, голландские художники резко отошли от канонов религиозной живописи, господствовавшей в католических странах.
Янсзон, понимая выгодность торговли живописью, с удовольствием покупал и перепродавал картины местных живописцев, а иногда в его лавку попадали и полотна итальянских мастеров. В 1631 году он как человек, причастный к искусству, был принят в гильдию святого Луки, объединение местных художников, и стал называться Вермером. Видно, дела его пошли получше, и в мае 1641 года он купил небольшую гостиницу «Мехелен» уже в самом центре города, на Рыночной площади. В доме были таверна и лавка, где можно было выбрать картину по вкусу.
Шли годы, маленький Ян взрослел, и ему все больше нравилось проводить время в лавке отца, смотреть картины и разговаривать с художниками, приносившими свои полотна на продажу. И вот однажды кто-то из приятелей отца, а может, и сам старший Вермер, дал Яну краски и холст. Мальчик попробовал рисовать, и занятие это ему чрезвычайно понравилось. А потом у Вермера появился учитель — талантливый делфтский художник Карел Фабрициус. Ученик Рембрандта, он многому научился у своего гениального учителя и теперь с удовольствием передавал все, что умел, талантливому юноше.
В 1653 году, 20 апреля, в жизни Вермера произошло весьма важное событие — он стал мужем Катарины Болнес. Наверное, это была большая любовь, иначе как объяснить, что тогда, в Схиплуи, расположенном в часе ходьбы от Делфта, эти двое, юноша и девушка из столь далеких по социальному положению семейств, сочетались законным браком! Невеста происходила из зажиточного католического рода, а жених был из протестантов, причем незнатных, и ради женитьбы после помолвки срочно перешел в католичество. Вряд ли мать невесты Марию Тюнс радовало то, что дед Яна был фальшивомонетчиком, дядя — растратчиком казенных денег, бабка — обанкротившейся мошенницей, сестра — простой горничной, а ее муж — неграмотным багетчиком. С другой стороны, семейство Вермеров жило в любви и согласии, а вот в доме Болнесов мира не было — тут хорошо знали, что такое насилие, ругань, боль. Муж частенько побивал Марию, и дело дошло до того, что в ноябре 1641 года она добилась в суде развода, получив половину семейного состояния и право опеки над двумя дочерьми — Катариной и Корнелией. Сын Биллем остался с отцом; это привело к тому, что он вскоре попал в исправительный дом для преступников и сумасшедших. Неудивительно, что умудренная жизненным опытом Мария потребовала, чтобы имущество дочери не вошло в собственность зятя — боялась, что нищий, по ее меркам, парень, этот начинающий художник, промотает приданое Катарины и оставит ее девочку без гроша.
В 1653 году Яна, как и двадцать лет назад его отца, приняла в свои ряды в качестве мастера-живописца делфтская гильдия святого Луки. Вступительный взнос составлял 6 гульденов — это оказалось для художника существенной суммой: после смерти отца дела в семействе Вермеров пошли гораздо хуже. Ян не смог сразу заплатить эти деньги и выплачивал их частями три года, и то скорее всего с помощью теши. К этому периоду относится самое раннее из всех дошедших до нас полотен Вермера — монументальная картина «Христос у Марфы и Марии». Написанная на религиозный сюжет и явно под влиянием итальянских живописцев, которое очень скоро художник с успехом преодолел, она хоть и посвящена жизни Христа, но наполнена совершенно мирским настроением. Перед нами совсем не Бог, не Христос, а скорее просто молодой человек, рассказывающий двум милым девушкам о своих путешествиях.
В 1654 году покой жителей Делфта нарушил страшный грохот — взорвались пороховые склады, а там хранились 45 тонн оружейного пороха! В страшном пожаре горели дома, вещи, люди. В безумном, все пожирающем огне погиб и Карел Фабрициус. А совсем недавно ему исполнилось всего 32 года! Смерть Карела потрясла Яна. Это был тяжелый удар. Похоронив учителя, ставшего ему настоящим другом, он долго не мог прийти в себя и вернуться к нормальной жизни.
Документы свидетельствуют, что в 1662–1663 и в 1670–1671 годах Вермер состоял деканом гильдии святого Луки — это говорит о том, что он был признан как мастер и заслужил высокий авторитет среди делфтских художников. А ведь в те годы в городе жили замечательные мастера: к примеру, прославленный жанрист Ян Стен — ко всему прочему, он еще был хозяином популярного пивного заведения, а в 1654 году в Делфт переехал и Питер де Хох. Членами гильдии были не только художники, но и стеклодувы, керамисты, делавшие в своих мастерских знаменитый делфтский фарфор, скульпторы, торговцы предметами искусства и книгами, а еще издатели, среди которых был поэт и владелец типографии Арнольд Бон, назвавший в 1667 году Вермера наследником Фабрициуса.
Надо сказать, что знатоки и любители искусства, современники Вермера, понимали ценность работ художника и платили за них немалые деньги. 11 августа 1663 года Делфт посетил французский путешественник Бальтазар де Монкони. В его дневнике есть такая запись: «В Делфте я видел художника Вермера, который не имел у себя в доме ни одной своей работы (наверное, Вермер все старался продавать, а может, просто не захотел показывать французу свои картины), зато одну мне показали у местного булочника, заплатившего за нее 600 ливров, хотя на ней изображена всего одна фигура — ценою, на мой взгляд, не более чем шесть пистолей». Де Монкони, воспитанный на классической французской живописи, не мог оценить очарования вермеровского полотна. Небольшая жанровая картина, на которой изображена всего одна человеческая фигура, как она может стоить такие деньги! Конечно, в картине Вермера не было торжественности и помпезности, красот и возвышенности, свойственных барочному стилю, который тогда царил во Франции. И не случайно Людовик XIV, увидев однажды картины из Голландии, с презрением произнес ставшую знаменитой фразу: «Otez ces maggots-la!» — «Какие уродцы!». Но для разбиравшихся в искусстве зажиточных делфтцев картины Вермера были отнюдь не уродцами, а настоящими алмазами, в которых, кстати говоря, они тоже знали толк.
В архивах найдено не много документов, относящихся к этому периоду жизни мастера, в основном они относятся к денежным делам — Вермер занимает крупные суммы, поручается за других… И работает… Персонажи его полотен — представители зажиточного купеческого сословия, его друзья и знакомые, приятельницы жены. Они живут в красивых домах с анфиладами комнат, стены которых украшают картины голландских мастеров, восточные ковры и дельфтский фарфор.
Скорее всего Вермер, сам плоть от плоти от этих людей, делфтских бюргеров, простых, не отличавшихся изысканностью нравов, честных, порядочных дельцов, был страшно одинок. Разве могли понять они, эти степенные отцы семейств, для которых главное — деньги и их дом, его невыносимую тоску по совершенству, стремление к красоте и гармонии? И после смерти учителя и друга К. Фабрициуса, единственного человека, с которым можно было откровенно говорить и о жизни, и об искусстве, Вермер совсем замкнулся в себе, тщательно скрывая от всех то, что происходило в его душе. И лишь его полотна, лица его героинь, молчаливые и задумчивые, порою грустные и очень редко веселые, говорят нам о том, каким человеком был художник Вермер.
В 1665–1666 годах он создает свое, наверное, самое важное, самое театральное и самое загадочное полотно — «Мастерская художника». Вермер никогда не пытался его продать — оно было с ним до последних дней его жизни.
Эта картина, в которой все подчинено тщательно продуманному плану, наполнена множеством символов и намеков на проблемы, волновавшие Вермера и его современников. И до сих пор искусствоведы разгадывают загадки этого старого полотна, ведь, пожалуй, как никакая другая картина Вермера (а их дошло до нас до обидного мало — меньше 40), «Мастерская художника» говорит о том, чем жил этот удивительный живописец, не оставивший после себя ни писем, ни воспоминаний.
Кто-то отодвинул портьеру (или театральный занавес?), и мы видим большую светлую комнату. Мастерская художника. Где-то там, на улице, идет шумная жизнь, но здесь — тишина. Ровный свет, источник которого скрыт за пологом занавеса, наполняет комнату. Бронзовая люстра, украшенная двуглавым орлом могущественных Габсбургов; на стене — огромная карта голландских провинций. Свечей в люстре нет — так, видно, Вермер намекает на закат испанской ветви Габсбургов — в 1648 году Северные провинции Нидерландов получили независимость от Испании. Линия сгиба на карте тоже не случайна — она показывает границу между протестантской Голландией и католической Фландрией, все еще томившейся под властью Испании.
Мы видим, как работает художник: наметив план композиции, он приступает к деталям, и сначала — лавровый венок, символ триумфа, победы. А вот еще один символ — на столе лежит гипсовая маска, символ изобразительных искусств. Рядом стоит натурщица — юная девушка в голубой накидке. Из-под нее виднеется обычное платье, но это для художника, по-видимому, совсем не важно — он уже решил, что эта часть не попадет на картину. Похоже, девушка должна изображать какую-то античную героиню, недаром ее изящная головка украшена венком. Возможно, перед нами муза истории Клио, ведь в руках она держит — довольно неловко — огромный фолиант античного историка Фукидида, в который по велению Клио записаны людские деяния, и длинную медную трубу. Так, языком живописи, Вермер говорит: главный вдохновитель художника — история всего человечества и история каждого отдельного человека. Только вот, пожалуй, до настоящей музы вермеровой натурщице далеко — несмотря на все атрибуты божественности, она остается милой скромной голландкой и — вполне смертной. Некоторые искусствоведы считают, что Вермер изобразил тут свою жену Катарину. Но скорее всего перед нами — служанка Вермеров. Кстати, она очень похожа на знаменитую девушку с жемчужной сережкой.
Художника Вермер посадил к нам спиной. Скорее всего это автопортрет — только вот со спины. Наверное, и это сделано не случайно. Как хорошо было бы посмотреть главному герою картины в глаза, почувствовать, что он думает в этот момент. Но нет — Вермер и здесь не позволяет нам увидеть свое лицо, заглянуть в свою душу. Однако какая уверенность и спокойствие исходят от всей его фигуры! Этот человек знает, что делает, и, конечно же, знает себе цену. Его костюм не соответствует моде времен Вермера, на нем одежда, которую носили еще в XV веке. И это тоже не случайно — Вермер создает обобщенный образ Творца, продолжателя великих мастеров прошлого братьев Ван Эйк, Рогира ван Вейдена, Ханса Мемлинга. Настоящее искусство принадлежит вечности….
Чинно и благопристойно, в трудах и заботах, шла жизнь молодого художника. У него рождаются дети — один за другим, одиннадцать. Большая семья требует много денег. Но Вермер не может работать быстро, делать то, что от него хотят, — он пишет для души и очень медленно. А потому доходы от продажи его картин совсем невелики. Половину купил его основной заказчик и ценитель богатый коллекционер Питер ван Руйвен. Сегодня известны имена еще трех человек, приобретавших картины Вермера, — антверпенский банкир Диего Дуарте, его коллега из Амстердама Херман ван Сволль, ну и Хендрик ван Бюйтен, тот самый делфтский булочник, к которому заходил Монкони. К сожалению, оказалось, что одним искусством всех детей не прокормить, и Вермеру пришлось возобновить торговлю картинами, которой занимался его отец. Но и это тоже больших доходов не приносило. Без помощи богатой тещи пришлось бы совсем трудно.
В 1672 году началась франко-голландская война. В целях обороны было решено открыть все шлюзы плотин. Часть территории страны оказалась затоплена. Начался тяжелый, затяжной кризис. Живописью теперь, понятное дело, никто не интересовался, тут бы выжить… Большой семье художника пришлось переселиться из «Михелена», который теперь целиком сдавался внаем, в дом тещи на Оуде Лангендейк. В июле 1675 года Вермер, распродав за бесценок почти все закупленные им картины, в полном отчаянии едет в Амстердам просить ссуду в 1000 гульденов у знакомого торговца Якоба Ромбаутса. Он так надеялся, что эти деньги помогут ему снова встать на ноги! Но судьба распорядилась иначе: 15 декабря художнику неожиданно стало плохо. Он прилег в постель, а через несколько часов — скончался! Сегодня трудно сказать, что стало причиной его смерти — скорее всего это был инфаркт или инсульт…
Вермер ушел из жизни очень рано — ему было всего сорок три года. Его похоронили в фамильном склепе родственников жены в Старой церкви. В последние годы он мало писал. Обремененный огромной семьей, изо всех сил старался он хоть как-то прокормить своих детей. После его смерти у вдовы на руках осталось одиннадцать сирот — восемь из них еще несовершеннолетние, из них двое были тяжело больны, а один сын и вовсе был калекой — он получил страшные травмы во время взрыва на судне, перевозившем порох. А еще Катарине досталась пачка векселей, которые требовалось оплатить как можно раньше. Ничего не оставалось, как распродавать оставшиеся от мужа картины — картины его и других художников. В посмертной описи его имущества значатся 26 картин разных авторов. Это два портрета Самуэля Хогстратена, три полотна Карела Фабрициуса, «Распятие» и «Аллегория Нового Завета» Иорданса, а также несколько картин самого Вермера, включая «Мастерскую художника».
По-видимому, зная, как важна была для мужа эта картина, вдова Вермера поспешила передать ее своей матери — чтобы исключить полотно из распродажи в пользу кредиторов. Но тут в дело вмешался официально назначенный управляющим имуществом Вермера грозный и принципиальный Антони ван Левенгук (да, тот самый Левенгук, которого мы все знаем как выдающегося ученого, натуралиста, основателя научной микроскопии, впервые наблюдавшего в микроскопе бактерии). Он оспорил законность передачи картины теше художника, и полотно все-таки ушло из семейства Вермера. 15 марта 1677 года состоялся аукцион, организованный Левенгуком, на котором были выставлены картины Вермера, и среди них — «Мастерская художника».
В 1680 году умерла Мария Тине, а спустя семь лет после тяжелой болезни умерла и ее дочь Катарина, вдова великого художника. Вряд ли эти две достойные дамы предполагали и что их имена навсегда останутся в истории искусства, и что случится это благодаря Яну Вермеру, не очень удачливому в жизни человеку, прожившему рядом с ними пару десятков лет?
Надо сказать, современники художника высоко ценили его мастерство. В течение двадцати лет после смерти мастера в стране существовали две крупные коллекции его картин: гарлемский антиквар и пейзажист Ян Куленбир имел в 1677 году 26 работ Вермера, а большой поклонник вермеровского таланта делфтский книгопечатник Якоб Диссиус, муж дочери покровителя Вермера ван Руйвена, владел в 1682 году 19 произведениями художника. В 1696 году в Амстердаме на аукционе было заявлено 21 полотно мастера из собрания Диссиуса. Из всех проданных на аукционе картин вермеровские прошли по самым высоким ценам. Они разошлись по всей Голландии, позже попали и за ее пределы.
А потом о Вермере забыли — почти на два века. Лишь благодаря счастливой случайности человечество вновь обрело возможность наслаждаться искусством великого голландца. В 1842 году французский искусствовед и критик, адвокат, журналист, политик-социалист Теофиль Торе оказался в Гааге. Отдохнув с дороги, он решил побывать в местной картинной галерее Маурицхейс. И вот там, среди ничем не выдававшихся натюрмортов и ландшафтов, он увидел потрясающий пейзаж! Типичный голландский городок. Только что прошел дождь, солнце проглядывает из-за облаков и освещает мокрые крыши и стены домов. В его лучах сверкают капли дождя. Какие очаровательные чистенькие домики, словно умытые только прошедшим дождем, как светится гладь канала! Все удивительно свежо, радостно. Глядя на эту картину, хочется жить! Кто же этот художник, написавший столь прекрасное и такое современное по манере и духу полотно? На табличке под картиной было написано: Вермер Делфтский «Вид города Делфта». Но искусствоведам ничего не было известно о существовании такого поразительного художника.
Торе с присущей ему страстью участвовал в революции 1848 года, а потому был вынужден покинуть родину. Пребывая в вынужденной ссылке, он принялся разыскивать другие полотна Вермера — в коллекциях Дрездена, Брюсселя, Вены, Гааги, Брюнсвика и Берлина. Неутомимый энтузиаст, Торе убедил состоятельных друзей, таких как Казимир Перье, барон Кремер и Ротшильд, приобрести несколько картин Вермера. Другие, например восхитительную «Женщину с жемчужным ожерельем», он купил сам. «Кажется, что свет Вермера исходит от самих картин, — с восторгом писал Торе в одной из своих статей. — Некто, войдя в дом господина Дубле, где на мольберте был выставлен “Офицер и смеющаяся девушка”, обошел вокруг холста, чтобы увидеть, откуда взялось чудесное сияние открытого окна». Удивительным и никому ранее не известным голландцем увлеклись и другие ценители живописи, соотечественники Торе, и среди них — Теофиль Готье, братья Гонкур, известный критик и друг Флобера Максим Дюкан. В конце 1850-х годов появляются первые статьи о забытом, но — и это всем уже абсолютно ясно — гениальном художнике. Слава Вермера начинает свое триумфальное шествие по всему миру. Благодаря разысканиям искусствоведов удалось обнаружить и совершенно точно атрибутировать около сорока его картин. До обидного мало! Самое неприятное то, что он редко подписывал свои работы, и из коммерческих соображений торговцы, к которым попадали его картины, частенько ставили на них фальшивые подписи художников, пользовавшихся большей известностью.
Вот и на «Мастерской художника» кто-то из ее обладателей поставил подпись Питера ван Хоха. Картина после аукциона 1677 года не раз меняла хозяев. В 1808 году полотно оказалось в Вене, в коллекции барона Готфрида фон Свитена, а в 1813 году его приобрел за 50 австрийских форинтов при посредничестве некоего шорника граф Иоганн Рудольф Чернин. Граф был известным ценителем прекрасного и даже в конце жизни возглавлял Академию изобразительных искусств в Beне. Чернин, представитель одного из самых знатных семейств Австро-Венгрии, увлекался музыкой и в свое время брал уроки у самого Моцарта. Но главной его страстью была живопись. Он с большим тщанием покупал картины для своей галереи, а ее хранителем был Франтишек Ткадлик, один из лучших чешских художников первой половины XIX века. «Мастерская художника» стала настоящим бриллиантом, украсившим и так весьма впечатляющую коллекцию Чернина. Полотно приписывалось Ван Хоху вплоть до 1860 года, пока Торе не определил его как работу Вермера.
Более ста лет картина хранилась в семействе Черниных. Но в 1932 году, после кончины старого графа Франца Чернина, его имущество было поделено между двумя наследниками — один из них, граф Ойген Чернин, получил все собрание Черниных за исключением вермеровского полотна (коллекция картин оценивалась в 250 тысяч шиллингов) и право на 25 процентов стоимости «Мастерской художника». Остальная часть стоимости картины по завещанию принадлежала второму наследнику графа Франца — графу Яромиру Чернину. Вермеровский шедевр тогда стоил уже миллион шиллингов.
Граф Яромир, будучи весьма предприимчивым и практичным человеком, а еще любившим жизнь во всех ее проявлениях, решил, что живые деньги гораздо лучше старого полотна. Вступив в права наследования, он тут же попытался продать картину (с согласия второго владельца). Сначала он обратился к американскому миллионеру Эндрю Меллону, известному собирателю картин старых мастеров (Кстати, когда в 1928–1933 годах Эрмитаж по приказу сталинского правительства был вынужден распродавать свои сокровища, Эндрью Меллон приобрел 21 картину из эрмитажной коллекции). Меллон быстро понял, что к чему, и дал свое согласие. Он был готов выложить немаленькую сумму, но сделка сорвалась — австрийские законы запрещали продажу художественных ценностей такого уровня в зарубежные собрания. И тут Чернину не помогли даже усилия высокопоставленного зятя, канцлера Кнута фон Шушнига.
В 1938 году Австрия стала частью Третьего рейха. Теперь можно было продать картину немецким коллекционерам. И однажды Чернину нанес визит некий господин Филипп Реемтома. Ему очень хочется купить это великое полотно, заявил он. И он готов заплатить сумму, которая, несомненно, устроит господина графа. Сошлись на 2 миллионах рейхсмарок. Сегодня известно, что за господином Реемтомой стоял сам Генрих Геринг, страстный коллекционер живописи и большой любитель Вермера. В свое время он заполучил Вермера — правда, фальшивого, кисти голландца Ван Мегерена, самого известного мастера подделок в истории мирового искусства. Но тут об этих переговорах узнал Гитлер. Конечно же, шедевр Вермера должен быть в его собрании, в его Музее Фюрера в Линце! В коллекции Гитлера уже была картина Вермера — «Астроном», отобранная у Ротшильдов. Граф Чернин просто не мог отказать такому покупателю. И он согласился — продал свое сокровище за 1,56 миллиона рейхсмарок, сумму, меньшую той, что обещал ему Реемтома. А потом даже написал вождю Германии благодарственное письмо! А что ему оставалось делать, говорят ныне его наследники и их адвокат, продажа картины Гитлеру была вынужденным шагом: если бы Чернин воспротивился, картину бы просто отобрали, а семью Чернина отправили бы в концлагерь, ведь жена графа была наполовину еврейка. Правда, продажа картины Гитлеру не спасла Чернина от репрессий — позже у него отняли все имущество, а самому ему пришлось провести три месяца в гестапо.
К 1944 году в собрании Гитлера уже было 4700 работ. Понимая, что война проиграна, немцы спрятали коллекцию фюрера в соляных шахтах Альтаусзее. Там ее и нашли весной 1945 года специальные части американской армии.
«Мастерскую художника» отвезли в Вену, и в том же победном 1945 году картина вместе с другими возвращенными шедеврами была выставлена в венском Музее истории искусств.
После войны Чернин пытался отвоевать картину, но безуспешно — австрийские власти утверждали, что доказательств «продажи под давлением» у графа недостаточно. На суде, состоявшемся в Вене, было показано то самое благодарственное письмо, которое Чернин отправил Гитлеру и где высоким стилем выражал свое удовлетворение ценой и уверенность, что «картина принесет фюреру истинное наслаждение». В 1958 году полотно Вермера получило официальный статус как собственность венского музея.
После смерти графа Яромира в 1966 году его наследники продолжили борьбу за картину — они поручили австрийской юридической компании WolfTheiss ведение дела о реституции их прав на полотно. Их вдохновляло то, что после изменения австрийского законодательства (в 1998 году) бывшим владельцам вернули более 10000 произведений искусства, и среди них — картины таких мастеров, как Климт и Мунк. Представляя интересы семьи, адвокат Андреас Тайсс был уверен, что добьется возвращения полотна наследникам графа Чернина. «Австрия уже вернула много картин прежним владельцам или их наследникам. Не сомневаюсь, что Австрийская Республика вернет и эту картину. Я понимаю, что утрата этой иконы живописи будет означать для Австрии. Это — политическое дело. С юридической точки зрения наш шанс выиграть дело очень высок и составляет примерно 80 процентов», — заявлял Андреас Тайсс.
Конечно же, Музей истории искусств в Вене оспаривал право семьи Чернин на реституцию картины. По поручению министерства культуры Австрии все обстоятельства дела проверили историки искусства Сусанна Хехенбергер и Моника Лошер. И тут выяснилось, что после продажи картины Чернин подавал заявку на вступление в НСДАП… В марте 2011 года Австрия с радостью объявила всему миру: эксперты доказали, что Чернин добровольно расстался со своим Вермером, а потому «Мастерская художника», великое творение великого мастера, остается в венском музее.
Вечные истины.
Рембрандт. «Возвращение блудного сына»
«Возвращение блудного сына» Рембрандта — признанный шедевр мировой живописи, одно из главных сокровищ Эрмитажа. Художнику удалось, используя библейский сюжет, подняться до невероятных высот духовного постижения человеческой судьбы и человеческого предназначения. И сказать людям, что самое главное в этом мире — Любовь.
Тогда свидетелем этой сцены были немногие — да и кого могло привлечь к себе жалкое зрелище: в Еврейском квартале, в одном из беднейших районов Амстердама, из дома, где жил старый художник Рембрандт, выносили все, что там еще оставалось ценного. Какая-то мебель, посуда, одежда. Сохранилась нотариальная опись собственности, пригодной к продаже, которая была подробно, с голландской педантичностью, составлена после кончины художника: «Три старые, поношенные фуфайки; восемь носовых платков; десять беретов и головных колпаков; одна Библия и принадлежности для писания картин». Ну и еще 60 картин. 300 офортов и две тысячи рисунков. Все уходило за долги, которые художнику так и не удалось заплатить. Но хозяина дома уже ничего не могло взволновать — он лежал на кровати в своей спальне спокойный, умиротворенный. Мертвый. Великий художник покинул сей бренный мир накануне, 4 октября 1669 года, подарив человечеству великие шедевры, ставшие вершиной мировой живописи.
Среди 22 полотен, найденных в его доме, была и картина «Возвращение блудного сына». Эта картина — словно завещание великого мастера, итог его жизни в искусстве, итог мучительных размышлений о человеческой природе и о человеческой судьбе.
Последние годы были самыми страшными в его жизни. То было время болезней, разочарований, неудач, непонимания и невосполнимых утрат. Картину «Заговор Юлия Цивилиса», заказанную городскими властями, признали неудачной, и ее убрали из ратуши. Но такого рода удары еще можно было пережить, а вот как смириться со смертью его любимой, безраздельно преданной ему Хендрикье Стоффельс, ушедшей от него шесть лет назад? А потом — со смертью обожаемого сына Титуса, подаренного ему Саскией, тоже покинувшей его столь рано, еще в 1642 году! Сына, которому исполнилось всего лишь 27 лет, убил, как и его мать, безжалостный туберкулез.
Но удивительное дело — как бы ни страдал Рембрандт, какие бы трагедии ни происходили в его жизни, его служение живописи не останавливалось ни на миг. «Рушится его богатство, его волокут в камеру несостоятельных должников, у него отнимают все, что он любит: тогда он уносит свой мольберт, ставит его на новом месте, и ни его современники, ни потомство не слышат ни единой жалобы, ни единого крика этого странного, казалось бы, раздавленного несчастьем человека. Его творчество не ослабевает, не падает ни количество, ни качество картин», — писал о Рембрандте Эжен Фромантен. И в конце жизни гениальный художник создает настоящие шедевры.
На последних автопортретах он предстает перед нами таким, каким был, — умным, многое понявшим, умевшим глубоко чувствовать и глубоко мыслить. Джозеф Хеллер писал в книге «Вообрази себе картину»: «Одно из поздних полотен Рембрандта — это автопортрет смеющегося художника. Он способен разбить человеку сердцу…»
Одинокий, больной, забытый своими богатыми заказчиками, не так давно обивавшими порог его дома и жаждавшими заполучить портрет, написанный его кистью, он остался наедине со своими картинами — уже законченными и еще не завершенными. И среди них в его мастерской на мольберте стояла любимая. Может, она станет главной в его жизни, размышлял старый художник, ведь в нее, в ее композицию, в ее краски, он хочет вложить все свое понимание человека, его грешной сути и возможности обрести прощение… Темой этой картины стала история блудного сына и его отца, рассказанная в Евангелии от Луки.
У одного человека было два сына. Младший захотел получить свою часть имущества, и отец разделил все между сыновьями. А потом младший сын взял то, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он, распутничая, все промотал. В конце концов он оказался в страшной нужде. Ему пришлось работать свинопасом. Он так голодал, что готов был есть помои, что давали свиньям. Но тут в той стране начался голод. И тогда он подумал: «Сколько слуг в доме отца моего, и для всех них достаточно пиши. А я здесь умираю от голода. Пойду возвращусь к моему отцу и скажу, что согрешил я против неба и против него». И он вернулся домой. Когда он был еще далеко, отец увидел его, и ему стало жаль сына. Он побежал к нему навстречу, обнял его и стал целовать. Тот сказал: «Отец, согрешил я против неба и против тебя и больше не достоин называться твоим сыном». Но отец сказал своим слугам: «Идите быстрее, принесите ему лучшую одежду и оденьте его. Оденьте ему на руку перстень и обуйте в сандалии. Приведите откормленного теленка и зарежьте его. Сделаем пир и будем праздновать. Ведь мой сын был мертв, и вот он опять жив! Он был потерян и сейчас нашелся!» И тогда начался праздник. Старший сын в это время был в поле. Подходя к дому, он услышал музыку. Подозвав одного из слуг, он спросил, что там происходит. «Твой брат пришел, — отвечал слуга, — и твой отец зарезал откормленного теленка, потому что сын его здоров и все с ним благополучно». Старший сын так рассердился, что даже не захотел войти в дом. Тогда отец вышел и стал умолять его зайти. Но сын сказал: «Все эти годы я работал на тебя как раб и всегда исполнял все, что ты говорил. Но ты ни разу не зарезал для меня даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Зато когда этот твой сын, растративший все твое имущество на разврат, вернулся домой, ты зарезал для него теленка!» — «Сын мой, — сказал тогда отец, — ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть, — все твое. Но мы должны радоваться тому, что твой брат был мертв, а сейчас он опять жив, был потерян и нашелся!»
О чем художник думал тогда, создавая образы блудного сына и его отца? Может, о том, что не успел все сказать своему отцу, что не успел попросить у него прощения за то, что оставил университет, не захотел заниматься тем, что советовали ему родители, что отправился в Амстердам и бросил их одних? А может, вспоминал своего собственного сына Титуса и ссоры, которые, конечно же, у них бывали, и не раз? А может, думал о том, что скажет Господу, когда предстанет перед Ним, как будет молить простить свои прегрешения, непокорность и гордыню — ведь никогда он не подчинялся чужой воле, всегда шел своей дорогой и всегда больше всех — и может, самого Господа! — любил искусство…
Этот сюжет — история блудного сына — занимал его всегда. Еще когда он был молод и счастлив, и его Саския была жива, он написал своей портрет с Саскией на коленях. А ведь поначалу, как выяснилось совсем недавно, уже в XX веке, с помощью рентгеновских лучей, на коленях смеющегося молодого человека, изображенного на картине, была не она, его жена Саския, а веселая незнакомка с лютней в руках, и сама картина была иллюстрацией к легенде о блудном сыне — ее герой, покинув отчий дом, умел находить развлечения и предавался им всей душой… В 1636 году Рембрандт создает офорт, а в 1635-м — рисунок на тему блудного сына. Но все это — лишь приближение к главной композиции, к которой он шел всю свою жизнь.
Его современники, голландские художники, мало пишут картины на библейские темы — для них важнее мир, в котором они живут, его обитатели, герои, их дома, одежды. Подробно живописцы, названные «малыми голландцами», рассказывают на своих полотнах о том, как должен выглядеть почтенный отец семейства, как должна смотреть на него преданная жена, какие костюмчики должны быть на их детишках и какая обстановка в их доме. Это яркие, понятные, подробные картинки быта имеют свое очарование, но они ничего не говорят о вечном, они не решают общих, важных для всех времен и народов нравственных проблем. А Рембрандт все время, всю свою жизнь обращается к этим темам и решает их как глубокий мыслитель и великий живописец, и может быть, потому они, его коллеги-художники, вошли в историю искусства как «малые голландцы», а он остался в ней великим.
Из глубины холста струится золотистый мягкий свет — он мягко обрисовывает фигуру слепого отца, вышедшего из тьмы к своему сыну, наконец-то вернувшемуся в родной дом. Упав на колени, он припал к отцу, прося у него прощения и любви. Вокруг в ожидании каких-то слов, признаний застыли свидетели этой душераздирающей сцены. Но слепой отец молчит, и только его руки, ощупав родную плоть, отдались этому сладостному чувству тепла и жизни.
Советский искусствовед М.Алпатов замечает, что «встреча с сыном происходит как бы на стыке двух пространств, вдали угадывается крыльцо и за ним уютный интерьер отцовского дома, а перед картиной… безграничное пространство исхоженных сыном троп, весь чуждый ему и враждебный мир». И вот блудный сын входит в полотно, а вслед за ним — и зритель. Мы словно тоже участвуем в этом трагическом спектакле.
Рембрандт символичен, но при этом очень реалистичен. Вот перед нами на коленях блудный сын — голова его острижена, как у каторжника (все может быть, и кто знает, а вдруг он побывал и на каторге); с одной его ноги упал выношенный башмак, и мы видим стертую пятку… Он отвернулся от нас, спрятав лицо, но во всей его позе столько отчаяния, столько горя, столько мольбы о прощении и приятии, что нам уже не нужно видеть лицо — мы и так понимаем, что происходит в душе этого несчастного, просящего о надежде и любви.
Почему Рембрандт написал отца слепым? Наверное, чтобы сказать: главное — не то, что видишь глазами. Чтобы, как полагает Алпатов, подчеркнуть, что главное происходит не перед его глазами, а в его душе. «В этот волнующий момент он как бы ничего не видит, ничего не замечает, он весь захвачен только одним ощущением близости того, кого он долгие годы напрасно ждал. Чувство безграничной радости и любви его захватило». У него уже осталось так мало сил, что он даже и не обнимает сына, а просто кладет руки на его плечи, благословляет и прощает его.
Вокруг этой главной группы Рембрандт изображает несколько фигур. Историки искусства гадают — кто они? Однако так ли это важно, для художника они просто свидетели этой драмы, свидетели акта высочайшей любви и прощения. Рядом, сбоку, изображен высокий бородатый человек. Возможно, это старший брат блудного сына. Видно, и он, хоть и ревнуя отца к брату, проникся высокой нотой происходящего.
Поразительно цветовое решение картины. Этот золотистый свет, который придает свечение всей композиции (чем меньше золота оставалось в жизни художника, тем больше его появлялось на полотнах), эти шафран но-красные тона проникают в самую душу. Теплый красный цвет в этой картине, пишет Алпатов, «означает пылающий цвет любви».
Главный герой картины — конечно же, отец. Именно он показывает способность прощать и способность любить. А ведь это главное, что отличает человека от нелюдей. И недаром в его позе, в выражении лица можно найти черты героя поздних автопортретов Рембрандта.
Сегодня замечательное полотно великого голландца украшает коллекцию Эрмитажа. Попало оно в музей в 1766 году. Тогда послом России во Франции был князь Дмитрий Алексеевич Голицын, который активно скупал картины старых мастеров для коллекции Екатерины Великой. Дмитрий Голицын вырос в Европе. Это был интеллектуал, великолепно образованный, светский человек. Его приглашали всюду, он был желанным гостем в самых модных салонах французской столицы. Именно благодаря ему, его вкусу и знакомствам Екатерина стала собственницей полотен Греза и Шардена, а также — «Возвращения блудного сына». Князь купил картину — за 5400 ливров — у герцога де Кадруса, Андре д'Ансезена. Жена герцога происходила из рода Кольберов. Шарль Кольбер, дед герцогини де Кадрус, часто бывал в Голландии с важными дипломатическими поручениями короля Людовика XIV и, по-видимому, в одну из таких поездок и купил полотно Рембрандта.
С тех пор картина хранится в Эрмитаже. Какое счастье, что ее не продали зарубежным коллекционерам в 1928–1932 годах, когда эрмитажным коллекциям был нанесен огромный урон — за границу ушло множество великолепных произведений искусства, среди которых были настоящие шедевры — работы Халса, Веласкеса, Ван Эйка, Рафаэля, Боттичелли, Тициана… Какое счастье, что работники Эрмитажа смогли сохранить оставшиеся сокровища в годы Великой Отечественной войны, когда смерть и гибель грозила не только картинам, но их хранителям!
Сегодня Эрмитаж обладает одним из самых полных в мире собраний рембрандтовских шедевров, и среди них достойнейшее место занимает «Возвращение блудного сына». Его образы остались в истории культуры навсегда. Они живут не только в живописи, но и в других видах искусства, например, в кино — вспомним финал фильма А.Тарковского «Солярис», снятого по мотивам романа польского писателя-фантаста Станислава Лема. Герой фильма Крис Кельвин возвращается на Землю, в отеческий дом, и точно так же, как герой Рембрандта, припадает к ногам отца, прося о прощении и любви…
Самое известное кораблекрушение.
Теодор Жерико. «Плот “Медузы”»
С этой картины, грандиозной по трагическому накалу, по силе выплеснутых на полотно чувств — тут и надежда, и горечь, и страх смерти, и жажда жизни, — начинался романтизм в западноевропейской живописи. Молодой талантливый художник Теодор Жерико создал творение, в котором историки культуры находят не только основные черты романтизма, но и истоки философии экзистенциализма, захватившего Европу в XX веке…
Летом 1806 года вся Франция только и говорила что о страшном кораблекрушении, постигшем фрегат «Медуза». Корабль, плывший в сопровождении корвета «Эхо», флейты «Луара» и брига «Аргус», возглавлял флотилию, которая направлялась в Сенегал. На борту «Медузы» плыли губернатор африканской колонии и другие чиновники губернаторской администрации. «Медуза» по тем временам была очень большим судном — на ее борту путешествовали 400 человек! Капитаном корабля был некто Гуго Дюруа де Шаморе — не так давно вернувшийся во Францию, он был восстановлен во всех правах и в королевском флоте, хотя не бороздил океанские просторы 25 лет. Перед отплытием он получил специальные указания постараться успеть достичь цели — Сенегала — до наступления сезона дождей. Денег на снаряжение кораблей не хватало, они были далеко не в должном состоянии, а кроме того, капитал Шаморе оказался весьма бездарным мореплавателем. Все это привело к тому, что 2 июля «Медузу» выбросило на песчаную отмель в 120 километрах от африканских берегов, недалеко от мыса Блан. На воду тут же спустили лодки, на которых разместились высшие чины и высокопоставленные пассажиры — и среди них сам капитан и губернатор со свитой. Остальные — их было более 150 человек, большей частью матросы, младшие офицеры и женщины — погрузились на плот размером 20 на 7 метров, который корабельные плотники под руководством инженера Корреара соорудили из мачт и рей. Плот должен был двигаться на буксире за лодками. Однако в море тросы очень быстро порвались, а может, были просто обрублены, и люди на плоту остались в бушующем океане наедине со стихией, без запасов питья и продовольствия.
Происходившее на плоту было поистине ужасно. После первой же ночи не осталось ничего, кроме вина. Голод, жажда, палящее солнце, болезни, убийства… Вскоре плот устилали человеческие останки — смердящие на жаре трупы, покрытые язвами смертельной тропической болезни. От самых слабых быстро избавились: они попадали за борт — сами или им помогли. Умерших от голода и ужаса тут же съедали их обезумевшие друзья по несчастью. К 11 июля на плоту оставалось в живых всего 15 человек. Правда, живыми их было назвать трудно: истощенные полутрупы, в мозгу которых билась лишь одна мысль — выжить любой ценой. 17 июля один из несчастных вдруг увидел на горизонте парус — это «Аргус» шел им на помощь.
В 1817 году капитана «Медузы» судили и после долгих судебных разбирательств приговорили к разжалованию и трем годам тюрьмы. Процесс возбудил общество — французы заговорили о бездарности властей и несправедливости судебных решений. Подогрели дело и чудом выжившие после кораблекрушения «Медузы» инженер Корреар и доктор Савиньи, двое из тех пятнадцати счастливчиков, спасенных «Аргусом». Они опубликовали книгу «Кораблекрушение фрегата “Медуза”», в которой честно и откровенно рассказали о пережитой ими трагедии. Что характерно, книга эта была очень быстро запрещена властями.
Эта история взволновала молодого художника Теодора Жерико — романтичного, порывистого, остро чувствующего несчастье ближних, чуткого ко всему, что происходит в обществе. В 1818 году он как раз вернулся в Париж из Италии и страстно искал сюжет, в котором мог бы выразить обуревавшие его художественные идеи. Двадцатисемилетний живописец уже многое успел — ученик известных парижских мастеров Берне и Герена выставлялся в Салоне, и многие запомнили его «Офицера конных егерей, идущего в атаку» и «Раненого кирасира, покидающего поле боя». Пережив крах Наполеона и возвращение Бурбонов, видя, как король безжалостно расстреливает соратников Бонапарта, как уезжают из страны люди, составлявшие ее гордость — художник Давид, математик Монж и многие другие, — Жерико тоже решил покинуть Францию. И вот теперь, вернувшись на родину, он полон замыслов, ему хочется создать нечто грандиозное. Он много работает — заканчивает начатое в Италии (потрясающий «Бег свободных лошадей в Риме»), пишет замечательный портрет своего друга Эжена Делакруа, ставший портретом целого поколения романтиков, создает серию выразительных портретов душевнобольных, обитателей клиники Сальпетриер (по-видимому, по просьбе врача больницы доктора Жорже). Но все это не то, что ему нужно, — он ищет тему, с помощью которой сможет выразить то, что думает о людях, о жизни и смерти. И сюжет с «Медузой» оказывается очень кстати.
Жерико мучительно ищет композицию — делает многочисленные рисунки, акварели и даже маленькие картины, изображая различные моменты трагедии. Он представляет, как мог пройти первый вечер на плоту, когда люди впервые осознали плачевность своего положения; изображает сцены каннибализма, счастливое спасение… Наконец решение найдено — он покажет на своей картине тот момент, когда на горизонте показался парус «Аргуса», и в душах уже отчаявшихся людей вновь зародилась надежда.
В его картине будет только правда, решает художник, потому что лжи уже было достаточно. Он знакомится с Савиньи и Корреаром, разыскивает других уцелевших участников трагедии, выясняет страшные подробности, не вошедшие по соображениям цензуры в книгу. Он даже находит плотника с «Медузы» и заказывает ему макет плота! А потом лепит и расставляет восковые фигурки своих героев на нем! И еще он едет в Гавр — писать открытое море, шторм. Его картина станет не сценой из спектакля, а эпизодом подлинной драмы!
Ему позируют актеры и профессиональные модели, друзья и знакомые. Среди них — молодой Делакруа (Жерико изобразил его лежащим ничком на плоту рядом с отцом и умирающим сыном). Встретив в кафе своего приятеля Лебрена, только что оправившегося после желтухи, Жерико просто счастлив. Этому человеку, цвет лица которого был таков, что его даже не брали на постой деревенские жители — боялись, что он умрет у них в доме, — Жерико сказал: «Как вы прекрасны!», и тут же повел в свою мастерскую. Лебрен стал отцом умирающего сына. Жерико перебирается из своей мастерской на улице Мучеников на Монмартре в пригород Руль по дороге в Ней. Новая мастерская располагается рядом с больницей Божон. Теодор договаривается с ее санитарами и получает доступ в анатомичку, где делает необходимые ему наброски разных частей тел. Раньше он даже посещал морг, где рисовал мертвецов, а теперь ему необходимо было увидеть просто человеческое мясо — отрезанные после операций ступни, руки и другое, сохранявшееся для занятий анатомией. Эти этюды не были использованы в картине, но он почувствовал запах гнили, запах мертвечины, сопровождавший жертв «Медузы». Он тащит куски этой мертвой плоти к себе в мастерскую и рисует их, и друзья, посещавшие его в те дни, задыхаются от страшного смрада. В конце концов ему уже кажется, что он сам был на этом плоту смерти, сам видел, как хрупка грань между жизнью и смертью, сам ощущал надежду, когда уже надеяться, казалось, не на что. В ноябре 1818 года Жерико запирается у себя в мастерской и обривает голову, чтобы отсечь все возможности выхода в город — не выйдешь же безволосым в люди! Теперь все его существование сосредоточено на картине — она огромна, семь метров в ширину и пять в высоту. С утра до вечера он пишет это полотно, и так восемь месяцев! Постепенно отдельная история приобретала под его кистью глубину обобщения. Недаром историк Мишле писал о картине Жерико: «Это сама Франция. Это наше общество погружено на плот “Медузы”. Жерико в тот момент был Францией». Но картина Жерико оказалась даже шире, чем судьба Франции в постнаполеоновское время, в эпоху реставрации. Как никогда актуальна она сейчас, когда мы все понимаем, сколь хрупка жизнь на нашей планете…
25 августа 1819 года «Плот “Медузы”» был выставлен в Салоне. На фоне картин на религиозные сюжеты и сентиментальных сцен из жизни королевской семьи, пропитанных верноподданническим духом и написанных в академическом стиле, полотно Жерико производило эффект разорвавшейся бомбы. Трагедия «Медузы» еще была жива в памяти французов, люди помнили о недостойном поведении властей. Неудивительно, что в Париже говорили только о картине Жерико.
Никого она не оставила равнодушным. Ею или восхищались, или ругали, причем хулителей у Жерико оказалось значительно больше, чем защитников. А правительственные чиновники восприняли картину как вызов, как политическую демонстрацию. Что же увидели пришедшие на главную выставку года парижане и гости французской столицы?
На огромной картине — бурное море, на небе — темные тяжелые тучи. На плоту еще остаются двенадцать мужчин, правда, пять из них уже умерли или умирают от непереносимых лишений. На первом плане картины — отец, держащий на коленях умирающего сына. Справа и слева от них — трупы… Вторая группа — ослабевший матрос пытается подняться, но ему мешает упавшее на него тело. Рядом — трое несчастных, среди которых гардемарин Куденс — он тоже пристально смотрит вдаль. Слева в тени полуразрушенной палатки четыре персонажа, среди них врач Савиньи и инженер Корреар, рядом с ними обезумевший человек дико смеется каким-то своим видениям, позади — другой, держит голову двумя руками. Справа, со стороны открытого моря, три человека пытаются привлечь внимание появившегося на горизонте «Аргуса». В этом царстве смерти появилась надежда…
Да, недаром Жерико столько времени проводил в Сикстинской капелле, застыв в восхищении перед гениальными созданиями великого Микеланджело! Тела героев Жерико выпуклы, осязаемы, скульптурны. В этой картине явно видно влияние титанов итальянского Возрождения.
Публика и критика еще не были готовы воспринять столь страстное и правдивое художественное высказывание, новаторское по стилю и накалу страстей. Картину Жерико встретили в штыки. Более того, власти постарались отмести любой намек на недавнюю трагедию, и картину называли как «Сцена кораблекрушения». «Что касается выполнения картины, ее просто забыли нарисовать», — такой была самая доброжелательная оценка, появившаяся в прессе. Правительство закупило многие картины, выставленные на том Салоне, но речи о «Плоте “Медузы”» даже не возникло.
Жерико был страшно оскорблен. Он столько вложил в эту работу! А она оказалась никому не нужна! Ему было больно, обидно… Прошло некоторое время, и Жерико предложили показать картину в Англии — в стране моряков обязательно оценят его творение, убеждали его друзья. И Жерико везет в Лондон свое многострадальное детище. В Англии картина имела невероятный успех. Ее показали во всех крупных городах страны. Жерико был счастлив. Успех, пережитый в Великобритании, вдохновил его на создание новых замечательных работ — серию литографий и великолепную картину «Скачки в Эпсоме».
Кроме живописи, он больше всего любил лошадей, и эта любовь дорого ему обошлась. В конце 1822 года случилось несчастье — плохо объезженная лошадь сбросила его на груду камней. В результате — серьезнейшая травма позвоночника, повлекшая неподвижность. Но Жерико не сдавался. Пытался работать. Записывал мысли об искусстве и жизни. «Считаю постыдным усилия некоторых людей выдавать наши недостатки за достоинства. Давайте лучше поощрять наши истинные таланты — и у нас не возникнет нужды ублажать посредственности, которые как бы в силу своей численности надеются стать ведущей силой страны… Мне кажется, я уже слышу крики и протесты людей, трепещущих от страха, что я причиню вред их мелким интересам». А вот и другая запись: «Человек подлинного призвания не боится препятствий, чувствуя себя в силах их преодолеть, они даже, подобно дополнительному двигателю, часто становятся причиной самых поразительных произведений. Именно к этим людям должна быть устремлена забота просвещенного правительства, только поощряя их и используя их способности, можно утвердить славу нации — это они оживят эпоху…»
8 декабря Эжен Делакруа, друг и ученик Жерико, записал в своем дневнике: «Сегодня был у Жерико. Он умирает, его худоба ужасна, его бедра стали толщиной с мои руки… — И далее о его работах: — Прекрасные этюды! Какая крепкая рука! Какое превосходство! И умирать рядом со всеми этими работами, созданными во всей силе и страсти молодости…» Незадолго до смерти к Жерико пришел Александр Дюма. За день до того художник перенес тяжелейшую операцию. Дюма был потрясен — страшный, худой Жерико только пришел в себя, но уже пытался рисовать…
Теодор Жерико умер 26 января 1824 года. Умер до обидного молодым — ему было всего тридцать два года! «К числу самых больших несчастий, постигших искусство в нашу эпоху, следует отнести смерть удивительного Жерико», — писал Делакруа, продолживший борьбу с рутиной официального искусства и утверждавший идеи романтизма в своем искусстве.
Уже после смерти Жерико «Плот “Медузы”» купил за 6000 франков друг и почитатель таланта умершего художника Деро-Дорси. Считая, что картина — национальное достояние и должна оставаться во Франции, он отклонил множество предложений зарубежных коллекционеров и музеев и продал ее государству всего за 6005 франков — на пять франков дороже той цены, что заплатил за нее.
С тех пор картина украшает собрание Лувра, и каждый, оказавшийся в прославленном музее, может подойти к картине и прикоснуться душой к трагедии — трагедии людей, оказавшихся между жизнью и смертью и не потерявших способность верить, к трагедии яркого, талантливого художника Теодора Жерико, умершего так несправедливо рано…
Красавица-парижанка.
Эдуард Мане. «Олимпия»
В Париже, на улице Медерик, до сих пор стоит дом, где Эдуард Мане снимал мастерскую с 1861 по 1871 год; правда, в те времена улица называлась Гюйо. В этой мастерской были написаны его знаменитые шедевры — «Завтрак на траве» и «Олимпия». Тут же, в этом районе, жил Золя, недалеко была мастерская, в которой работали Базиль и Ренуар. Мане очень любил бродить по парижским улицам — здесь он находил персонажей своих картин, здесь пропитывался духом любимого города. Недаром Бодлер писал, что Париж не знал «фланера подобного Мане, поскольку фланирование такого фланера было чрезвычайно полезно». Маршрут от дома до мастерской — а художник поначалу жил с Сюзанной Ленхоф, позже ставшей его женой, на улице Отель-де-Виль, а затем на бульваре Батиньоль, — сулил множество неожиданных и приятных приключений. Вдруг встретится хорошенькая девушка, или талантливый уличный музыкант, или приятель с последними новостями, а еще можно зайти в кафе выпить чашечку кофе…
Недалеко, рядом с площадью Мобер, жил ремесленник, который травил для Мане медные доски для офортов. И вот как-то, пересекая площадь, Мане увидел девушку. Пройти мимо нее было невозможно — красавица с открытым взглядом, стройная, изящная. Светлые, с рыжеватым оттенком пышные волосы, тонкие запястья, прекрасные пропорции. Похоже, ей не больше двадцати. Он просто должен уговорить ее прийти в мастерскую! С ее помощью он сделает такое, что не удавалось еще никому!
Мане, когда хотел, мог быть само очарование. «Среднего роста, скорее небольшого. Волосы и борода светло-каштановые. Близко поставленные глаза сияли юношеской живостью и огнем… Тонкие губы изогнуты в постоянной усмешке», — так описывал своего друга Эмиль Золя. Всегда элегантно одетый, с цилиндром, чуть сдвинутым на затылок, Мане производил неотразимое впечатление как на мужчин, так и на дам. И вот он уже рядом с очаровательной незнакомкой и с присущим ему обаянием непринужденно и весело спрашивает, не согласится ли мадемуазель провести с ним некоторое время — попозировать для одной из его картин? Его мастерская совсем недалеко. Мадемуазель не составит никакого труда дойти до нее. А кстати, его зовут Эдурд Мане. А как зовут мадемуазель?
Викторина-Луиза Меран — так представилась девушка — поначалу растерялась, ведь не каждый раз встречаешь столь приличных молодых и учтивых господ, да еще художников, да еще предлагающих заработать таким, по ее мнению, простым способом — сиди себе, ничего не делай, а потом получай франки, которых всегда не хватает. А ей, уроженке Монмартра, так хотелось вырваться из каждодневной нужды, так хотелось не думать о том, на что завтра жить. По утрам она рассматривала свое лицо в зеркало — белая безупречная кожа, карие глаза, густые волосы — ну почему бы ей не стать актрисой, не выступать на сцене какого-нибудь знаменитого парижского театра? Что она — хуже нынешних знаменитостей? И она соглашается на предложение Мане. А вдруг это шанс? Ведь она попадет в мир художников, их друзей, а там кто знает, как все сложится потом? У нее уже был некоторый опыт работы натурщицей — она как-то позировала в мастерской мсье Кутюра, и, признаться, отвращения у нее эта работа не вызвала.
Шел 1862 год, и Викторине было всего 18 лет. В такие годы решения принимаются быстро, и так хочется перемен! И вот она уже в мастерской Мане на улице Гюйо, бренчит на гитаре. О, Викторина умеет играть? И Мане вспоминается незнакомка с гитарой, которую он встретил на улице и которая запала в его память, — во время прогулки он увидел женщину, выходившую из сомнительного кабачка. Она грациозно приподняла край юбки, при этом придерживая гитару. Он тут же подошел к ней и предложил попозировать, но красотка дерзко рассмеялась ему в лицо — похоже, зарабатывала она на жизнь совсем иным путем. Так почему бы Викторине не стать уличной музыкантшей? И художник пишет «Уличную певицу» — она выходит из кабаре, придерживая одной рукой гитару, и ест вишни — типичная парижанка, типичная девушка с Монмартра.
У Викторины, по-видимому, действительно был определенный актерский дар — она могла легко перевоплощаться в совершенно разных персонажей, при этом оставалась поразительно естественной и свободной. Никакой зажатости, полное послушание, точное следование указаниям художника. А какое терпение! О такой модели можно только мечтать, как же мне повезло! — не раз восклицал Мане про себя и благодарил Бога за ту случайную встречу. Лицо Викторины обладало удивительным даром — оставаясь узнаваемым, оно могло в каждой новой картине приобретать какие-то новые черты, не теряя своей острой современности. Ее героини — это всегда парижанки конца XIX века. И Мане, прекрасно ощущая эту ее особенность, пользовался уникальным даром своей любимой натурщицы — а она стала его любимой натурщицей. Он писал ее в самых разных образах, словно гримируя для нового спектакля, новой сцены, новой роли. На его полотнах Викторина несла с собой облик того времени — расставание с прежними романтическими идеалами, цинизм, прагматизм, открытую сексуальность.
Кстати, о сексуальности. Мане пишет Викторину и обнаженной. Оба — люди молодые, ему 30, ей 18, и сексуальности в них хоть отбавляй. Пылкому Мане, известному ценителю женских прелестей, трудно устоять перед прелестями Викторины, да, впрочем, а надо ли себя сдерживать? И связь между художником и моделью — ну что может быть естественнее? Вскоре по артистическому Парижу поползли слухи — у Мане новая любовница, это его нынешняя натурщица мадемуазель Викторина… Наверное, слухи доходили и до Сюзанны, но она прекрасно знала своего друга и многое ему прощала, мудро закрывая глаза на его шалости подобного рода, ведь, по меткому выражению его биографа Перрюшо, «он любил любовь, как другие любят мороженое». И терпение ее было вознаграждено — в октябре 1863 года, спустя почти тринадцать лет после знакомства, она наконец становится законной мадам Мане (при этом их общий сын выдается за ее брата и носит ее фамилию!). Уж таковы были тогдашние нравы…
А Мане увлечен новым замыслом — ему хочется написать огромную картину с обнаженной натурой. Вдруг повезет, и именно обнаженная натура, выполненная его мастерской кистью, заставит Париж, да что Париж — всю Францию, понять, что он — великий художник. Позировать, конечно же, будет Викторина. А композиция? Ну, тут он, как правило, решения находил быстро. Чего тут думать, когда великие художники уже создали до него множество прекрасных картин. Антонен Пруст вспоминал, как Мане во время их прогулки по берегу Сены в Аржантее говорил: «Когда я еще учился у Кутюра (это был известный парижский мастер, школу которого прошли многие выдающиеся французские художники), я копировал Джорджоне — нагую женщину с музыкантами (Мане имел в виду картину «Сельский концерт»)… Но у меня все будет по-другому — я перенесу сцену на воздух, окружу ее прозрачной атмосферой, и люди будут такими, какими мы их видим сегодня. Это будет какая-нибудь загородная прогулка — то ли купанье, то ли завтрак на траве, в общем, увеселительная прогулка». И он подмигивает приятелю — уж они-то хорошо понимают, о чем идет речь. Но просто так переносить персонажей Джорджоне в Париж начала 1860-х годов как-то не хочется, и Мане ищет новые идеи. И вот удача — ему попадается гравюра Раймонди с рафаэлевской картины «Суд Париса». Тут три фигуры — одна женская и две мужские, — как раз то, что ему нужно! И, пожалуй, он еще добавит четвертую — пусть в глубине картины будет еще одна обнаженная женщина.
Итак, решение найдено. Осталось только воплотить все это на холсте.
Заручившись согласием Викторины — ее обнаженная фигура будет на первом плане этой огромной — 2,14 на 2,7 метра! — картины, Мане начинает работу. Для мужских фигур ему позирует его брат Гюстав и брат Сюзанны Фердинанд. Первый раз он пишет такое масштабное полотно, но решительности и веры в собственные силы ему не занимать. Он справится со всеми задачами — и композиционными, и живописными, и сделает это, без сомнения, великолепно.
Каково же было его разочарование, когда выставленная в «Салоне Отвергнутых» эта поразительная по мастерству, дерзости, живости, острой современности и невероятной свободе картина вызвала ругань и насмешки, острое неприятие даже в среде самых просвещенных и авторитетных критиков и художников, не говоря уж о простом обывателе, который воспринял картину как оплеуху, издевательство, как насмешку над нравственностью и моральными ценностями. Золя писал об этой работе Мане: «Боже! Какое неприличие! Женщины без малейшего намека на одежду среди двух одетых мужчин! Где это видано? Между тем такое мнение было грубейшим заблуждением, так как в Лувре найдется более полусотни полотен, где соединены одетые и полуодетые фигуры. Но в Лувре никто не станет возмущаться. В общем, толпа отказывалась судить о “Завтраке на траве” так, как судят о подлинных произведениях искусства, она увидела на картине только людей, закусывающих на траве после купания, и решила, что в трактовке сюжета живописец преследовал непристойную скандальную цель, тогда как на самом деле он стремился лишь к резким контрастам и смелому изображению цветовых пятен».
Столь общее осуждение стало страшным ударом для Мане. Вместо триумфа его ожидал полный крах! Но это еще не конец! Он чувствовал в себе невероятные творческие силы. Он им еще всем покажет!
Поразительно, как много значило для Мане общественное признание. Он, столь свободный в творчестве, не нуждавшийся в заработках — благодаря своему происхождению он мог творить, не думая о деньгах и не потворствуя вкусам толпы, — был страшно зависим от мнения критиков, журналистов, публики, приходивший на выставки. Ему страстно хотелось, чтобы они все признали его как гениального художника. Он очень старался, работал, не жалея себя, а они каждый раз почему-то не понимали его.
Одновременно с «Завтраком на траве» Мане работал над еще одной картиной, ставшей «героиней» Салона 1865 года. В этой картине, в этом живописном спектакле, главную роль снова сыграла Викторина Меран.
На сей раз Мане решил обойтись без мужчин — пусть на его картине теперь будет только женская фигура. Обнаженная прекрасная женщина — что может быть лучше? Вдохновлял его и недавний шумный успех другой обнаженной — «Венеры» любимца парижской публики Кабанеля, чья богиня любви была признана символом чистоты, целомудрия, гармонии, и даже король был восхищен этим творением, да настолько, что купил картину за немалые деньги!
И в этот раз Мане не мучается с разработкой композиции — теперь он решает переосмыслить на собственный лад тициановскую «Венеру Урбинскую», которую когда-то с восхищением копировал в стенах флорентийской галереи Уффици. И вот постепенно, после огромного количества подготовительных рисунков, рождается его Венера. Тоненькая Викторина лежит на белоснежных простынях. В правой части картины художник ставит служанку, подносящую Венере букет, и для большей выразительности делает ее негритянкой (возможно, то была идея Бодлера). Тициановскую собачку Мане смело заменяет на черного кота — он всегда предпочитал кошек собакам.
Мане работал как сумасшедший — картина не оставляла его, требовала внимания, времени, сил, неудержимо влекла к себе. Это было настоящее вдохновение! Заканчивая, он нисколько не сомневался, что создал истинный шедевр. Но чем больше Мане смотрел на свое творение, тем большие сомнения мучили его. Красавица Викторина, эта шейка с бархоткой, стройные ножки, домашние туфельки. Он писал ее так, как видел. А вдруг эта его картина тоже вызовет скандал? Он словно уже слышит улюлюканья и смешки, подобные тем, что вызвал его «Завтрак на траве». Нет, снова этот кошмар он просто не переживет. И Мане решает пока не выставлять полотно, а спрятать в мастерской. Венера подождет, пока он осмелится показать ее людям. Она его простит…
Мане едет в Голландию — там, в Залт-Боммеле, после тринадцати лет преданности, терпения, любви Сюзанна Ленхоф становится мадам Мане. Мать Мане счастлива — наконец-то приличия соблюдены, и на радостях она даже добавляет сыну капитал к тому наследству, которое ему и так положено после смерти отца.
Поездка в Голландию и женитьба внесли успокоение в душу художника. Похоже, теперь он снова готов вступить в бой. Решено — он выставит свою «Венеру» на Салоне 1865 года. Только теперь ее зовут «Олимпия» — так ее назвал художник Захари Астрюк, пришедший в восторг при виде полотна с обнаженной Викториной.
Жюри в том году было весьма либерально — картина, конечно же, не понравилась, зато никто не обвинит жюри в ортодоксальности, пусть публика сама выносит приговор этим сомнительным поделкам господ художников. Так «Олимпия» попадает на главную выставку года.
1 мая Салон был торжественно открыт. Когда там появился Мане, его встретили с поздравлениями — какие замечательные работы он выставил в этот раз, говорили ему самые разные люди. Ему прекрасно удаются пейзажи!
Какие пейзажи? О чем они все говорят? Мане ничего не понимал. Дело стало ясным, когда он вошел в зал, где висели работы художников с фамилиями на «М». Там действительно висели два пейзажа некоего Клода Моне. Да что же это такое! Мане взбешен. Откуда взялся этот проходимец? Его действительно все хвалят, зато в «меня швыряют гнилыми яблоками»! Да, сказать, что «Олимпию» не заметили, никак нельзя. По сравнению с накалом страстей, которые она вызвала, история с «Завтраком на траве» казалась невинной пасторалью. Кто эта Олимпия? Не намекает ли автор на одну из героинь «Дамы с камелиями» младшего Дюма, ту самую куртизанку, бесстыдную, развращенную, циничную? Что себе позволяет этот, с позволения, художник? Надругался над женщиной, красотой, чистотой, изобразил на своем полотне какую-то девчонку-проститутку, создал образ, вполне соответствующий поэзии своего приятеля, этого Бодлера с его «Цветами зла». Порнограф, грязный порнограф!
Так чем же так возмутила посетителей Салона «Олимпия» Мане?
Они увидели худенькую раздетую молодую женщину, на ноге — вполне современная туфелька, современные серьги в ушах. А еще — черная бархотка на шейке. Это была не абстрактная мифическая Венера, к которой публика привыкла, а вполне конкретная женщина, чьи занятия и образ жизни легко угадывались. Натурщица, кокотка, дама из кафешантана, проститутка во всей своей очаровательной, победительной порочности. Парижанка, их современница, живая, красивая, только вот усталость и затаенная боль в глазах. «Чистота совершенной линии очерчивает Нечистое по преимуществу — то, чье действие требует безмятежного и простодушного незнания всякой стыдливости», — писал Поль Валери. Именно это так выводило из себя парижских обывателей — уж слишком живо и честно была написана эта картина. Они еще не были готовы видеть на полотне не условность, а настоящую жизнь…
Устроители выставки, опасаясь, что посетители способны в приступе праведного гнева броситься со своими зонтиками и тростями на «Олимпию», ставят у картины двух вооруженных охранников. «Если полотно не было разодрано на полоски, то только благодаря мерам предосторожности, принятым администрацией», — писал Антонин Пруст.
В начале июня картину переносят в самый последний зал и помещают над огромной дверью так высоко, как никогда не вешали даже самые бездарные работы. Теперь детали трудно различить, но публика как сумасшедшая валит в зал поглядеть на эту проститутку Мане. На столь выдающееся событие, как явление «Олимпии» народу, с удовольствием откликнулась пресса. «Что это за одалиска с желтым животом, жалкая натурщица, подобранная бог знает где?» — спрашивал журналист L'Aristie Жюль Кларети. Обозреватель Grand Journal возмущался: «Никогда и никому не приходилось видеть чего-либо более циничного, чем эта “Олимпия”. Это самка гориллы, сделанная из каучука… Молодым женщинам в ожидании ребенка, а также девушкам я бы посоветовал избегать подобных впечатлений». Журналисты как могли изощрялись, придумывая новые сравнения и оскорбления. «Толпа теснится перед “Олимпией”, как в морге», — так рассказывали своим читателям о самом громком скандале года в La Press. Самое обидное было то, что даже многие замечательные художники и критики не смогли оценить картину Мане по достоинству. Посетив Салон, Курбе говорил об «Олимпии»: «Но это плоско, здесь нет никакой моделировки! Это какая-то пиковая дама из колоды карт, отдыхающая после ванны!»
Выносить все это просто невозможно! Его обвиняют в каких-то извращениях, его называют порочным. Что это, кто не прав — он или все, кто с такой неистовостью глумится сейчас над ним и его «Олимпией»? «Ругательства сыплются на меня градом, еще никогда на мою долю не выпадало такого праздника… От этих криков можно оглохнуть, но очевидно одно — кто-то здесь ошибается», — пишет Мане Бодлеру. Поэт, понимая, в каком положении оказался художник, пытается поднять его дух, снова вселить веру в собственные силы, веру в свой талант: «…Над вами смеются, насмешки раздражают вас, к вам несправедливы и т.д., и т. п. Но вы думаете, вы первый человек, попавший в такое положение? Вы что, талантливее Шатобриана или Вагнера? А ведь над ними издевались ничуть не меньше. Но они от этого не умерли… Вы — первый посреди упадка искусства нашего времени…»
Это письмо Мане помнил всегда, а тогда, в те страшные дни мая и июня 1865 года, оно стало для него невероятно важным, поддержало, подбодрило, не позволило отчаяться.
В конце июня он бежит из Парижа — едет в Булонь, затем — в Испанию. Поездка немного его успокаивает, а картины Веласкеса и Гойи вдохновляют на новые замыслы. Он снова ощущает желание писать. На вокзале в Андейи, по возвращении во Францию, он протягивает свой паспорт служащему. Тот, прочитав имя Мане, возбужденно зовет жену посмотреть на автора «Олимпии». С любопытством поглядывают на него и другие пассажиры. Мане приобрел всенародную славу!
В конце 1870-х годов он стал ощущать неполадки со здоровьем — появились боли в ногах, мучила скованность в движениях. Выяснилось, что это связано с воспалительными процессами в венах. Вскоре он уже писал сидя — стоять было трудно. Но, забывая о невыносимых болях. Мане создает свой последний шедевр — «Бар в Фоли-Бержер». В этой последней работе он достигает невероятных вершин, здесь все, чему он служил и поклонялся, — правда и красота жизни.
В 1883 году пришлось ампутировать ногу. Операция прошла успешно, но началась лихорадка. Эдуард Мане умер 30 апреля 1883 года, в окружении близких и родных. Все газеты откликнулись на уход одного из самых ярких художников Франции: «Мы ограничимся тем, что признаем его своим и не вычеркнем его из списка живых, несмотря на преждевременную смерть, которая похитила его у искусства».
За его гробом шел цвет французской культуры — Золя, Пруст, Дега, Писсарро, Ренуар…
«Тотчас после кончины, — писал Золя в статье, посвященной посмертной выставке своего друга, — Мане был удостоен неожиданного апофеоза. Вся пресса объединилась, заявляя, что погиб великий художник. Все те, кто накануне издевался и высмеивал его, обнажили головы и заговорили о всенародном признании мастера, триумфом которого стало его погребение… Что ж — повторилась вечная история: людей убивала человеческая тупость, чтобы потом ставить им памятники…»
А картины Мане ждали своего часа в его мастерской — музеи пока не покупали его полотен. Их еще только ждала всемирная слава. Продолжалась история и многострадальной «Олимпии».
В 1889 году Клод Моне объявил об общественной подписке — на собранные деньги он намерен выкупить у вдовы художника «Олимпию» и преподнести ее государству. Удивительно — слава Мане росла, а «Олимпию» очень многие еще не готовы были видеть в стенах государственного музея! «Мне рассказывали, — писала Моне Берта Моризо, замечательная художница и большой друг Мане, — что некто, чье имя мне неизвестно, отправился к Кэмфену (директору департамента изящных искусств), дабы выяснить его настроение (по поводу “Олимпии”). Кэмфен пришел в ярость, словно “взбесившийся баран”, и заявил, что, пока он занимает эту должность, Мане в Лувре не бывать. Тут его собеседник поднялся со словами: “Что ж, тогда придется прежде заняться вашим уходом, а после мы откроем дорогу Мане”». Даже Антонин Пруст, друг, блестящий критик, и тот сомневался, стоит ли «Олимпии» появляться в стенах Лувра. Однако он все-таки прислал Мане 500 франков. Золя, к огромному удивлению Моне, денег не дал, сказав, что он достаточно защищал Мане своими текстами. В конце концов нужная сумма была собрана, успешно шли и переговоры с государственными чинами, которые, правда, не давали гарантий по поводу Лувра. В ноябре 1890 года «Олимпия» была принята в Люксембургский музей. Прошло еще семнадцать лет, и наконец благодаря другу Моне Клемансо, в то время премьер-министру Франции, картина все-таки заняла свое место в главном музее страны. Тихим мартовским утром 1907 года, спустя почти четверть века после смерти Эдуарда Мане, к Лувру подъехал фиакр, и два служащих внесли в музей «Олимпию». Шедевр повесили в главном зале, напротив «Большой одалиски» Энгра. Так закончилась история этой великой картины.
Сейчас картины Мане («Завтрак на траве», «Олимпия» и другие) и полотна его друзей-импрессионистов украшают парижский музей Орсе.
А как сложилась жизнь Викторины Меран?
Викторина, видя, какой прием имеют картины Мане, очень сочувствовала ему и даже порой отказывалась от денег за позирование — она тогда не нуждалась, поскольку неплохо зарабатывала, позируя другим. Актрисой ей стать не удалось, но, подкопив небольшую сумму, она отправилась в Америку — попытать там счастья. Когда через несколько лет она вернулась, Мане пригласил ее поработать с ним еще раз — она стала героиней его картины «Железная дорога, вокзал Сен-Лазар». В усталой молодой женщине с книгой и щенком на коленях трудно узнать чаровницу Олимпию. Затем Викторина стала брать уроки рисования — долгие часы позирования и общения с художниками не прошли даром — и на Парижском салоне 1885 года представила автопортрет. Специалисты вспомнят еще две ее работы — «Нюрнбергская горожанка XVI века» (Салон 1879 года) и «Вербное воскресенье» (Салон 1885 года). Однако ее карьера как художницы не сложилась. Постепенно Викторина пристрастилась к горячительным напиткам, завела интрижку с натурщицей Мари Пеллегри, торговала рисунками сомнительного содержания, позже купила обезьянку, играла на гитаре перед заведениями на площади Пигаль, а потом La Glu, Липучка, как ее прозвали обитатели Монмартра, совсем опустилась — в каких-то жалких лохмотьях попрошайничала в кафе и барах. Около 1893 года Тулуз-Лотрек, помнивший, что это та самая Олимпия Мане, изредка навещал ее в убогой лачуге, приносил сладости, которые она любила.
Викторина Меран, любимая натурщица великого Мане, умерла в 1927 году, в преклонном возрасте и в полном забвении.
«Довольно крови!»
Илья Репин. «Иван Грозный убивает своего сына»
«Довольно крови!» — с такими словами в один из январских дней 1913 года набросился с ножом на репинский шедевр молодой, не очень душевно здоровый молодой человек по имени Абрам Балашов. Прошло более ста лет, и снова находятся люди, в ажиотаже повторяющие его слова. Эти господа утверждают, что они вполне здоровы, но при этом требуют убрать из галереи одну из самых знаменитых картин в истории русского искусства…
Картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», или, как сейчас принято называть эту картину, «Иван Грозный убивает своего сына», яркая, экспрессивная, поразительно реалистичная, всегда вызывала острые споры и сильнейшие эмоции у зрителей — и сразу же после завершения работы Репина, и потом, спустя десятилетия. Образ несчастного отца, погубившего сына, правителя, лишившего страну достойного наследника, эта кровь, эти безумные глаза царя-убийцы заставляют задуматься о природе власти, о тирании, о неизбежности наказания за совершенный грех и, конечно же, о мастерстве художника. Сила, мощь этой картины сослужили ей недобрую службу…
В конце февраля 1881 года Репин приехал из Москвы, где он жил тогда, в Петербург на открытие очередной, девятой, Передвижной выставки, которое должно было состояться 1 марта. Репин представлял на выставке портрет Писемского и великолепный портрет только что скончавшегося Мусоргского. 37-летний художник уже был хорошо известен в России. За его плечами — блестяще оконченная петербургская Академия художеств, «Бурлаки на Волге», принесшие ему настоящую славу («11 фигур — 11 горьких судеб на горячем песке под палящим солнцем раздольной русской реки» — так он сам определил сюжет картины), поездка в Европу, знакомство с шедеврами западного искусства. И непрерывная работа…
Итак, выставка открылась 1 марта 1881 года в доме Юсупова по Невскому проспекту, 86. Однако в тот день, 1 марта 1881 года, мало кто в России был способен воспринимать искусство — в этот день народовольцы убили царя Александра II, проезжавшего в своей карете по набережной Екатерининского канала. А уже через месяц, 3 апреля, Репин с волнением смотрел, как пятерка террористов — Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов и Рысаков — всходила на эшафот… На всю жизнь художник запомнил тот день. Спустя много лет он рассказывал поэту Василию Каменскому: «Я даже помню дощечки с надписью “Цареубийца”. Помню даже серые брюки Желябова, черный капор Перовской». Публичная казнь «первомартовцев» произвела на Репина огромное впечатление: в Москве, вернувшись из Петербурга, он пишет картину «Арест пропагандиста», а рядом с мольбертом стоит незаконченный «Отказ от исповеди». Образы отчаянных, безрассудных революционеров жили в его душе, не давали спокойно спать… Так рождался замысел показать кровавую сущность власти. Но как это сделать? И Репин решил прибегнуть к историческому сюжету.
В своих воспоминаниях художник так рассказывал о рождении сюжета картины: «…Я был на концерте Римского-Корсакова. Исполнялась симфония “Антар”. Его музыкальная трилогия — любовь, власть и месть — так захватила меня, и мне неудержимо захотелось в живописи изобразить что-нибудь подобное по силе его музыке. Современные, только что затягивавшиеся жизненным чадом, тлели еще не остывшие кратеры. Страшно было подходить — несдобровать… Естественно было искать выхода наболевшему трагизму в истории… и я вспомнил о царе Иване».
Художник хочет показать ужас не ограниченной ничем и никем власти царя-тирана. Иван Грозный, прославившийся жестокостью, своими безумными расправами над врагами, сластолюбец и убийца, — какой еще более яркий образ мог быть найден для выражений его идей! Репин берет за сюжет будущей картины самый, пожалуй, страшный момент в жизни царя — убиение сына Ивана. Вот уж когда мысль о царе-убийце доводится до логического завершения — царь, для которого ничего не дорого, царь, способный убить не просто своего подданного, но сына! В конце XIX века никто не сомневался в том, что Иван Грозный убил своего сына — ведь об этом рассказывалось в трудах всех русских историков, начиная с Карамзина!
Царевич Иван был сыном от первой жены Грозного Анастасии Романовны. Сразу же после рождения мальчика, случившегося 28 марта 1554 года, счастливый отец объявил его наследником престола. Царь Иван зачал этого своего сына в молодости, когда еще не предавался пирам и грешным забавам, и потому наследник получился в отличие от последующих отпрысков вполне крепким и здоровым во всех отношениях. Царь любил царевича, много внимания уделял его воспитанию и образованию, брал с собой в военные походы — в 1577 году царевич вместе с отцом побывал на Ливонской войне, в 1579-м — в походе на Новгород. И жену наследнику царь подбирал сам — как он мог доверить столь ответственное дело кому-то другому! Мнение самого царевича особенно тут не учитывалось. Первых его двух жен отец признал неудачными, и несчастные женщины (Елена Сабурова и Параскева Соловая) были отправлены в монастырь. Зато третья, Елена Шереметева, оказалась вполне приемлемой для царя, царевич же ее горячо полюбил.
Некоторые историки утверждают, что царевич был милосерднее отца, хотя и вынужден был принимать участие в публичных казнях врагов престола. Принимал он участие и в приемах послов, в правлении страной, но большого политического веса не имел. Благодаря заботам царя Иван получил хорошее образование и даже увлекался сочинительством — сочинил службу и Похвальное слово (житие) святому Антонию Сийскому.
Трагедия случилась в ноябре 1581 года (скорее всего 14 ноября). Царь с челядью жил тогда в столице опричнины — Александровской слободе. Одни историки полагали, что убийство царевича было не случайным — царь видел в умном, образованном, сильном и вполне достойном наследнике соперника, способного занять русский трон. Другие считали, что наоборот, царь и не думал убивать Ивана, все произошло совершенно случайно. По их версии, Грозный однажды встретил в одной из палат дворца невестку, одетую, как он полагал, неподобающим образом — не то число нижних рубашек было на ней! В палатах было жарко, и беременная Елена действительно слегка облегчила свои одеяния. И тут с царем, никогда не отличавшимся особым стремлением соблюдать приличия, случился приступ гнева — неоправданный, несправедливый. Царь в порыве дикой ярости набросился на несчастную беременную невестку, а увидевший эту безобразную сцену царевич, конечно же, встал на защиту любимой жены. И вот тогда отец ударил сына своим посохом, на котором был острый железный наконечник. Удар, попавший в висок, оказался смертельным — по одним источникам, царевич скончался сразу, по другим — после ужасных мучений, через четыре дня, 19 ноября. От страшных переживаний беременность Елены закончилась выкидышем. Оставшуюся часть жизни она, в одночасье потерявшая мужа, ребенка и статус будущей царицы, провела в монастыре.
Иван-царевич, волею отца не доживший и до тридцати лет, умер, не оставив потомства. Погребли его торжественно, в московском Архангельском соборе, по всем канонам. Горе Ивана Грозного было безмерным. Как мог, он замаливал свой страшный грех: отправлял дорогие дары в монастыри, заказывал службы, молил Господа о прощении…
Но сегодня многие специалисты по истории России полагают, что царь не убивал своего сына. Нет об убийстве царевича ни слова или хотя бы намека и в русских летописях. Лишь констатация факта: царевич скончался в Александровской слободе 17 ноября 1581 года. В 1963–1965 годах в Архангельском соборе Московского Кремля были вскрыты гробницы и изучены останки царевича Ивана. Официальные результаты таковы: никаких открытых черепно-мозговых травм у царевича не обнаружено! Смерть наступила в результате отравления ядом!
В экспертном заключении говорится, что при исследовании волос, извлеченных из саркофага Ивана Ивановича, крови не обнаружено (молекулярная структура крови такова, что смыть ее следы с волос никакими средствами невозможно), зато ученые обнаружили в останках царевича Иоанна мышьяк и ртуть, причем содержание мышьяка превышает смертельно допустимую норму в 3 раза, а содержание ртути — в 33 раза! Итак, получается, что Ивана Грозного оклеветали!
Гнусный клеветник, как полагают сегодня историки, — это монах-иезуит Антоний Поссевин, который приехал в Москву спустя несколько месяцев после смерти царевича как личный представитель (легат) папы Григория XIII с целью подчинить Русскую Церковь папскому престолу. Однако у него ничего не получилось — царь устоял перед богатыми посулами Ватикана и не предал православия. Миссия была провалена. И тогда прелат возненавидел русского государя и сочинил пасквиль о том, что Иван Грозный в порыве гнева убил своего сына и наследника престола царевича Ивана.
А затем эту историю подхватил другой иностранец, немец Генрих Штаден, бывший опричником на царской службе. Его записки вошли в обиход русских историков и затем попали к Карамзину. Так история о царе Иване-сыноубийце вошла в национальное сознание.
Но тогда, в начале 1880-х годов, Репин был уверен в исторической правде своего полотна, да, вероятно, это было и не так уж важно для него — главное было показать жестокость правителя, не щадящего даже своего сына…
Работа над картиной, посвященной царю-сыноубийце, увлекла Репина. Натурщиков долго искать не пришлось. Грозный был написан с известного передвижника Григория Григорьевича Мясоедова — приятели обоих художников легко узнавали в чертах царя мясоедовский кривой нос, резко вылепленный череп с покатым лбом, крупные уши и впадины у висков. Григорий Григорьевич был резким, сложным человеком, порой просто невыносимым. От его характера страдали и близкие, и друзья. Своего сына Ивана он долгие годы не признавал — внушал ему, что он приемыш, был с ним груб и нетерпим. А однажды после какой-то шалости мальчика так страшно на него разозлился, что чуть не убил, после чего маленького Ивана забрал в свою семью пейзажист Александр Киселев, ставший свидетелем этой безобразной сцены. Конечно, Репин знал, что происходило в семье его товарища-передвижника, и, возможно, не случайно именно с Мясоедова писал своего царя Ивана. Детоубийцей тот, конечно, не был, но все-таки в чужую семью и в приют своего родного сына отдавал! Позже сам Мясоедов вспоминал: «Илья взял царя с меня, потому что ни у кого не было такого зверского выражения лица, как у меня…»
Для образа царевича Ивана согласился позировать другой товарищ художника, талантливый писатель Всеволод Гаршин. Лицо царевича получилось великолепно — на нем ясно видна печать смерти. И поразительно — Репин тут оказался настоящим провидцем! — спустя несколько лет после окончания работы над картиной Гаршин, с детства очень впечатлительный и страдавший нервным расстройством, покончил жизнь самоубийством, бросившись в лестничный пролет. Ему было всего 33 года!
Репин делал этюды в Кремле, в Теремах, устроил декорацию в своей мастерской. Костюмы, как свидетельствует дочь художника, он «кроил сам, и сапоги царевича расписывал по светлой лайке, с загнутыми носами». Дворцовую палату и всю обстановку Репин воссоздавал по одной из комнат музея, называвшегося «Дом боярина XVII века». Кресло и кафтан царевича писались в Оружейной палате, жезл царя — с жезла, хранившегося в Царскосельском дворце. Репин тщательно изучал исторические материалы и книги об Иване Грозном, вышедшие к тому времени. Художник очень хотел, чтобы на полотне была правда. Правда жизни и правда искусства. Пугало только одно — не хватит таланта. «Чувства были перегружены ужасами современности, и порою одолевало разочарование в своих силах, в своей способности передать эти чувства», — вспоминал позднее художник. Но таланта Репину хватило — он создал настоящий шедевр. Причем, как это часто бывает с настоящими художниками, свершение оказалось гораздо значительнее замысла, сформированного под влиянием конкретного исторического события. А потому и важнее, существеннее.
У Репина получилось полотно, насыщенное поистине шекспировскими страстями — тут не только царь-убийца, но и отец, потерявший сына, государь, властитель, совершивший злодеяние и боящийся возмездия, и его сын, по воле отца оказавшийся на грани жизни и смерти, и в глазах его — страшный момент перехода в небытие, осуждение и прощение отца, нанесшего ему смертельный удар. Целая симфония чувств: горечи, раскаяния, осознание непоправимости содеянного, страх смерти и страх жизни…
Только что рухнул на устланный коврами пол царевич, и отец бросается к сыну в порыве ужаса и раскаяния. Откатился посох, опрокинуто кресло. И кровь — она везде, алая, темно-бордовая, все оттенки красного.
Царь обнимает сына, зажав рукой рану на виске. В глазах — отчаяние, боль, страх, безумие. На что же способен человек в порыве своих страстей! И как легко переходит он черту, отделяющую его от зверя! А на лице царевича — и ощущение близости смерти, и стыд за отца, и горький укор — ведь впереди у него была вся жизнь, жизнь рядом с любимой женщиной, жизнь, наполненная служением Отечеству…
«Никому не хотелось показывать этот ужас… Я обращался в какого-то скупца, тайно живущего своей страшной картиной», — признавался Репин. Но однажды он все-таки решил, что пора показать «Ивана» людям. В мастерскую пришли только самые близкие друзья, свои же братья-художники — Крамской, Шишкин, Ярошенко.
Репин долго устанавливал перед закрытой картиной лампы, а затем резко сдернул занавеску. «Гости, ошеломленные, долго молчали, как зачарованные в “Руслане” на свадебном пиру. Потом долго спустя только шептали, как перед покойником… Я наконец-то закрыл картину. И тогда даже настроение не рассеялось. Особенно Крамской только разводил руками и покачивал головой. Я почувствовал себя даже как-то отчужденным от своей картины, меня совсем не замечали… “Да вот”, — произносил как-то про себя Крамской». А в письме Суворину, издателю газеты «Новое время», Крамской рассказывал: «Меня охватило чувство совершеннейшего удовлетворения за Репина. Вот она, вещь в уровень таланту… И как написано, Боже, как написано!»
Публике картина была показана в 1885 году на Передвижной выставке в Санкт-Петербурге. Это был настоящий шок, полотно Репина никого не оставляло равнодушным. О «Грозном» говорили везде — и в светских салонах, и на студенческих вечеринках. Одни увидели в картине антимонархические настроения, и, собственно, были отчасти правы. Для них картина была глубоко крамольной. Другие же, например, некоторые профессора Академии художеств, с возмущением указывали на анатомические неточности: якобы на картине слишком много крови — так не бывает, и убиенный не мог так быстро побледнеть. Впоследствии И. Грабарь, известный искусствовед и реставратор, сыгравший огромную роль в судьбе репинского шедевра — об этом позже, — писал: «Картина не есть протокол хирургической операции, и если художнику для его концепции было нужно данное количество крови и нужна именно эта бледность лица умирающего, а не как это было в первые минуты после ранения, то он тысячу раз прав, что грешит против физиологии, ибо это грехи шекспировских трагедий, грехи внешние, при глубочайшей внутренней правде». Многие не приняли и не почувствовали глубокие смыслы, заложенные в репинском «Иване Грозном…» И даже великий критик Стасов не понял картину, увидев в ней только воспроизведение исторического сюжета. Но были и такие, кто сразу оценил глубину заложенных в полотне идей и мастерство, с которым оно было написано. Так, Лев Толстой писал Репину: «Иоанн ваш для меня самый плюгавый и жалкий убийца… И красивая смертная красота сына. Хорошо, очень хорошо. И хотел художник сказать значительное. Сказал вполне ясно. Кроме того, так мастерски, что не видать мастерства».
Умный обер-прокурор Синода Победоносцев, тот самый, который позже появится на грандиозном репинском полотне «Заседание Государственного совета» (1901–1903) (блестяще написанный образ чиновника, уверенного в своем могуществе и в праве решать судьбы людей), тоже все сразу понял. Понял, как опасна может быть эта картина для вверенного его заботам российского общества. 15 февраля 1885 года в письме к Александру III он указывал: «Стали присылать мне с разных сторон письма, что на Передвижной выставке выставлена картина, оскорбляющая у многих правительственное чувство: “Иван Грозный с убиенным сыном”. Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на нее без отвращения… Какой мыслью задается художник, рассказывая во всей реальности именно такие моменты? И к чему тут Иван Грозный? Кроме тенденции известного рода, не приберешь другого мотива».
К счастью, в Петербурге картину все-таки с выставки не убрали. Зато в Москве власти по высочайшему указу запретили ее с указанием «не допускать для выставок и вообще не дозволять распространения ее в публике». Павел Михайлович Третьяков, сразу купивший картину, поначалу повесил ее в отдельной комнате и показывал только близким друзьям, а домашние и слуги всегда крестились, проходя мимо запертой двери. К счастью, вскоре запрет на «Ивана…» был снят, и москвичи тоже смогли увидеть репинское полотно. Казалось, все позади, и у репинского шедевра впереди счастливая спокойная жизнь в одном из лучших художественных собраний России.
Но картину ждало еще одно испытание.
16 января 1913 года в Третьяковской галерее появился необычный посетитель. Бедно одетый, высокий, худой, бледный, он производил странное впечатление. Сначала он долго стоял перед «Боярыней Морозовой» Сурикова, а затем подошел к репинскому «Ивану Грозному» и опять долго стоял, словно застыв, вглядываясь в полотно, при этом глаза его возбужденно и даже как-то болезненно блестели. И вдруг, крикнув «Довольно крови!», он бросился к полотну, выдернул из-за пазухи сапожный нож и трижды ударил картину. Наутро уже все знали имя молодого человека — его звали Абрам Балашов. О нем писали газеты, судачили в московских домах. Никто не мог понять, что заставило юношу изуродовать одну из популярнейших картин Третьяковской галереи. Какие только слухи не ходили тогда по Москве! Наконец кое-что стало ясным.
Судьба Балашова не баловала. Его, старообрядца-раскольника, любителя старины, иконописца, в свое время исключили из художественного училища. Он выглядел не очень нормальным — возможно, действительно был душевнобольным. Но если он и был болен, болезнь его была весьма своеобразной — она проявлялась в страстной ненависти к подавлению свободы, к всяческому насилию. Вот и в репинской картине он увидел лицо насилия, дух его, и в приступе неприятия всего этого — в приступе, несомненно, безумия — нанес удары Злу. Метил-то во Зло, а поразил Добро, изуродовал шедевр. Еще один пример того, что добрыми намерениями усеян путь в ад…
Балашов попал в психиатрическую больницу. В России это был первый случай музейного вандализма. Неудивительно, что событие сие требовало объяснений. Почему картина так подействовала на Балашова и, по сути, свела его с ума?
Репин выдвинул оригинальное объяснение: он заявил, что художники-авангардисты во главе с Д. Бурлюком, а также члены объединения «Бубновый валет» подучили Балашова уничтожить картину как символ реалистического искусства. На это обвинение ответил поэт Волошин. Во время своей публичной лекции в Политехническом музее — лекция так и называлась «Иван Грозный и его сын. Картина Репина» — он сказал, что Репин сам спровоцировал акт вандализма, в погоне за дешевой популярностью переборщив с внешними эффектами и излишним натурализмом. И вообще картину нужно было бы изрезать совсем. Реакция Репина, приехавшего на вечер, последовала тут же: «Надо же, приличный господин, а не любит моего “Ивана Грозного”. Если так дело пойдет, то вскоре и Рембрандта начнут резать». (К сожалению, художник и тут оказался пророком. Любимой жертвой вандалов от искусства стал рембрандтовский «Ночной дозор», покушению подверглась и знаменитая «Даная».)
Казалось, после ударов Балашова картина погибла навсегда. Что было делать? Игорь Эммануилович Грабарь, в те годы служивший попечителем галереи, решил попытаться восстановить полотно. Первым делом о случившемся сообщили Репину. Он тут же бросился спасать свое творение и переписал голову Грозного. Наверное, художник хотел доказать всем и в первую очередь себе, что не растерял за эти годы ничего, что так же силен в живописи, как и почти тридцать лет назад, когда создавал это полотно. Но время ни для кого не проходит бесследно… Грабарь рассказывал: «Когда я вошел в комнату, где была заперта картина, я глазам своим не поверил: голова Грозного была совсем новая, свеженаписанная, сверху донизу в какой-то неприятной лиловой гамме, до ужаса не вязавшейся с остальной гаммой картины. Медлить было нельзя, краски могли к утру значительно затвердеть; я тут же сначала насухо, потом с керосином протер ватой все прописанные места, пока от утренней живописи не осталось и следа и полностью засияла живопись 1884 года». Затем Грабарь с художником Д.Ф. Богословским старательно воссоздали прежний вариант.
Более полугода продолжались реставрационные работы, и наконец картина, целая и невредимая, снова заняла свое место в галерее. Конечно же, на торжества прибыл и Репин. Вряд ли он не заметил вольности художников, но промолчал, ничего не сказал, выразив общее удовлетворение от состояния картины.
Последние тридцать лет своей жизни Репин прожил в Куоккале, в Финляндии, в доме с мастерской, названном им «Пенатами». После 1917 года «Пенаты» оказались за границей России. Репин мечтал вернуться на родину, и его очень звали, однако поначалу он боялся переезжать в большевистскую Россию, а потом сил на переезд не стало — с годами его здоровье не улучшалось. Великий русский художник Илья Репин скончался 29 августа 1930 года в возрасте восьмидесяти шести лет.
Несмотря на тонкую работу реставраторов, преступление Балашова все-таки оставило страшные следы. Полотно, и ныне украшающее, если можно так сказать о насыщенной страстями и болью картине, Третьяковскую галерею, тяжело болеет. Трещины, отслоения краски… Реставраторы постоянно следят за ней, совершая свой ежедневный, видимый лишь специалистам подвиг, пытаются сохранить картину для последующих поколений.
Жизнь великого полотна Ильи Репина продолжается. По-прежнему оно рождает споры и вызывает в душах ужас от содеянного его героем и восхищение потрясающем мастерством художника.
Кончита мариниста Айвазовского.
Иван Айвазовский. «Портрет жены»
«Пришел ты, маленький человек с берегов Невы, в Рим и сразу поднял Хаос в Ватикане», — восхищенно писал Гоголь об Айвазовском и о покупке папой Римским его картины «Хаос». Этот замечательный художник — один из немногих российских живописцев, приобретших европейскую славу. Он прожил долгую жизнь и успел сделать невероятно много. В истории искусства Айвазовский остался прежде всего как великолепный маринист — ну кто не знает его гениального «Девятого вала»! Однако в его творчестве были и жанровые сцены, и батальные, а еще — удивительные, полные лирики и любви портреты прекрасной, преданной и любящей женщины…
17 июля 1817 года в книге рождений и крещений феодосийской армянской церкви появилась запись: «Родился Ованес, сын Геворга Айвазяна». Сам художник так рассказывал о своих предках: «Я родился в городе Феодосии в 1817 году, но настоящая Родина моих близких предков, моего отца была далеко не здесь, не в России. Кто бы мог подумать, что война — этот бич всеистребляющий, послужила к тому, что жизнь моя сохранилась и что я увидел свет и родился именно на берегу любимого мною Черного моря… В 1770 году русская армия осадила турецкую крепость Бендеры. Крепость была взята, и русские солдаты, раздраженные упорным сопротивлением и гибелью товарищей, рассеялись по городу и, внимая только чувству мщения, не щадили ни пола, ни возраста. В числе жертв их находился и секретарь бендерского паши. Пораженный смертельно одним русским гренадером, он истекал кровью, сжимая в руках младенца, которому готовилась такая же участь. Уже русский штык был занесен над малолетним турком, когда один армянин удержал карающую руку возгласом: «Остановись! Это сын мой! Он христианин!» Благородная ложь послужила во спасение, и ребенок был пощажен. Ребенок этот был мой отец». А тот добрый армянин стал, по сути, вторым отцом несчастного сироты, он окрестил его, дав имя Константин и фамилию Гайвазовский, от слова «гайваз», что на турецком — «секретарь».
Прожив много лет со своим благодетелем в Галиции, Константин Гайвазовский приехал в Феодосию и вскоре женился на молодой красавице армянке Рипсиме. Молодой супруг занялся торговлей, и поначалу дела пошли совсем неплохо. Но в 1812 году Крым накрыла эпидемия чумы, а в таких обстоятельствах никто ничего не покупает. Многие тогда разорялись. Вот и Гайвазовский потерял большую часть своего состояния. До рождения Ованеса у Гайвазовских уже были две дочери и двое сыновей, и если бы не Рипсиме, оказавшаяся искусной вышивальщицей, кто знает, смогли ли бы они прокормить детей.