Огненный омут Вилар Симона
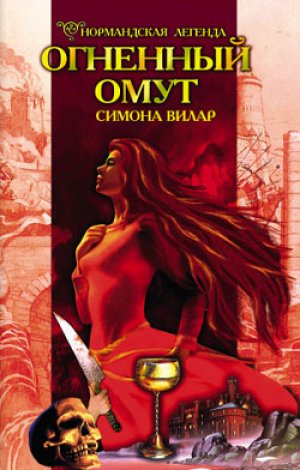
– Возможно.
Эмма резко встала.
– Ты не сделаешь этого, Ру! Рагнар всегда был предателем, а Снэфрид… Клянусь царицей небесной, я возненавижу тебя, если ты пойдешь на союз с нашими врагами.
Ролло резко вогнал лезвие кинжала в стол, сжал его рукоять.
– Я уже послал к нему людей. И не тебе приказывать мне, что делать.
Он говорил жестко. Его глаза потемнели от гнева. Эмма видела это, но ей уже было все равно. Она даже не придала значения насмешливому интересу, с каким наблюдал за ними Геллон.
– Рагнар всегда был врагом. И ты просто глупец, что вновь вкладываешь руку в пасть этого волка. Хотя, может, ты просто истосковался по своей Белой Ведьме? Но, видит Бог, если ты не отменишь решения… Ничто не удержит меня в Нормандии. Лучше стать нищей бродягой, чем терпеть самодурство человека, который называет меня женой, а относится, как к последней шлюхе!
Геллон вдруг расхохотался. Ролло же медленно встал. Взял Эмму за руку. Она рванулась, но он крепко держал ее запястье. На лице его было то выражение, какое заставляло называть его грозным Ру из Нормандии, а его пожатие само по себе было предупреждением: «Я могу сломать тебе руку, если ты не укротишься».
И Эмма вдруг испугалась. Ролло попросту вывел ее из зала. По пути он даже улыбался ей, но его глаза, когда он оглядывался на нее, были темнее ночи.
– Ты рыжая бестия!
Они были одни в пустом сводчатом переходе, и Ролло с силой прижал ее к стене. Она слабо охнула, ощутив резкую боль в пояснице, но Ролло даже не обратил на это внимание.
– Запомни, Птичка, что я скорее сам выгоню тебя вон, чем позволю делать из меня посмешище. Ты всего лишь моя жена, ничтожная женщина, и если ты еще хоть раз… Клянусь священной кровью Одина – порой я готов пожалеть, что променял на тебя Снэфрид.
Она вздрогнула, как от удара хлыстом. Сердце ее заныло столь сильно, что она даже не придала значения повторной боли в спине и внизу живота. Стояла дрожала, и испуг в ее глазах был равен гневу.
Ролло наконец отпустил ее, вышел. Она стояла одна, глядя на отблески огня на тяжелой кладке свода. Он пожалел о Снэфрид… Она всегда боялась, что рано или поздно такое может случиться. Где-то в глубине души Эмма понимала, что сама спровоцировала Ролло, что должна первой пойти на примирение. Но ее упрямая гордость все же брала верх над разумом.
Ролло идет на союз с ее заклятыми врагами – мужчиной, который издевался над ней, и женщиной, которая хотела ее убить. И он не понимает ее гнева, он унизил ее при всех, был груб, и… Она охнула, склонившись почти пополам от новой резкой боли, и поняла, что ее время пришло.
Первой ее мыслью было кинуться за Ролло, но она удержала себя. Помнила свою клятву Франкону и испытывала мстительное чувство. Она ничего не сообщит Ролло. Пока. Она крестит своего ребенка, и Ролло вынужден будет смириться. Это будет ее ответ на нанесенное сегодня оскорбление.
На лестнице раздались перезвоны струн. Появился паж Риульф с лирой. Замер, увидев скорчившуюся у стены Эмму.
– Госпожа…
Она заставила себя выпрямиться. Сказала как можно спокойнее:
– Вели приготовить носилки, Риульф. Я отправляюсь в аббатство Святого Мартина за мостом.
Носилки плавно покачивались на плечах сильных рабов. Сквозь задернутые занавески долетали звуки города – гомон голосов, плеск реки, цокот подков. Эмма полулежала в носилках и кусала до крови губы от приступов резкой боли. Порой даже стонала и с силой сжимала руку перепуганного Риульфа. Мальчик уже догадывался, в чем дело.
– Госпожа, мы должны оповестить конунга. Вам не следовало сейчас уезжать.
Она только отрицательно замотала головой и с такой силой сжала руку мальчика, что он вскрикнул.
– Нет, Риульф, нет, – зашептала она, когда боль на минуту отпустила. – Ты доставишь меня к епископу Франкону, а затем вернешься и вызовешь Сезинанду. Но больше не смей говорить никому ни слова. Я приказываю – никому!
Она так спокойно вышла из носилок и прошла в покои Франкона, что никто ничего не заподозрил. Франкон встал от стола, где он трапезничал в компании Гунхарда, удивленно взглянул на Эмму, вытирая блестевшие жирные губы.
– Рад приветствовать вас в нашей обители…
Он еле успел подхватить ее. Все тотчас понял.
– Гунхард, проследи, чтобы никого не было на переходе в баптистерий.[9] И позови повитуху, что мы поселили во флигеле.
Сезинанда явилась недовольной. Она только покормила ребенка и собиралась присоединиться к пирующим, когда явился Риульф с приказом от Эммы явиться в аббатство Святого Мартина. Сезинанда уже знала о ссоре на пиру между супругами и что рассерженная Эмма покинула дворец и считала, что вызов Эммы является одной из очередных прихотей подруги.
Однако когда ее провели в пустой баптистерий и она увидела мечущуюся на шкурах поверх охапки сена, как простая вилланка, Эмму, она переменилась в лице.
Возле Эммы хлопотала повитуха, прямо за колонной на плитах развели костер. На нем кипятилась вода. Рядом стоял еще один остывавший котел с водой. Епископ Франкон бродил вдоль бассейна под куполом базилики, бормотал молитвы. Приор Гунхард колол коленья на щепы, подбрасывал их в огонь.
У Сезинанды все похолодело внутри. Она поняла, что рождение наследника Ролло хотят провести в тайне. Поняла она и то, чем это грозит в случае, если с Эммой или ребенком что-то случится. И ей вдруг ужасно захотелось вернуться во дворец, сославшись на то, что необходимо быть со своим ребенком. Но вместо этого она стала помогать повитухе раскладывать на ларчике чистое полотно.
– Воды уже отошли?
– Только что, – ответила женщина. Она казалась опытной и немногословной. Сезинанде и в голову не приходило, что эти попы так предусмотрительны и заранее подберут повитуху.
У Эммы вновь начались схватки. Она шумно задышала, вцепившись в шкуру. Но не издала ни звука.
– Я здесь, Птичка, – присела в изголовье Эммы Сезинанда, приподняла ее за плечи. – Все будет хорошо. Я помогу тебе.
– Сезинанда… – Эмма перевела дыхание.
Добавила, словно извиняясь:
– Мы с тобой думали – она родится в конце сентября.
– Ничего страшного, Птичка, – успокаивала ее Сезинанда. – Немного ранее, чем должно, но все будет нормально. У меня вот Осмунд раньше срока появился, а погляди, какой крепыш.
Она говорила это, чтобы отвлечь Эмму и унять свой страх. Чувствовала, как Эмма сжалась, напряглась в ее руках. Кусала губы, задыхалась. Сезинанда удивилась ее терпению. Сама-то она криками подняла весь дворец, когда пришло ее время.
В полночь Гунхард пошел провести службу в аббатстве. Монахи удивленно приглядывались, когда он замирал во время чтения Библии, стоял, словно думая о чем-то своем или прислушиваясь. Службу провел кое-как. Прошел мимо запретных темных покоев, где, как всех известили, осталась ночевать Эмма, и, захватив все положенное для крещения, под сенью колоннады скользнул в баптистерий.
Ночь выдалась темная, ветреная. Деревья в старом парке аббатства шумели, роняли первые умершие листья. Когда ветер стихал, был слышен гомон из дворца Ролло за рекой, где пиршество было в самом разгаре.
У дверей в баптистерий Гунхард застал встревоженного Риульфа.
– Почему так тихо? – заволновался Гунхард, но мальчик лишь трясся да пожимал плечами. Ему уже мерещилось наказание от Ролло. И он то молился, то доставал амулет Тора на ремешке и подносил его к губам, как подносят крест. Если госпожа Эмма умрет… Риульф знал, что сам стоил жизни матери, и панически боялся тихой возни, что доносилась из дверей баптистерия.
Под утро, когда разразилась гроза, Эмма уже не могла сдерживаться. Франкон стоял над ней с распятием, тихо молился. Эмма порой впадала в забытье, из которого тут же выходила, и глаза ее напряженно и безумно блестели, когда она извивалась в новой схватке.
– Я так устала, – шептала она распухшими губами. Ее лицо, покрытое испариной, блестело в свете костра. – Позовите Ролло, – вдруг стала молить она, и ее шепот гулко разносился в сводах баптистерия.
Франкон заломил руки. Ему стало казаться, что она умирает. Повитуха же была спокойна.
– Дитя уже опустилось. Скоро все закончится.
Над их головой раздался оглушительный раскат грома. Франкон в страхе крестился.
Гром разбудил и устало задремавшего у дверей Риульфа. Он вскочил, не сразу поняв, где он находится. Над головой нависал полукруглый свод арки, в сереющем сумраке рассвета потоки небес с грохотом низвергались на каменные ступени. И вот сквозь этот шум Риульф вдруг различил за створками дверей негромкий детский плач. Он даже не сразу поверил в это. Приоткрыл дверь. Увидел блики костра на своде, тени суетящихся фигур и… Да, он не ошибся, жалобно и упорно кричал ребенок.
И тогда Риульф вдруг пустился в пляс, скакал, крутился, посвистывал. Значит, все закончилось, значит, Ролло не спустит с него шкуру, значит, он снова сможет петь для госпожи Эммы.
Он едва не налетел на вышедшего из дверей Гунхарда. Затараторил, задавая вопросы, совсем забыв о своем страхе перед этим мрачным сухим священником. Да и Гунхард, хоть и выглядел усталым, был на удивление общителен.
– Свершилось. Мальчик. Сын. Здоровенный красный крикун. Епископ тотчас окрестил его, и теперь наследник Нормандии – христианин. Франкон спросил у матери, как его назвать, но она была так слаба и счастлива, что ничего не могла придумать, и сказала, чтобы Франкон сам придумал имя мальчику. И теперь у нас есть Гийом, или Вильгельм, на старофранкском, крещеный наследник Нормандии.
– А как госпожа Эмма? Все в порядке? Тогда надо оповестить конунга Ролло.
Гунхард словно очнулся.
– Позже, – сказал он, засовывая руки в широкие рукава и выпрямляясь. – Сейчас надо устроить Эмму и Гийома Нормандского в подобающем покое. И дать госпоже отдых. Она славно потрудилась, а ведь ей еще предстоит сообщить язычнику, что его дитя уже находится в лоне нашей святой матери церкви.
Было уже далеко за полдень, когда епископ Франкон в нарядной шелковой ризе с вышитыми на груди и спине крестами, в сверкающей каменьями митре, важно опирающийся на золоченый посох, вошел во дворец Ролло. Его сопровождала целая свита, и он держался с достоинством, ибо, несмотря, что слухи уже распространялись по аббатству, Франкон ни единой душе не позволил бы опередить его столь счастливой вестью.
Конечно, Франкон понимал, что правитель-язычник, узнав, что его сын уже крещен, не сильно будет ликовать по этому поводу. Но, Боже правый, разве само событие не стоит того, чтобы простить и его, и Эмму, и этого замечательного крещеного крикуна! Франкон очень рассчитывал на это. Роллону уже был тридцать один год, и он наконец-то заполучил своего законного наследника.
Во дворце после бурной ночи повсюду, развалившись кто где, спали викинги.
Франкон со своей свитой важно прошествовал по переходам, переступая через их тела. Лодин Волчий Оскал грубо выругался, когда завершающий шествие дьячок наступил ему на руку, проснулся и сонно вытаращился на шествующих по проходу священников.
– Клянусь Локи! С чего бы это попам водить здесь хороводы?
У Ролло болела голова с похмелья. Вчера, чтобы забыть ссору с женой, он явно перепил медовухи. Не помнил, как и добрался в опочивальню. Его хватило лишь на то, чтобы скинуть тунику и один сапог. Сердито ударил по подушке, где было место Эммы.
– Ушла-таки. К своим попам. Ладно, никуда ты не денешься, злая, упрямая девчонка.
Сейчас, утром, он размышлял, как задобрить Эмму. Она была не права, но и ему бы следовало предупредить ее заранее, чтобы весть о союзе с Рагнаром и Снэфрид не застала ее врасплох. Он ударил в медный диск. Явились рабы-прислужники. Один все же стащил с него оставшийся сапог. Другой услужливо поднес кружку с холодным сидром.
Когда открылась дверь и перед ним во всем блеске парадного облачения предстал епископ Франкон, окруженный свитой монахов, нотариев, дьячков, у Ролло удивленно поползли вверх брови. Он с любопытством уставился на распевающих псалмы монахов. Стал пить сидр, наблюдая за ними поверх кружки. Крякнул от удовольствия.
– Ну что, моя раскрасавица Эмма опять послала тебя, поп, улаживать наши противоречия? Взяла в обычай – чуть что искать укрытия в стенах аббатства.
У Франкона было сияющее лицо.
– Да будет благословлен этот день, и ты запомнишь его навсегда, Роллон Нормандский. Ибо сегодня, за три дня до празднования Рождества Богородицы,[10] супруга твоя, Эмма Робертинка, графиня Байе, родила на свет Божий дитя мужского пола, нареченного франкским именем Гийом.
Ролло так и не донес второй раз до рта кружку, а лишь смотрел на Франкона, который, не останавливаясь, продолжал рассказывать, что дитя родилось под утро, и из-за сильного ливня он не смог сразу послать известие, а позже не мог отказать себе в удовольствии…
Франкон невольно втянул голову в плечи, когда Ролло одним прыжком оказался подле него и тряхнул его за ворот.
– Где они?
Едва получив ответ, он, как был, полуголый и босой, выскочил из покоя, во дворе вырвал из рук охранника повод лошади. И понесся, как безумный, в аббатство.
В это время Эмма, уже умытая и причесанная, сидела на постели, с нежным любопытством изучая крошечное существо, завернутое в такое длинное покрывало, что его хватило бы и взрослому.
– Гийом, – говорила она, любуясь этим крохотным носиком, зажмуренными глазками, толстыми щеками. – Гийом… мой мальчик! О, Сезинанда, как он прекрасен! Я никогда не думала, что рожу столь восхитительного сына.
О желании иметь дочь было тотчас забыто.
– Все младенцы, как ангелы, – уклончиво ответила Сезинанда, хотя она сама, родившая всего три месяца назад, прекрасно понимала, что сейчас чувствует подруга. Но Сезинанда была весьма практична, поэтому уже видела себя кормилицей наследника Нормандии и сразу заявила, что пока Эмма отдыхала, она уже покормила дитя.
– Благодарю! – сухо кивнула Эмма, помимо воли ощутив укол ревности. – Но дитя – это только мое, и отныне я сама…
Она так и не успела договорить, как створки двери с грохотом буквально разлетелись, и в покой ворвался Ролло. Стоял, полуголый, с разметавшимися по плечам волосами, запыхавшийся. Он словно не решался подойти к своему ребенку. Только глядел на этот сверток на руках Эммы и тяжело дышал.
Сезинанда увидела, как засияли глаза подруги при виде Ролло, и, улыбаясь, направилась из комнаты, прикрыв за собой дверь. Они остались одни. Втроем.
– Ролло, – тихо произнесла Эмма, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. – Ролло, смотри, это наш маленький принц Нормандский!
Он как-то неуклюже подошел, по-мальчишески вытер руки о штаны прежде чем взять у Эммы дитя.
– Мой сын… Мой наследник.
Он держал его так бережно и неуклюже, словно никогда еще не брал своих детей на руки. А потом поглядел на Эмму с восхищенным удивлением.
– Птичка!..
Он сел рядом, нежно поцеловал ее в висок. У Эммы потекли слезы. Потом они долго говорили о ребенке, о родах, об имени их наследника. Ролло ничего не имел против того, чтобы его звали именем франков, ибо он рожден в этих землях. Но когда Эмма, наконец, решилась сказать, что ребенок крещен по христианскому обряду, нахмурился.
– Ты уже не в силах ничего изменить, Ру, – осторожно заметила она.
Ролло сидел не шевелясь. Лицо его застыло. Он не глядел на Эмму, не сводя сурового взгляда с крошечного личика своего сына. Эмма заволновалась.
– Ты ведь не препятствовал, когда твои люди крестились.
Он поднял голову, словно к чем-то прислушиваясь. Эмма была так напряжена, так следила за ним, что не сразу заметила то, что привлекло его внимание. И лишь когда шум усилился, она тоже поглядела в окно. Гудели колокола. Кричали люди, сквозь створки окон проникал шум, сливавшийся в гул города, приветствовавшего рождение наследника своего правителя.
Теперь Ролло взглянул на нее. Она была бледна.
– Ролло, погляди, как он прекрасен – наш сын, наш долгожданный сын.
– Добилась-таки своего, – буркнул наконец Ролло, но что-то в его интонации уже позволило Эмме перевести дыхание. – Упрямая, рыжая Эмма. Но большего не ожидай. Если мой сын и крещен, то тебе не следует ожидать, что и я и мои люди тут же кинутся к купели.
Пожалуй, Эмма лишь обрадовалась, что он так легко это воспринял.
– Я люблю тебя, Ролло. Тебя и твоего сына.
Она ничего не могла с собой поделать, и ее глаза вновь наполнились слезами. Но когда Ролло положил сверток на кровать и достал из ножен кинжал, она заволновалась.
Ролло цыкнул на нее.
– Не мешай мне. Ты уже сотворила свой обряд и должна стерпеть и наш. И мой сын узнает холод стали с первых дней, чтобы не бояться его впоследствии.
И он осторожно прижал лезвие к лобику крошки Гийома.
Это разбудило малыша. Он открыл щелки глаз, скорчил гримасу, а потом издал пронзительный громкий крик.
Родители заулыбались.
– Он великолепен! Клянусь браслетами Одина, мой сын Гийом просто великолепен!
И, схватив ребенка, он выскочил из комнаты.
Эмма опешила, потом встала и, ругаясь сквозь зубы, стала искать одежду. Так, растрепанная, на ходу поправляя хламиду, она и появилась на крыльце и замерла, оглушенная шумом. Она и не знала, что двор так полон. Монахи, викинги, рабы, торговцы – столько народу еще никогда не бывало в тихой обители Святого Мартина. Гремели колокола, кричали люди, воины оглушительно стучали оружием о щиты. А Ролло стоял на высоком крыльце, подняв вверх пищавшего ребенка, по-норвежскому обычаю показывал, что он признает его своим сыном и наследником.
– Гийом! – кричал он. – Его зовут Гийом!
Казалось, среди такого шума никто бы и не различил этого франкского имени, но уже через несколько минут вся толпа громко скандировала имя наследника Нормандии.
– Осторожнее! – волновалась Эмма. – Ролло, ты сошел с ума! Дай мне его!
Толпа рукоплескала, когда Ролло, отдав ей дитя, подхватил их обоих на руки. И Эмма видела, как смеялся Беренгар, как хохотал только вчера прибывший Геллон, как улыбался, не обращая внимания, что его толкают, приор Гунхард. Берсерк Оттар плакал, размазывая кулаком слезы, и даже хмурый Лодин Волчий Оскал улыбался и похлопывал епископа Франкона по плечу.
У Ролло было гордое и счастливое лицо. Глаза горели жестким, решительным светом.
– Теперь у меня есть мой наследник, пусть и христианский, и видят Боги, теперь мне есть, для кого завоевывать королевство!
2
Сразу после Пасхи, весной 911 года в местечке Тросли близ Суассона был созван всефранкский собор духовенства, посвященный реформе, именовавшейся клюнийской, ибо началась она в бургундском городке Клюни для решения вопроса об очищении церкви и монастырей от пагубного мирского влияния.
Это были первые спокойные месяцы после кровопролитной войны, едва не закончившейся трагедией для франков.
Война началась сразу, как выпал первый декабрьский снег. Началась с попытки Роберта Нейстрийского отвоевать Вернон. Как узнал позже епископ, Роберт рассчитывал этим ударом отвлечь Ролло от объединения сил норманнов на Луаре и в Аквитании. Никто не знал срока начала совместных действий северян, даже Франкон, хотя у него во дворце Руана были свои шпионы и соглядатаи.
Эмма, наконец, привела в порядок небольшой зал в западном крыле дворца, и совет норманнов заседал там при закрытых дверях, так что уже не было ни малейшей возможности узнать, о чем они говорят. Когда Франкон осторожно стал пояснять это Эмме, надеясь, что она сама поймет свою оплошность и вернет совет в прежний общий зал, она лишь сердито глянула на него.
– Ролло мой муж, преподобный отец! Я не стану унижать его предательством.
Франкону не в чем было винить ее. Эта девочка сделала, казалось, невозможное – ее первенец, наследник всех владений Роллона, Гийом Нормандский, был христианином. Саму же Эмму по-прежнему не желали признавать никто из титулованных родственников-франков.
Такого отношения франкской знати не ожидал даже Франкон. Видел, как обижена Эмма. Единственной ласточкой от франков была грамота с поздравлениями от супруги Роберта Беатриссы Вермандуа и ее дары новорожденному и Эмме. Но это был жест доброй души герцогини, а не акт политического признания. Муж герцогини и остальная франкская знать по-прежнему называли дочь короля Эда Нормандского шлюхой, а ее сына вообще не брали в расчет, считая его очередным ублюдком Ролло.
А потом Роберт Нейстрийский развязал войну. Очень неумно поступил, если учесть, насколько франки были ослаблены междуусобицами и насколько сильны стали норманны. И следствием этого были разоренные земли, сожженные монастыри, пленные, которых усылали в рабство за море. Даже предместья Парижа подверглись разграблению норманнами под командованием Волчьего Оскала и Гаука из Гурне.
Сам Ролло тем временем осаждал Санлис. Хотел воспользоваться случаем, чтобы поквитаться с перебежчиком Херлаугом. Но в Херлауге был великолепный дар стратега, и Ролло пришлось уйти в глубь королевских владений, оставив в тылу непокоренный город. Осада Санлиса продолжалась почти всю зиму, и город пришлось бы сдать, если бы в это время Карл Простоватый не прислал грамоту Франкону с предложением трехмесячного перемирия.
«Гибнет ежедневно много людей, города разорены, подходит время весеннего сева, и если мы упустим его – королевство погибнет. Передай христианской жене Роллона, что мы пришлем богатые дары и будем ежедневно молиться за нее в церквах, ежели она сможет повлиять на супруга и приостановит эту резню».
Это было уже что-то. Франкон показал послание Эмме, и она тут же готова была отправиться к мужу, однако была уже втопично беременна и Франкон отговорил ее. Он сам тут же отбыл в лагерь викингов, хотя мало надеялся на успех.
И уже в дороге его нагнал гонец с иным известием к правителю. У Эммы случился выкидыш, и лекари опасались за ее жизнь. Ролло тогда согласился подписать перемирие с Карлом, потому что спешил в Руанский дворец.
Все, к счастью, обошлось. Эмма выздоровела, мир был заключен, с Санлиса снята осада. Позднее многие франкские сеньоры, такие, как Рихард Бургундский, заносчивый Эбль Пуатье и даже тот же Роберт Нейстрийский гневались на Карла, считая подобную уступчивость позором, хотя, по сути, это перемирие спасло франков и дало возможность вовремя начать сев. А теперь еще, по прошествии немногим более месяца, и созвать собор по поводу церковной реформы.
Однако надеждам епископа Франкона, которые он возлагал на это собрание, не суждено было сбыться. Здесь каждый слушал только себя, а к голосу разума не хотел прислушиваться никто.
В один из последних дней дело дошло до кулачной потасовки, когда и светские аббаты, и рукоположенные епископы бились, как простые сервы за земельную межу. Воинственному епископу Шартрскому Гвальтельму прокусили кисть руки в пылу драки, а сегодня он заявил, что готов даже головой поплатиться за правое дело очищения церкви от мирской проказы.
Присутствовал на соборе и Карл Простоватый, который, однако, вел себя до странности тихо. И хотя он восседал на троне в полном королевском облачении и чело его венчал четырехгранный каролингский венец с высокими рубиновыми трилистниками зубьев, но король словно старался держаться в тени.
Несмотря на все великолепие его одежд, пурпура, золота, драгоценностей, Франкону казалось, что он не встречал человека столь плебейской наружности. Простоватому еще не было тридцати, но он был рыхлым, полным, неуклюжим. Невзрачное отечное лицо, расползшееся вниз жирным двойным подбородком, маленький мягкий нос. Он сидел в заученной позе величественного идола, и лишь то, как он машинально вращал большими пальцами сцепленных рук, выдавало его нервозность. В спор не вмешивался, ибо хотя он и был священной особой, на чью голову пролилось священное миро, и носил гордую фамилию Каролинга, но, по сути, ему теперь приходилось только подтверждать и давать согласие, ежели за таковыми к нему обращались.
Порой, правда, Карл Простоватый будто скидывал с себя оцепенение, с умилением оглядывался на стоявшего за его креслом рослого красавца-охранника с завитыми под низ русыми волосами, чувственным ртом и выцветшими, почти белыми глазами. Франкон скоро понял, что это и есть тот лотарингец – фаворит Карла, который столь возвысился и имел такое влияние на короля, что, как поговаривали злые языки, Карл одаривал его целыми мансами[11] с крепостными и дворней. Одних драгоценностей нн подарил этому Аганону столько, что можно было снарядить целое войско, а в день рождения своего фаворита заставил монахов всего королевского домена[12] петь всю ночь в его честь заздравную.
Говорят, привязанность монарха к этому лотарингцу стала столь явной и скандальной, что это едва не расстроило проект его женитьбы на дочери английского короля Эдуарда, ибо тот небезосновательно счел, что Карл из своей любви к мужчинам не сможет сделать принцессе Этгиве ребенка.
Приближенные советовали Простоватому скорее избавиться от Аганона. Но вышло по-иному: тот же Аганон подыскал Карлу разбитную женщину из лотарингского рода Арденн, и она родила королю сына. Брак с англичанкой состоялся, но пока девочка-королева играла в куклы в покоях каролингского дворца, ожидая срока, когда король сможет взять ее на ложе, Карл разгуливал по покоям, нося на руках внебрачного принца Рорикона.
В этот день у епископа Франкона было особенно дурное состояние духа. В отведенных ему покоях он долго читал, стараясь успокоить нервы. Шрифт книги был со знаками препинания, все шире входившими в употребление, а книги любимыми – старая мудрость, оставшаяся со времен античности – Пифагор, Порфирий, Платон.
Франкон листал страницы прекрасных книг, но в суть написанного не вникал – мысли прелата были далеко. В конце концов он устало опустился на ложе, жесткое по суровому монастырскому уставу, вздохнул, вспомнив свои роскошные перины в аббатстве Святого Мартина. Тоскливо захотелось поскорей вернуться домой, в Нормандию. Но пока собор не окончен, он должен оставаться, дабы не выказать свое пренебрежение к проблемам христианской церкви.
Оставалось лишь ждать. И он, прикрыв глаза, вспоминал, как блестит Сена, бросая блики на своды быков моста в Руане, как воркуют на галереях сада почтовые голуби, когда они пригреются на солнышке, или какой восхитительный вкус зажаренных в масле креветок, что умеют готовить только в Руане. И еще с нежностью подумал о маленьком мальчике Гийоме, которого ему давали понянчить, когда рыжая красавица Эмма посещала аббатство Святого Мартина.
Вспомнил, как этот Гийом описал нарядную ризу из алтабаса.[13] И при этом очень серьезно-сосредоточенно глядел на епископа. Сейчас же при этом воспоминании Франкон улыбнулся. Он был старым одиноким человеком и очень привязался к ребенку, которого в буквальном смысле принял из лона матери.
Гийом был очень похож на Ролло – сероглазый, с покатым лбом и русыми прядями мягких волос, коротким прямым носом. Для столь маленького дитяти он был на редкость серьезен, даже с серебряными безделушками играл с самым сосредоточенным видом. Это тревожило Эмму.
– Он, как Иисусик на иконах, никогда не улыбается, словно знает, что ему уготована нелегкая участь.
Однако Гийом все же улыбался. Дарил свою улыбку, как награду. И при этом на щеках его расцветали ямочки, и он становился удивительно похож на Эмму.
От этих воспоминаний на душе старого циника Франкона становилось теплее. Однако, помимо воли, сегодняшние события вновь и вновь приходили на ум. Глупцы, они готовы и далее терпеть язычников, готовы лишиться такого шанса ввести в лоно церкви новообращенных. Правда, сейчас Франкон понимал, что отчасти был сам виноват, подвергнув сомнению их теологические догмы и тем самым настроив большинство присутствующих против себя. Завтра ему стоит быть осторожнее, ибо он никогда не откажется от своей цели – крестить эту, созданную язычником Ролло, страну, крестить самого Ролло. А сделать это можно только силой.
Франкон вдруг вспомнил, как перед самым открытием собора он, как было давно заведено, трапезничал в обществе Эммы и конунга. Тогда он развлекал их рассказом о давних событиях в Лотарингии, когда она еще находилась под властью Лотария II. Франкон рассказывал о том, как сей монарх захотел презреть общественное мнение и, отказавшись от своей распутной бесплодной жены Теутберги, венчанной с ним в церкви, сделал королевой свою избранницу красавицу Вальбраду.
И хотя Теутберга славилась своим распутством и даже сожительствовала с родным братом, но когда Лотарь отправил ее в монастырь, а на чело Вальбрады надел венец – против него восстала вся франкская и лотарингская знать. И несмотря на то, что Лотарь все же оставил при себе Вальбраду и хотел видеть именно ее детей своими наследниками, но после его смерти их никто не признал, и даже Карл Лысый, по кончине Лотария, короновался как Лотарингский монарх в соборе Святого Этьена, и вся лотарингская знать присягнула именно ему, а не сыну Вальбрады Гуго, который хоть и старался добиться отцовского наследия, но был всеми оставлен, сослан в монастырь, где ему выкололи глаза и он вскоре умер.
Рассказывал все это Франкон с тайным умыслом. Эти двое не должны забывать, что ничто не вечно в этом мире и что им следует считаться с общественным мнением хотя бы ради судьбы их ребенка. Он был удовлетворен, когда увидел волнение Эммы в том, как тревожно она прижимает к груди головку маленького Гийома. Ролло же оставался безмятежен, называл Лотаря слабым правителем, который вовремя не смог разобраться со своими бабами.
– Хвала Богам, у меня только одна жена, и от нее я имею прекрасного сына. Он станет править после меня, а я заставлю всех почитать его право.
Он был уверен в себе. Франкон опускал глаза на скользящие меж пальцев зернышки четок, чтобы не видеть, как и у Эммы гордо загорались глаза. Позже она говорила Франкону:
– Когда я с Ролло, меня ничего не страшит. Даже предубеждения моих царственных родичей. И я ничего не имею против, если Ролло завоюет их земли. Он лучший правитель, чем они, и даже вы, отче, не можете этого не признать. И пусть он язычник, но он не препятствует христианам почитать нашего Бога, а Святого Михаила считает едва ли не своими покровителем и регулярно посылает в его святилище дары.
Франкону совсем не нравились такие речи. Он видел, что эта девушка, на которую он возлагал серьезные надежды, все более выходит из-под его влияния. Он понимал, что она разгневана пренебрежением к ней франкской знати. И епископу нечем было возразить, поэтому он смолчал, когда она открыто выехала пожелать удачи Ролло в его зимнем походе.
– Вы сами понимаете, преподобный отец, – говорила ему позже Эмма, – что из Ролло для франков выйдет лучший правитель, чем моя вельможная родня. Да, мне известно, что такое набег норманнов, но я также видела, что случается, когда нападают франки. В своих же землях Ролло навел порядок, ибо даже вы не можете отрицать, что скандинавы куда более, чем франки, почитают законы и в их землях больше порядка и мира, нежели среди франков.
И правда: дикие северные варвары и впрямь куда более почитали законы, словно понимали, что только сильная власть и закон могут держать их в рамках и обеспечить процветание. И все же Франкон заметил Эмме, что прошли те времена, когда Карл Великий считался вторым Давидом и, уже начиная с Людовика Благочестивого, высшей похвалой правителю служит мир, к которому приходят милосердием, и что любой завоеватель, каковы бы ни были его цели, все же несет с собой кровь и зло.
На это рыжая красавица ничего ему не ответила, но, получая известия о победах Ролло, не могла сдержать радостного ликования. Увы, она стала настоящей женой варвара Ролло, она признавала его первым во всем, а если и происходили меж ними стычки, то это было обычное противостояние двух сильных натур, из которых одной все же надлежало быть сильнейшей. И Эмма смирилась, что здесь победа должна быть уже не на ее стороне. Она всецело покорилась Ролло, она ждала от него второго ребенка, она сжилась, срослась с Ролло и не желала рисковать благополучием жизни с ним в угоду научениям епископа Руанского.
Франкон чувствовал, что уже не имеет над ней прежнего влияния, а, значит, она становилась ему неугодна. Он искал, в ком бы еще из окружения Ролло он мог найти себе послушного союзника. Одно время он даже подумывал о бывшей наложнице Ролло, красавице-аббатисе, ибо она продолжала нравиться Ролло, а главное – у нее было от него двое сыновей, которых он любил и часто посещал.
Эта аббатиса сама погубила себя, когда попыталась разделаться с Эммой во время отсутствия Ролло в эту зимнюю кампанию. По ее наущению дворцовый раб столкнул Эмму с лестницы, что и послужило причиной выкидыша. И тут Франкону в очередной раз пришлось убедиться, как много значит для Ролло Эмма. Чтобы иметь возможность быть с ней, когда она болела, он даже пошел на перемирие с Карлом, чем последний немало гордился, приписывая исключительно себе заслугу мирных переговоров.
Ролло же тогда пошел на все его условия и стремглав примчался в Руан, чтобы находиться рядом с женой. А едва она пошла на поправку и сказала, что подозревает, что несчастье, случившееся с ней, было подстроено, как Ролло начал расследование, сам пытал, допрашивал, пока не вышел на аббатису. Ее не спасли даже мольбы и упоминание о детях. Роллон казнил ее, а своих сыновей, по норвежской традиции, отдал на воспитание в чужую семью, услав в Байе к Белому Боттону.
Эмма же… С ней все было в порядке, и Франкон никогда не видел ее столь красивой и уверенной в себе, как перед его отбытием в Тросли.
От воспоминаний его отвлек звон колоколов. Было время вечерней службы, и хотя Франкону не хотелось вновь чувствовать за спиной перешептывание и недоверчивые взгляды своих соотечественников, он поспешил в церковь.
Хор в Тросли был прекрасен. Франкон на миг забыл о всех своих неурядицах, слушая прекрасно подобранное сочетание мужских голосов, певших литанию. В этот момент кто-то тихо тронул епископа за руку.
– Светлейший Франкон, не изволите ли после службы навестить Роберта Нейстрийского в его имении Берни-Ривьер?
Епископ оглянулся. Из полумрака выступало смуглое лицо молодого аббата из Суассона. Тот выжидательно застыл. Франкон еще по приезде понял, что этот аббат приставлен к нему шпионить. Он всегда садился рядом с епископом, ходил за ним, даже отведенные им в переходах монастыря покои оказались рядом.
«Где я мог видеть его? – думал Франкон. – Старость… Не могу вспомнить…»
У суассонца были приятные черты лица, миндалевидные темные глаза с длинными, как у девушки, ресницами, крупный, но правильной формы нос с легкой горбинкой. Ростом он был высок, ладно скроен и вполне бы мог назваться красавцем, если бы его так не безобразил страшный длинный шрам – багровая впадина с рваными краями, оттягивающая вверх уголок рта, словно в презрительной усмешке. Черные, коротко остриженные волосы с выбритой тонзурой не скрывали, что с левой стороны, со стороны шрама, как безобразный древесный гриб, торчал остаток уха. Люди с такими отметинами обычно запоминаются, но Франкон, сколько ни напрягал память, не мог припомнить, где встречал суассонца.
Сейчас, в полумраке, на лицо аббата падала тень, скрывая шрам, длинные ресницы затеняли глаза. И Франкон неожиданно вспомнил его. Посланец Роберта к Ролло, позже пытавшийся выкрасть у него Эмму, ее бывший жених! Ги Анжуйский! Франкон не знал, что он принял сан во владениях Карла. Но служить он, видимо, продолжал Роберту Нейстрийскому.
– Хвалите рабы Господа, хвалите имя Господне, – звучал хор.
Франкон согласно кивнул, и Ги тотчас отошел от него. Позже он встретил епископа на галерее монастыря, проводил через сад к калитке, у которой их ожидали несколько охранников, державших под уздцы лошадей. Для пожилого, тучного Франкона был предоставлен спокойный мул, Ги же с выправкой былого воина вскочил на горячего гнедого жеребца.
– Сдается мне, вы не так давно променяли кольчугу воина на куколь священника, – заметил епископ, когда они уже ехали по старой римской дороге прочь от Тросли. – И вижу, что вы не оставили службу у вашего прежнего сюзерена, хотя ваше суассонское аббатство находится в королевском домене.
Ги чуть повернул к нему лицо в темном обрамлении капюшона. Его сильные ноги в плетеных сандалиях как-то нелепо смотрелись в широких военных стременах жеребца.
– Я служу тому из правителей, с кем наиболее схожи мои интересы.
– А интересы эти как-то связаны с Эммой из Байе?
Ги ничего не ответил, из чего Франкон сделал вывод, что не ошибся. Что ж, ничего удивительного, рыжая Эмма вполне могла внушать подобную привязанность к себе. Но какие виды сейчас имеет на нее Роберт, раз бывший жених девушки решил примкнуть к нему?
Франкон уже настроил себя на то, что ему придется разочаровать Роберта, ибо тот своим пренебрежением к Эмме явно умалил и те крохи родственной привязанности, какие она могла испытывать к нему. Навряд ли сейчас она примет хоть какое-то предложение оскорбившего ее родственника. Поэтому епископ лишь поинтересовался, отчего это Роберт, если у него есть дело к Франкону, не пожелал с ним встретиться в стенах аббатства, а пригласил в свое отдаленное имение.
– Светлейший герцог имел милость пригласить вас на помолвку его дочери Эммы Парижской с Раулем Бургундским, которая сегодня произошла в Барни-Ривьер, – ответил Ги. И не глядя на Франкона, добавил: – К тому же у него есть к вам дело, при котором не совсем желательна огласка.
Послушный мул под Франконом мерной иноходью следовал за жеребцом Ги. Епископ размышлял о предстоящей встрече. Он не очень отчетливо представлял, как можно избежать огласки во время такого события, как обручение дочери герцога и бургундского принца. И тем не менее, когда за рекой в сумерках показались строения, его поразила мирная тишина вокруг.
Усадьба являла собой довольно обширный дом, постройки которого образовывали закрытый двор: сам дом в два этажа с покатой крышей, служебные постройки, пекарня, над которой вился дымок. Вокруг строений шел частокол, окруженный рвом, мост был опущен, ворота приоткрыты, но было так тихо, что Франкону на миг пришла мысль о ловушке. Но у ворот горел факел, освещая женский силуэт под белым покрывалом. К тому же Франкону было уже поздно волноваться и оставалось лишь надеяться, что герцогу франков незачем поступать вероломно с человеком, столько лет служившим ему осведомителем у норманнов.
Последние сомнения епископа развеялись, когда он узнал во встретившей их женщине герцогиню Беатриссу. Она благочестиво поцеловала перстень епископа, пригласила его в дом, подтвердила известие о помолвке.
– Мы решили не устраивать пышного обручения, так как времена сейчас смутные и герцог, супруг мой, не желает привлекать внимание к союзу с Бургундией.
Она улыбнулась милой, доброй улыбкой. В сумерках она казалась моложе своих лет – все еще по-девичьи стройная, большеглазая, с тонким правильным носом, с темными завитками волос, выбивавшихся на висках из-под расшитой каймы покрывала. В одном ее повороте головы было больше аристократизма, чем во всей наряженной в тяжелый бархат и золото грузной фигуре ее брата. Он сидел в зале усадьбы подле Роберта, за длинным уставленным яствами столом. В другом конце залы слуги на открытом очаге готовили кушанья, но переговаривались очень тихо, чтобы не мешать сановной беседе вельмож. Да, во всем этом обручении не было помпезности, какую так любит франкская знать, и лишь яркое пламя на стоявших вокруг стола высоких треногах придавало некую праздничность обстановке.
Франкон мельком бросил взгляд на игравшего у огня с собакой подростка, сына Роберта и Беатриссы, принца Гуго. Он был одет по-домашнему – в холщовую тунику и узкие штаны. Так же просто были одеты и сидевшие за столом, кроме любившего рядиться Герберта Вермандуа, да еще, пожалуй, невесты. Но ее можно было понять. Ее яркое желтое платье и мерцавшая крупными каменьями золотая гривна вокруг тонкой шейки явно были надеты, чтобы понравиться Раулю.
Церемония обетов и обмена кольцами, по-видимому, уже произошла, и юная Эмма Парижская с удовольствием разглядывала сверкающее кольцо на безымянном пальце. На Франкона глянула лишь мельком, что-то ласково говорила лениво улыбавшемуся жениху. Он ей явно нравился, и лишь когда Франкон рассыпался в цветистых поздравлениях, соизволила улыбнуться и ему.
«Красивая девочка, – подумал Франкон. – Выглядит моложе своих лет, почти как подросток, хотя ровесница Эммы, и ей, должно быть, уже лет двадцать».
Когда герцогиня Беатрисса велела ей и Гуго идти почивать, на лице невесты появилось совсем по-детски капризное выражение. Она глянула на отца, потом на жениха, но, поняв, что их сейчас интересует только тучный епископ, покорно покинула зал.
Франкон занял оставленное для него место за столом, обменялся несколькими любезными фразами с гостями Роберта. Помимо самого герцога, Герберта Вермандуа и Рауля Бургундского, на обручении присутствовали ближайший советник Роберта аббат Далмаций – тучный монах, с аппетитом обгладывающий кость; благочестивый епископ Шартрский с прокушенной рукой, зябко кутающийся в вышитую пелерину, явно чувствовавший себя неважно. На Франкона он глянул угрюмо, хотя его широкий, собранный в хмурые складки лоб с глубокой бороздой, словно навсегда припечатал к его лицу выражение мрачной, почти злой, озабоченности.
Подле благочестивого епископа Франкон с невольным удивлением заметил Эбля Пуатье, человека из явно чуждого Роберту клана – красивого мужчину, непринужденно развалившегося в кресле и небрежно кормившего из рук рослую рыжую борзую. Тот поймал пристальный взгляд епископа Руанского, улыбнулся, чуть скривив рот. Улыбка вышла едва ли не презрительная, нехорошая.
Франкон поспешил отвести взгляд. Наблюдал, как кухари поднесли вертеп куропаток прямо с огня, пряно пахнущий острыми приправами. Кровчий открыл новый бочонок вина. Девушка-рабыня спешно убрала со стола объедки. Эбль не преминул игриво, но ощутимо, шлепнуть ее пониже спины.
Герцогиня Беатрисса чуть нахмурилась. Она всегда любила благочестивые манеры и сейчас была покороблена поведением Эбля. Но герцог Роберт успокаивающе улыбнулся жене, взял со стола чашу, звякнул перстнями о ее чеканный край. Другие тоже выпили, однако Франкон отметил, что ни один из сидевших за столом не был во хмелю, наоборот, они напряженно следили за ним. Франкона разбирало любопытство, но он никак его не проявлял. Изящно ополоснув в поднесенном слугой тазу пальцы, стал разламывать куропатку.
– Отменно, отменно, – похвалил он стряпню. – Немного лишне добавлено перца, но вполне вкусно.
От епископа не ускользнуло, что присевший к столу Ги Анжуйский – единственный, кто проявляет нетерпение и напряженно глядит на греющего в ладонях чашу с вином герцога. Итак, сделал вывод Франкон, вызвали его в связи с каким-то решением именно герцога, а тот достаточно благороден, чтобы дать Руанскому прелату спокойно поужинать.
Однако первым заговорил Эбль из Пуатье.
– Вы всех нас удивили сегодняшней речью. Кто бы мог подумать, что вы желаете гибели своему благодетелю – язычнику Роллону?!
– Весьма прискорбно, что вы превратно меня поняли… – с досадой, прожевывая мясо, заметил Франкон. – Все, о чем я пекусь, так это о приобщении правителя Нормандии, а с ним и его поданных, к сонму христиан. Гибель же Ролло, – упаси Господи, – только повлечет за собой анархию в Нормандии, и тогда все эти языческие князьки вновь примутся совершать набеги на христиан.
– Послушать вас, так Ролло едва ли не защитник франков, – фыркнул Герберт Вермандуа.
– И в какой-то мере это так, – похрустывая жареным крылышком, кивнул Франкон. – Возможно, звучит парадоксально, но именно он удерживает язычников, хотя и до того часа, пока сам не прикажет – ату! Но до того у франков есть время для объединения. Прискорбно лишь, что они не желают воспользоваться подобным шансом.
– Насколько учит нас опыт, – медленно начал бургундец Рауль, – ни одно объединение франков против северян не имело за собой успеха.
– Вы еще вспомните, что норманны – это бич Божий, – хмыкнул Франкон. – Ваш отец, благородный господин, получил прозвище Заступника лишь потому, что отбил норманнов, но никак не изгнал их. Хотя и мог.
– Он изгнал их из Бургундии!
– То-то и оно. Каждый из франкских сеньоров печется лишь о своих владениях, но с удовольствием слушает рассказы, как норманны громили соседей.
Эбль Пуатье вдруг громко расхохотался.
– Интересно, как бы Роллон отнесся к вашим подстрекательствам? Вы только что хвалили его, но вы же желаете, чтобы мы разгромили и уничтожили его. И при этом утверждаете, что хотите лишь спасти его душу от геенны огненной.
Франкон был слишком занят едой, чтобы сразу ответить, и епископ Шартский Гвальтельм имел время вставить:
– В Священном Писании сказано – побеждай зло добром. Вы же призываете нас к войне, и неизвестно: не с подачки ли это Роллона вы провоцируете новую резню, или же искренне радеете о погибели вождя норманнов.
Франкон перестал жевать и в упор поглядел на епископа.
– А кто вам сказал, что франкам под силу победить Ролло? Вот ослабить его, вынудить к принятию своих условий – вот для этого стоит рискнуть. Пока он не объединил всех норманнов, и тогда уже будет поздно.
– Но вы-то у себя, в Нормандии, лишь богатеете из-за набегов, – заметил наконец оторвавшийся от кости воин-аббат Далмаций. – Или вам мало – и вы желаете новой войны, чтобы новые обозы с награбленным добром прибыли в Руан, и ваш благодетель Роллон или же его языческая супруга-христианка принесли новые пожертвования на соборы своей столицы.






