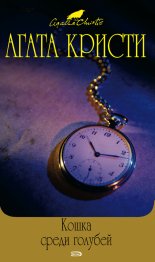Окольные пути Саган Франсуаза

Короче говоря, Никуда-не-пойду воспылал внезапной любовью к этому красивому молодому человеку, лежащему на траве в прекрасных одеждах и с пылающим лицом. В восхищении он протянул руку к Брюно, положил ее ему на волосы и, смеясь, подергал их, при этом с его нижней губы стекла тонкая струйка слюны. В другое время и в другом месте Брюно закричал бы от ужаса, постарался бы нокаутировать этого извращенца или галопом бы припустил от него. Но сейчас он был в бреду. И в бреду ему виделись пустыни, пески, барханы, далекие оазисы и гостеприимные кочевники. У того, кто возвышался сейчас над ним, конечно, не было благородного лица, как у кабила или синего человека <племена в странах Магриба>, но он казался таким счастливым и гордым оттого, что спас Брюно от ужасной и почти неотвратимой смерти. Брюно, пошатнувшись, встал, но был вынужден опереться о своего спасителя. У Брюно поднялся сильный жар, ему мерещились фески, верблюды, и, улыбаясь, он принимал страстные поцелуи, которыми Менингу покрывал его лицо, за древний мусульманский обычай. Впрочем, он и сам несколько раз поцеловал, хотя гораздо более скромно, на диво пухлые и розовые щеки этого бедуина, отважного сына пустыни – надо сказать, самый пресыщенный зрелищами парижанин оторопел бы от такой сцены. Все же эти старые обычаи быстро утомили его, и Брюно сел на каменистую землю по-турецки, скрестив ноги и поджав их под себя. Этот новый способ садиться, которого он никогда не видел – и неудивительно: в этих местах никто так не садился, – вызвал у Никуда-не-пойду новый прилив уважения и восхищения. Он попытался сделать то же самое, но зашатался, грохнулся, после нескольких неграциозных и безуспешных взмахов руками смирился и сел, как обычно садился, у ног своего нового предмета поклонения.
Брюно, умиравший от жажды в горячке, подождал несколько мгновений, когда ему поднесут ментолового чаю, приторно-сладкого напитка, без которого не обходятся в Северной Африке – он знал это, – и, не дождавшись, обратился к своему спасителю.
– Моя хотеть пить! – сказал он. – Моя голоден, моя болеть. Твоя проводить мою в ближайший форт.
Такой изысканный и лаконичный язык, хотя, конечно, казался удивительным Никуда-не-пойду, но превосходно укладывался в его мозгу. Он радостно вскочил на ноги.
– Моя отвезти тебя! – решительно сказал он. – Мы кушать кассуле <рагу из мяса и овощей по-лангедокски, обычное французское деревенское блюдо> у мамаши Виньяль. Твоя иметь деньги? – И он потряс карманами, чтобы лучше выразить свою мысль.
Брюно, улыбаясь, тоже поднялся:
– Моя иметь много золота в Париже... но моя знать, твоя презирать деньги!
Такие разговоры не вызвали отклика в душе Никуда-не-пойду.
– Нам иметь деньги, чтобы есть кассуле! – сказал он с видимым огорчением.
Брюно пожелал успокоить его:
– Моя обязан твоей жизнь... моя давать тебе дружба, доверие. Моя отдавать за тебя рука. Но моя не давать твоя грязные деньги. Моя знает, твоя презирать деньги.
– Нет, нет! Моя принимать деньги от тебя! – постарался уверить Никуда-не-пойду с несвойственной ему живостью.
– Тогда моя давать их тебе позже. Что мое – то твое! Что твоя хотеть сейчас?
– Твои часы!
Несмотря на свою глупость и невежество, парень видел, что одежда Брюно испорчена, ее уже никогда не надеть, и единственным стоящим и к тому же блестящим предметом были часы. У Брюно мелькнула мысль, что его часы были из платины и стоили ему долгих-долгих ночей, проведенных рядом со старой баронессой Хастинг. Он предпринял слабую попытку защитить их.
– Мои часы стоить двадцать верблюдов, – напыщенно сказал он, – двадцать верблюдов и килограмм фиников!
– Я не люблю финики, – сказал Никуда-не-пойду, протягивая руку.
И Брюно скрепя сердце снял часы. Именно в это время подъехали на телеге его парижские друзья, до этого скрытые деревьями: Люс и Лоик, в сопровождении Арлет Анри. Они наконец задались вопросом, куда мог исчезнуть Брюно, и Арлет запрягла лошадей. Найти его было нетрудно, благодаря следам, оставленным им в пыли.
– Немедленно отдай часы! – закричала Арлет Никуда-не-пойду. – Ты их украл? Если не хочешь отправиться в тюрьму, пойдешь ко мне собирать урожай!.. Придешь на ферму, я дам тебе поесть завтра после косьбы! – закричала Арлет-Мемлинг, глядя на мускулистые загорелые руки Никуда-не-пойду. – Приходи собирать урожай, Никуда-не-пойду! Я заплачу тебе.
Тот обычно отвечал «никуда не пойду», когда ему говорили о жатве или других полевых работах. Но сейчас ему предстояло следовать за своей любовью, за своей находкой.
– Мы уже прибыли в форт или на границу? С каким племенем разговаривает мой спаситель? – спросил Брюно, видя перед собой тень от бурнуса, не узнавая участливых голосов и милых лиц, склонившихся над ним.
Они считали, что он погиб, они испугались... Ему предстояло утешить и успокоить их.
– Моя больше любить кускус <блюдо, напоминающее плов, изготовляемое из просяной муки, популярное на Ближнем Востоке и в Северной Африке>, чем кассуле, – сказал он. – Моя полюбить пустыня. Моя следовать с твоим караваном, – сказал он аборигену, одетому в черный кафтан и с суровым лицом, которого все называли «Аль Лет».
Немного позже Брюно уложили на телегу и двинулись в обратный путь к дому семьи Анри. Плачущая, виноватая Люс держала его за руку. Временами Лоик, пользуясь его летаргическим состоянием, похлопывал его по щеке под предлогом, что это приведет его в чувство. Эти пощечины заставляли Брюно с сожалением вспоминать более обольстительные и более нежные нравы своего друга туарега <племя, живущее в Северной Африке>, вдруг ставшего невидимым, хотя на самом деле тот благодушно чистил зубы травинкой, свесив ноги с телеги.
Что до Арлет Анри, правящей лошадьми и бросавшей время от времени взор на своих умирающих от усталости подданных, то она радовалась тому, как ловко она все устроила, заполучив самого большого крепыша в деревне, Никуда-не-пойду, для работы на своих полях. Когда он на это соглашался, он работал за десятерых (но уже много лет никому не удавалось убедить его взяться за работу). «Морис будет доволен», – подумала она. Повернувшемуся к ней спиной Лоику почудилось, что она запела старую, наполовину забытую мелодию песни «Очарование»: «Я просто встретила тебя...»
Но он так устал, что не смог и улыбнуться, и позже подумал, что ему это пригрезилось. Во всяком случае, очарование длилось недолго, потому что Арлет повернулась и, указывая подбородком на Брюно, сказала Лоику:
– Не беспокойтесь о нем, уже завтра он будет на ногах!
Это значило: на ногах и с вилами в руках.
Глава 6
Диана не присоединилась к спасательной экспедиции под тем предлогом, что она собиралась дожидаться пропавшего Брюно дома, если вдруг тот сам вернется. На самом же деле она не выполнила работу, порученную ей Арлет, и не хотела признаваться в этом. Конечно, из-за детского самолюбия, с жеманством думала она. Ее задание было простым, но неприятным: надо было рассортировать ящик с яблоками; в одну сторону – подгнившие, в другую – хорошие. Сортировать можно было по виду, а в сложном случае – на вкус.
– Завтра на десерт я испеку пироги с яблоками для сборщиков урожая, – сказала ей Арлет. – Нужно будет приготовить три больших пирога. Все мужчины утверждают, что они у меня получаются лучше, чем у других. И точно! Вы попали в хороший дом! – заявила она озадаченной Диане.
Диана, укрывшись в сарае и нацепив очки, пристально вглядывалась в каждое яблоко, но все равно ей никак не удавалось определить его истинную ценность. Поэтому ей приходилось по несколько раз надкусывать его: сначала она делала это прилежно, затем слегка касаясь зубами, потому что зубы начало ломить, а некоторые даже зашатались, настолько кислый сок яблок действовал на десны.
И бешеный ритм ее сортировки потихоньку замедлился. А Арлет-Мемлинг, встав за ее спиной с инструментами в руках, резко заметила ей:
– Бедняжка, вы что же, собираетесь провести здесь всю ночь? Но пироги я должна поставить в печь завтра вечером! Не засыпайте над яблоками!
– Я не могу отличить, какие яблоки хорошие, а какие плохие.
– Я же сказала вам, кусайте!
– Но я ведь не могу перепробовать одно за другим все три килограмма яблок. У меня уже и так три зуба качаются, – прохныкала Диана, и в ее голосе звучало больше отчаяния, чем протеста, потому что «детское самолюбие» полностью покинуло ее, а фермерша здорово нагнала на нее страха.
– У плохого работника всегда инструмент виноват! Ладно, разберитесь сами. Какие же вы все, парижане, хитрецы! – заключила фермерша с чуть заметной добродушной улыбкой и тут же добавила:
– Эй, глядите в оба! Одно плохое яблоко – и пирог будет отдавать гнилью!
Оставив пораженную Диану, Мемлинг вернулась к своей повседневной работе и стала готовиться к завтрашней пирушке. А в это время Люс в большой комнате перемывала всю посуду, сложенную в буфете с прошлых дней жатвы и, следовательно, покрытую пылью и крысиным пометом. «А как вспомнишь, – думала Диана, – что до мытья посуды Люс Адер вынуждена была собирать яйца в курятнике, а потом задавать уткам корм!» Бедная Люс! Из-за своей глупости она так торопилась, старалась сделать еще больше, и каждый раз, как она заканчивала одну работу, ей на шею вешали новую! А вот она, Диана, будет весь день заниматься своими яблоками, и к вечеру ее не будет ломать, она не переутомится (пусть даже заработает себе несколько язвочек во рту и легкую тошноту из-за повышенного выделения желудочного сока). И все это ради торжественного обеда, повод для которого ее абсолютно не интересовал.
И, несмотря на ту досаду, которую могло бы вызвать у нее триумфальное возвращение Брюно, она желала этого возвращения. Но как можно было рассчитывать на молодого франта в таком драматическом положении? Ведь ясно же, что идет война! Это она теперь уже осознала. Понадобилась национальная или мировая катастрофа, чтобы оправдать социальное падение, жертвами которого уже два дня были она и Люс. Так Диана объясняла себе, почему она относится с таким почтительным вниманием к диктату фермерши.
***
Во дворе загрохотала телега, и Диана, словно роялистка времен Великой французской революции, чувствуя приближение зловещей колесницы, груженной телами гильотинированных, очнулась от мечтаний и перестала работать.
Испытывая угрызения совести, бросая вызов судьбе, она быстро смешала кислые и хорошие яблоки, торопливо сорвала с себя черный фартук, которым она могла дважды обернуться, и вышла из подвала. Снаружи Лоик и Люс, поддерживая Брюно, вели его в дом, где усадили на единственный более или менее удобный стул в большой комнате. Брюно спотыкался, падал. Наверно, несчастный неудачно упал с высоты, хотя в окрестностях не было даже холмика. Лоик развеял ее заблуждения:
– Это всего лишь сильный солнечный удар, уверяю вас, Диана! Ему ничто не угрожает.
– Летом здесь ничего не стоит схватить солнечный удар, потому что здесь мало деревьев, – успокаивающе прокомментировал Морис Анри, но вид у него при этом был удовлетворенный: его соперник вернулся в таком жалком виде.
Он был великолепен, в белоснежной майке, сверкающей на загорелом теле, которое волновало, а не отталкивало.
– Ну, что произошло? Где вы его нашли? – спросила Диана голосом, который мог в равной степени принадлежать и судье, и репортеру.
Лоик повернулся к ней:
– Мы нашли его под деревом, куда его отнес этот молодой человек.
И он показал на типа, у которого не было, казалось, возраста, как, впрочем, рассудка и души. Тот пробормотал:
– Здрасьте, мадам! – Голос его звучал фальцетом, совершенно не подходящим такому большому и сильному парню.
– Здравствуйте, месье!
Она заговорила трубным голосом, возвещавшим как о ее приверженности общепринятым правилам поведения, так и об их нарушениях, которые иногда преподносит жизнь.
– Я благодарю вас, месье, так же как и мои друзья, за то, что вы...
Боже мой! – закричала она, увидев лицо Брюно. – Но в каком же он состоянии! Вы что, из улья его вытащили?..
На красное опухшее лицо Брюно было страшно взглянуть: это внезапное уродство не только искажало его, но и обезличивало, в нем не было почти ничего человеческого. А он всегда уделял много внимания своему физическому облику, всю жизнь сам он был лишь дополнением к собственному лицу. И сразу показалось, что его лишили корней, прошлого и, что гораздо хуже, будущего... Что же станет с красавцем Брюно Делором, если он останется таким на всю жизнь? Можно было догадаться, что ответ следует искать в больницах, трущобах или приютах. Во всяком случае, в чем-то ужасном...
– Улей... улей... – повторял вновь прибывший. – Улей! Вот уж нет!
Никуда не пойду!
– Вот вам, пожалуйста! – объявил со своего ложа Морис, как будто эти слова обрадовали его. – Это все, что он может сказать: «Никуда не пойду!»
За это его так и прозвали: Никуда-не-пойду.
Диане не впервой было слышать клички (в ее кругу ими широко пользовались), но эта огорчила ее.
– Это звучит не слишком человеколюбиво, – строго сказала она.
– А еще женщины называют его Менингу, если это вам нравится больше, – продолжал Морис. – Когда он был маленьким, у него что-то случилось с мозгами, какая-то болезнь головы... этот, как его... короче, его называют Менингу.
– Здатути! Здатути! – закричал в этот момент старик, чей слух явно улучшался с каждым днем, что позволило ему различить новый голос в прежнем хоре, который, к его радости, постоянно обновлялся в последнее время.
– Здрасьте, месье Анри! Здрасьте, месье Анри! – закричал человек по кличке Никуда-не-пойду, подмигивая Брюно, как бы желая, чтобы добрый приятель посмеялся с ним вместе, но тщетно: тот был не в силах поднять головы. «В каком же состоянии его элегантный утренний костюм!» – подумала Диана. И она заметила, что Лоик тоже с грустью оценивает причиненный ущерб.
– Нужно уложить его, – сказала бесшумно вошедшая Арлет-Мемлинг, приподнимая Брюно за подбородок и холодно вглядываясь в него глазами женщины из индейского племени сиу. – У него температура, и он может всюду нагадить. Но завтра уже он будет на ногах, как новенький!
И она рассеянно похлопала больного по щеке, с таким же чувством она могла бы похлопать и быка. И тогда Никуда-не-пойду, наклонившись над Брюно, приник долгим поцелуем к его невидящим глазам, затем, с видом заговорщика, осклабился, повернувшись к парижанам, что заставило их в ужасе отступить.
– Но что ему нужно от него? – закричала Диана.
Впервые Диану меньше шокировала принадлежность к низшему общественному классу, чем намерения поклонника Брюно.
– Оставьте же его наконец! – снова закричала она, а тем временем Лоик мешал сумасшедшему возобновить свои ласки, удерживая его за ворот.
– Никуда-не-пойду! Отстань от него! – закричал Морис Анри извращенцу громким мужественным голосом, правда, несколько сдавленным от смеха; он скрючился на своем ложе, а на глазах у него выступили слезы.
– Это правда, вы не имеете права делать это! – воскликнула Люс в свою очередь, выказывая при этом неожиданную смелость.
Никуда-не-пойду отступил и, наклонив голову, пробормотал:
– Он сам только что хотел!.. – Затем пробормотал еще какие-то гадости, чем вызвал к себе всеобщее отвращение.
Дело приняло серьезный оборот. Воспользовался ли этот тип слабостью их молодого друга, чтобы... чтобы... обесчестить его? «Как были бы отомщены женщины, обобранные Брюно!» – подумала Диана. Его собственное стремление взять реванш сделало его неразборчивым и сослужило ему дурную службу.
Женщины, которые платят, никогда не радуются, если платят мало, как бы то ни было – это всего лишь цена низости или глупости их любовников, но ни в коем случае – их деликатности, потому что она исчезает для них вместе с первым же выданным франком.
И Диана Лессинг погрузилась в утонченные и глубокие размышления по поводу окружающего ее общества, в то время как Никуда-не-пойду и Лоик несли Брюно на кровать, и за ними следовала бледная, охваченная раскаянием Люс. Морис Анри, по-прежнему в хорошем расположении духа, закурил сигарету и улегся поудобнее в своем алькове.
Лоик задумался, глядя на Никуда-не-пойду, ему было одновременно страшно и смешно при мысли, что Брюно, такой высокомерный, такой сноб, подчеркивающий свою мужественность, был опетушен этим глупым молодцом. На первый взгляд все выглядело экстравагантно, но в этой сфере (и этим все достаточно сказано!) всякое было возможно. Если эта любовь вспыхнула под воздействием солнечного удара, то оставалось лишь низко склонить голову перед могуществом дневного светила: гетеросексуальный Брюно Делор, всегда озабоченный быть именно таким, посылает улыбки деревенскому дурачку из Боса!..
И Лоик не мог не желать такой идиллии: и не потому, что он ненавидел Брюно или считал эту идиллию позорной, а потому, что знал, что прямо противоположное суждение по этому вопросу глубоко и окончательно укоренилось в мыслях Брюно и ему подобных. Его сексуальные предпочтения давали Брюно несокрушимое превосходство. Лоик мог бы стать министром, спасти от пожара десяток детей и погибнуть при этом, открыть лекарство против рака или написать Джоконду, все равно – в разговоре всегда мог возникнуть момент, когда Брюно сумел бы высмеять Лоика, выгодно подчеркнув свои достоинства. Естественно, подобное исключалось лишь при одном условии: если бы Лоик разбогател.
***
Оставшись с семейством Анри, Диана и Люс на мгновение остро ощутили отчаяние и нежность: перипетии их судеб, усилия, которые они предпринимали, чтобы спасти свое достоинство, опустошили их. К тому же их отношения, основанные на таких вроде бы нерушимых основах, какими являются привычки, внезапно пошатнулись, стали непрочными, потеряли очарование. И хотя в их диалогах или даже во внутренних монологах еще сохранялась внутренняя гордость, ночами и Диана, и Лоик, и Брюно, лежа в постелях, спрашивали себя: «Что я здесь делаю?», «Что с нами будет?», «Кто из этих людей любит меня?». И так далее и так далее. Короче говоря, они оказались наедине сами с собой, но у них не было никакого снотворного, чтобы принять его, и нельзя было позвонить по телефону какой-нибудь подруге или приятелю, также страдающим от бессонницы.
И только Люс сохраняла спокойствие, если не считать ее порывов к Морису и того смертельного ужаса, что внушала ей свекровь, если бы она могла звать так эту дикарку. Она зарделась от благодарности, когда Арлет хмуро сказала ей:
– Вы хорошо потрудились! Отдраили все до блеска! И посуда совсем чистая! А завтра здесь будут человек двадцать! Вы закончили возиться с яблоками? – спросила она гораздо менее любезным тоном, повернувшись к Диане.
– С вашими яблоками покончено... почти что, – мужественно ответила Диана. – У меня от них болят пальцы и щиплет во рту. К тому же я порезалась! – с гордостью объявила она, показывая крохотную царапинку на большом пальце.
Из коридора, ведущего в комнаты, появился Лоик, его глаза снова задорно блестели. «Он считает себя полезным, во всяком случае, ему весело, он здесь развлекается, несмотря на адские условия», – подумала Диана. Сидя наверху, в кабине своего комбайна, он загорел, и это очень шло ему, исчезли вялость и нерешительность, иногда так портившие его в Париже. Сев рядом с ней, он взял со стола стакан, взглядом спросил разрешения у мадам Кроманьонки, налил воды из-под крана и выпил. Стоило Арлет выйти из комнаты, как Люс с невинным видом уселась рядом с Морисом. И вскоре была видна только ее узкая спина, а голова и плечи ушли в альков, где она, без всякого сомнения, принялась за лечение раненого. Лоик и Диана почувствовали себя умиротворенными.
– Что же все-таки произошло? – прошептала Диана. – Вы полагаете, что Брюно?..
– Единственное, что я могу вам сказать, – это то, что менингит в этих краях особенно опасен.
– Здатути! Здатути!
– И вы нашли их в объятиях друг друга? Какая непостижимая история! Этот милый Брюно вечно все усложняет!
Но было ли точным слово «усложняет»? Может быть, она хотела сказать «пыжится»! Но нет же, что могло означать слово «пыжится», лежащее на поверхности, на самой поверхности ее памяти, словно старая ветка?
– Они не обнимались, Диана. Я этого не говорил! Брюно сидел по-турецки, скрестив под собой ноги, у него были остекленевшие глаза, а Ничего-не-могу...
Диана строго поправила:
– Никуда-не-пойду.
– Как вам будет угодно. Никуда-не-пойду сидел на заднице у его ног, по-французски, и глаза его блестели. Но в этом не было ничего двусмысленного, пока не последовал поцелуй на наших глазах. А потом он снова поцеловал его, в комнате, это правда! Брюно не узнал меня, но своему воздыхателю он улыбался.
– Вот видите! Конечно! Конечно! – Диана ликовала. – Брюно далеко ушел?
На каком расстоянии отсюда вы нашли его?
– Ну, примерно в восьми километрах.
– Ему понадобилось четыре часа, чтобы пройти восемь километров? Да нет же, не может этого быть! Он просто шатался в галантной компании!
– Галантной? – Лоик рассмеялся. – Галантной? Но в Никуда-не-пойду нет ничего галантного...
– Здатути! Здатути!
– Заткнись! – закричал в сердцах Лоик. И, повернувшись к Диане, сказал:
– Он вам тоже надоел, не правда ли?
– Да вы, оказывается, не трус! – в восхищении сказала Диана. – А если бы она вас услышала?
– Здатути! Здатути!
– Оставьте беднягу в покое! Ему так скучно в его кресле.
Из алькова показалось раскрасневшееся лицо Люс, прическа у нее растрепалась, и Лоик, вытянув в ее сторону указательный палец, строго погрозил ей, затем повернулся к Диане:
– А что вы делали весь день, моя дорогая? Вы, должно быть, так скучали!
– Скучала? Да я была бы рада поскучать! Ну уж нет, Арлет заставила меня перебирать яблоки, и я занималась этим все время после обеда! Я не посмела отказаться, ведь мы прибавили ей забот, а у нее, кажется, нет никакой прислуги.
Стесняясь своего малодушия, она запиналась. Лоик продолжал:
– А я совсем не плохо управился с моей адской машиной, хотя по дороге она срезала два или три куста. Но главное, она схватила, измолотила и увязала в сноп двух птиц! Они с криками, почти совершенно ощипанные, выскочили из моей машины.
– Где же они? Найдите их, умоляю вас, Лоик! – взмолилась Диана. – Я должна ощипать как раз двух кур для знаменитого завтрашнего обеда с семейством Анри и их соседями Фаберами. К тому же Арлет хочет, чтобы я сама убила их.
– Что же вы будете делать?
– Я попросила охотничье ружье у Мориса. Надеюсь, если он хочет сохранить его в целости, он сам убьет их завтра утром...
– Здатути! Здатути!
– Замолчите вы наконец, старый болтун? – закричала Диана старику резким голосом, но она мгновенно замолчала, стоило Арлет появиться из коридора: скорее всего, что та услышала ее последние слова.
«Ну и что же, тем хуже!» – подумала Диана. Она не будет есть, будет лежать в постели, умрет от голода, как зверь, но свободный зверь!
Но Арлет не пожелала ничего услышать, она даже не пожелала заметить Люс, хотя выражение и цвет ее лица и растрепанная прическа говорили о многом. Лоик продолжал:
– Нужно, чтобы кто-нибудь из нас отправился наблюдать за этим пресловутым Никуда-не-пойду: он остался наедине с Брюно!
– Я пойду, – сказала Диана и припустила рысью, довольная своей ролью дуэньи.
И это несмотря на то что она не верила по-настоящему во всю эту историю. Не то чтобы нравы Брюно казались ей нерушимыми но что-то здесь не сходилось. Одному Богу известно, в курсе скольких скандалов она была – уж чего-чего, а этого в ее окружении всегда хватало: она знала одного молодожена, уехавшего в день свадьбы с братом невесты, в то время как все родственники дожидались в церкви Сент-Оноре д'Эйло; она знала жену одного премьер-министра, которая, оставив в порту своего мужа, смылась на яхте с мальчишкой-лакеем из отеля; она знала богатейшего итальянского князя, который лишил наследства всю свою семью ради цветочницы. Но при этом всегда соблюдалось одно правило: богатый уходил с богатым или богатый с бедным, но никогда не соединялись два бедняка. Такой союз не имел бы будущего. Кто стал бы принимать мужчину, уже не свободного и, следовательно, не подходящего на роль удобного кавалера, и женщину, также не одинокую, которую нельзя было бы использовать в качестве наперсницы в городе или компаньонки в скучных путешествиях? Короче говоря, обоим этим склонным к авантюризму дармоедам было бы отказано от дома, и они исчезли бы во тьме, откуда и появились. Ну скажите на милость, можно ли отвергнуть старого знакомого, чьи акции так же высоки на бирже, как и твои, ради двух незнакомцев, которые не смогли воспользоваться предоставленным им шансом?
В общем, такой альфонс, как Брюно, никогда не соединит свою судьбу с пастухом вроде Никуда-не-пойду, если только он не хочет поставить на себе крест, выглядеть смешным и неприличным. Если бы этот дегенерат наследовал сталелитейный завод, это бы меняло дело, придало бы всему какой-то смысл, в том числе и тому, что Брюно бросает Люс. Но в данном случае, честно говоря, все было слишком убого, заурядно и заведомо обречено на крах, а потому никого не могло позабавить. С намерением прочитать Брюно мораль Диана вошла в его комнату и увидела, что он по-прежнему весь пылает в горячке и у его кровати по-прежнему бдит его воздыхатель.
Диана любезно кивнула дурачку и уселась напротив. Как две тумбочки, расположились они по обеим сторонам кровати, но отныне Диана не обращала внимания на нелепости: она снова вошла в роль светской женщины со всеми вытекающими отсюда обязательствами. Ей нужно было обнаружить всю суть этой истории, она должна все узнать, пусть даже ей поведает об этом Вообще-никуда-не-пойду-и-с-места-не-сдвинусь! Торопиться ей некуда: и речи не может идти о том, что вечером она будет что-то чистить или ощипывать!..
– Кажется, нашему другу гораздо лучше, – улыбаясь, начала она.
В глазах Никуда-не-пойду самая старшая из парижан была просто жуткой, и он сразу подчинился ей, как только телега въехала во двор фермы семьи Анри. Красивая молодая женщина была очень робкой, а высокий худой мужик в основном молчал. Но эта вот баба с красными волосами могла и разораться, а то и что-нибудь похуже устроить! О чем она только что спросила у него?
Поди пойми, ведь у нее такой визгливый голос!.. И слова, которые она произносит, совсем непонятные!.. Никуда-не-пойду решил прибегнуть к упрощенному языку, которому его обучил сегодня утром его протеже, этим языком говорили или парижане, или индейцы.
– Моя не понимать, – сказал он.
Диана озадаченно примолкла. Вот еще! Этот несчастный заговорил на каком-то африканском диалекте. Хотя Орлеан и поближе, чем Томбукту... «Ах, Франция, мать искусств, мужчин и лесов», – подсказала ей услужливая память. Ах, если бы эти знаменитые писатели, Пеги, или другой, как его, Клодель, до безумства влюбленные в сельский труд и колокольни, смогли бы заглянуть в Бос! Да уж, они бы узнали, почем фунт лиха! И Диана не отказала бы себе в радости предложить им это путешествие. Они смогли бы оценить разницу между своими книжными героями-крестьянами и реальностью.
Хотя, в общем, она и преувеличивала: ведь Никуда-не-пойду стал дегенератом в результате несчастного случая. Он перенес менингит, об этом всем было известно. «Всем в Босе», – поправилась она. И коварная Диана заговорила медоточивым и осторожным голосом, в котором чуть-чуть слышалась ирония, таким голосом она говорила в разных сомнительных ситуациях:
– Моя спрашивать: Брюно чувствовать себя лучше?
Никуда-не-пойду вздохнул. По крайней мере она заговорила тем же языком, что и все остальные, хотя... как она назвала его? Он ткнул указательным пальцем в подушку:
– Его – Брюно?
– Ну да, его – Брюно! Брюно Дел... в общем, его – Брюно!
Не стоило представлять его более подробно, это может оказаться опасным в дальнейшем. Хотя Диана с трудом представляла себе, как Никуда-не-пойду занимается шантажом на авеню Фош. Нет. Нет. Просто ужасной была сама мысль о том, что идиот не знал и имени Брюно, что они бросились в объятия друг друга, не будучи взаимно представленными. Какая же звериная страсть! Два зверя! Не было ни малейшего сомнения: парень смотрел на Брюно влюбленными глазами. Какой же он скрытный, этот Брюно! Когда же у него появились эти наклонности? Может быть, он почувствовал их только на лоне природы? Этим и объясняется его отвращение к ферме. Если только он не был оглушен и изнасилован. Но нет же, он сам улыбался этому дегенерату. Она должна была во что бы то ни стало довести до конца свое расследование. Даже пользуясь одними лишь односложными словами.
– Твоя встретить Брюно где?
– Моя найти его в лесу Виньяль.
– Его был как?
– Его лежать на земле, в красивой одежде.
– Твоя находить его красивый?
– Да, его очень красивый. Красивее, чем викарий.
– Чем кто?
– Его красивее, чем викарий. Твоя не знать викария?
– Здешнего – нет. И тогда что твоя делать?
– Моя разбудить его.
– Его что говорить тебе?
– Его хотеть – моя отвести его в форт.
– Куда?
– В форт.
– Какой еще форт? Ну хорошо! Твоя сказать «да»?
– Да, моя сказать «да».
И так далее. И так далее. И так далее.
Продолжение диалога между юным дегенератом, представителем низших слоев общества в Босе, и эксцентричной женщиной из высшего парижского света не принесло ничего интересного, ни один из участников разговора ничего не почерпнул для себя ни об обычаях, ни о языке племени, к которому принадлежал его собеседник.
***
Лоику Лермиту никогда прежде не приходилось испытывать такую физическую усталость, и в конечном счете для такого нервного человека, как он, это было благим делом. Уже давно он не чувствовал себя так хорошо. Поднявшись по дороге, он выбрался на верх балки и улегся на кучу сена, которой пренебрег его комбайн в прошлый раз. Лоик достал из кармана литр холодного красного виноградного вина, который ему дала фермерша, и зажег желтоватую крестьянскую самокрутку. Он растянулся на спине, от запаха сена в носу стало щекотно, в горле стоял терпкий привкус винограда, смешанного с никотином, он испытывал такое наслаждение и такую радость, какие прежде никогда не испытывал. На заходе солнца тишину полей все чаще нарушали пролетающие то тут, то там птицы, и он чутко внимал шелесту их крыльев.
Запах сена и скошенной им самим пшеницы еще больше пьянил его своим терпким запахом с привкусом дымка и тем, что это – дело его рук; он готов был пожалеть, что раньше не жил в деревне. Эта жизнь ничем не походила, как он обнаружил, на вечные уик-энды в Довиле или в Австрии, Провансе или в Солони, которые так манили его в течение многих лет. Может быть, это происходило потому, что он никогда не оставался один, как сейчас?.. А может быть, потому, что все, что прежде ему доводилось держать в руках – сетки для крокета, снасти яхт, ракетки для тенниса или охотничьи ружья, – никогда по-настоящему не интересовало его?.. Может быть, его по-настоящему вдохновила только эта внушительная лязгающая машина, называемая комбайном?
Но у кого и где он мог раньше взять такую машину? Он с трудом представлял, как обращается с просьбой доверить ему комбайн и ферму – всего лишь на уик-энд – к какому-нибудь великосветскому другу или к какой-нибудь вельможной старухе... В общем, эти идиллические мгновения останутся в его памяти потрясающими и незабываемыми: Люс, задающая корм уткам, Диана, перебирающая яблоки... даже несчастный Брюно, которого в бесчувственном состоянии притащил деревенский идиот! Да уж, будет что порассказать, вспоминая это время! Но, к его собственному удивлению, он испытывал скорее радость, чем ностальгию. Ему скорее хотелось продлить настоящее, чем комментировать прошлое. На самом деле он просто предпочел бы остаться здесь, чем оказаться в Нью-Йорке. Ему трудно было признаться даже самому себе, но физически и морально он ощущал, как что-то в нем вырвалось наружу, он снова обрел свободу тела и духа. В Париже – в салонах и на балах – он оставил потасканного и напыщенного Лоика Лермита, возврата к которому он не хотел, в котором больше не нуждался и который стремился бы уехать вместе со всеми в Нью-Йорк. Новый же Лоик хотел остаться здесь, на этой ферме, или какой-нибудь другой, или пешком совершить «Путешествие двух ребят по Франции», вспомнив книгу, которую он так любил в школе, как и все школьники его возраста.
Из блаженного состояния его вывел шум, который нельзя было отнести к разряду деревенских. Лоик подполз по-пластунски к краю балки и наклонился вниз. Под ним были крыши построек, ближе всего была крыша сарая, сквозь зарешеченные окна которого он заметил две переплетенные тени, два человеческих силуэта, в которых он быстро узнал Люс и Мориса. Тот, очевидно, превозмог чувство боли, а Люс – свой страх, и, пользуясь беспомощным состоянием бедняги Брюно, они пришли сюда, чтобы воплотить в жизнь свою мечту – то настоящее желание, которое охватило их обоих. Лоик многого не видел, да и не пытался увидеть со своего наблюдательного пункта, потому что последние лучи заходящего солнца, вспыхивая на сарае, освещали временами красно-золотистые тела, а отсвет гас в сене. Хотя он не много увидел, зато услышал голос любви, которым говорила Люс, уверенный голос, в котором не было и тени стыда, голос женщины, отдающейся своей страсти с неожиданным порывом и решимостью. Раньше Люс представлялась ему робкой, а может быть, холодной, во всяком случае, почти не предназначенной для любви. Теперь же он понял, что сильно ошибался.
На самом же деле он не ошибался, как и Диана, хотя этот голос удивил бы и ее. Уже давно Люс так не кричала и не получала такого удовольствия. Она принадлежала к числу тех редких женщин, которые хотят, чтобы во время любовных игр на них не обращали никакого внимания, которые ненавидят заботу или предусмотрительность со стороны мужчины и получают удовольствие, лишь когда партнер заботится только о себе. Им подходит любой гусар, а утонченный мужчина им не нужен, с опытными любовниками они стесняются и застывают, только с грубыми – испытывают наслаждение. Это-то и увидел в ней ее муж, поэтому он и женился на ней: привыкнув и почувствовав вкус к субреткам, он нашел в Люс одну из редких светских женщин, которую можно, не теряя времени, быстро довести до оргазма.
Однажды она надоела ему, как надоедали все остальные женщины. Тогда Люс отдалась внимательным парижским любовникам, которые слишком заботились о том, чтобы она испытала наслаждение, поэтому-то она и не достигала его.
Крестьянин Морис придерживался старых взглядов: девушки должны кувыркаться в сене ради его удовольствия. Некоторые привыкали к этому в большей степени, другие – в меньшей, но он об этом и не думал. Он отдавал им свою мужественность, свою силу, но никогда – свои старание или умение.
Он делал все, чтобы достичь удовольствия – а оно было большим, – и хорошо, если одновременно это нравилось и женщине, на прочие мелочи он не обращал внимания.
Но это не всегда нравилось женщинам. Поэтому явный экстаз Люс удивил его, даже некоторым образом очаровал; шлюхи, которым он платил, только едва делали вид, что им хорошо, а девушки, которых он покорял, в области сексуальных отношений не были такими альтруистками и были более ортодоксальны, чем Люс. Та же при виде красивого парня, склонившегося в возбуждении и орудующего в ней, потеряла голову. Это заставило ее чудесным образом забыть Брюно, который, несмотря на свою грубость, постоянно думая о своей карьере или о своем ремесле, а главное, о том, что он потом попросит за удовольствие, никогда не переставал спрашивать в самый неподходящий момент: «Скажи мне, что ты хочешь», «Тебе так нравится?» – и так далее. Эти фразы возвращали ее к себе самой, отвлекали от него и страшно раздражали. Короче говоря, эгоистичное, грубое наслаждение, которое раньше Морис переживал в одиночестве, потрясло ее, и он услышал стон, который не доводилось услышать ни одному из ее мужчин.
Слава Богу, наступил тот момент, когда сначала дикие птицы, испуганные наступающей темнотой, а следом куры и утки начали громко кричать. Какая проза! Стоны любовников заглушило квохтанье, кряканье, кукареканье и другие звуки, выражавшие чувства обитателей птичьего двора. Затем скромно и проникновенно вступили более низкими голосами свиньи, ослы и коровы; целомудрие животных словно выразилось в этом концерте, скрывшем происходящее: это напоминало хоры в русских операх, прячущие от статистов ужас и жестокость основного действия. Только Лоик, находясь ближе к любовникам, чем к птичьему двору, имел удовольствие слышать эти восхитительные возгласы. Они не смутили его, но сначала ошеломили, а затем привели в благостное расположение духа. Потому что он очень симпатизировал Люс: в его среде некоторым проницательным мужчинам случалось любить и жалеть красивых и глупых женщин, к которым они не испытывали влечения.
А солнце тем временем садилось. Оно исчезало за горизонтом, на самом краю этой долины, такой бесконечной и такой ровной, что, глядя на нее, невольно хотелось думать об округлости земли. Ведь если она так велика, то где-нибудь, очень далеко отсюда, она обязательно должна была наклониться, изогнуться. Иначе на своей прямой траектории она могла бы столкнуться с чем-нибудь, например, с облаком или даже с самим солнцем. Было совершенно очевидно, что земля закруглялась, следуя законам Галилея. Солнце тихо затухало, час за часом, минута за минутой, не торопясь, сначала оно погрузилось по пояс, затем по плечи; а затем чья-то невидимая рука нетерпеливо и резко дернула его вниз, ускорив его падение, и солнце растворилось в розовом, купол его уменьшался и чернел. Красный отсвет временами исходил еще от этой лысой, постепенно черневшей головы. Голова, казалось, снова трагично поникла, торжествуя победу или оплакивая поражение, бросила взгляд на землю, затем неподвижно застыла, слилась с горизонтом и исчезла. Птицы смолкли, на землю навалился вечер; и вся земля открылась Лоику Лермиту, лежащему на боку после честно отработанного дня, как в стихотворении Виктора Гюго. Он учил это длинное стихотворение в школе, однажды даже рассказал его целиком своей потрясенной семье, но это было так давно. А сейчас, в начале второй войны, когда ему уже стукнуло пятьдесят, Лоик Лермит вспомнил только первые строчки: «Лег Вооз <библейский персонаж, муж Руфи> в изнеможении от усталости...»
Когда он вернулся в дом, помедлив минут десять – потому что не хотел, чтобы любовники пришли последними, – то увидел, что все семейство собралось за столом, посередине которого стояла дымящаяся супница, над ней возвышалась Мемлинг с половником в руках, а Люс, Диана и Морис с трепетом смотрели на нее: все умирали от голода, включая и Лоика. Тем не менее он не спеша уселся рядом с Дианой и с внутренним облегчением увидел рядом со своей тарелкой большой кусок хлеба.
– Кому налить первым – работникам или больному? – спросила Арлет, опуская в суп половник. Она зачерпнула изрядное количество лука, картофеля, моркови, затем громадный кусок сала и осторожно положила все это в тарелку Лоика, который испытал чувство удовлетворения и удивился этому чувству. Затем с той же щедростью она налила своему сыну, Люс и Диане, затем самой себе; каждый воспринял свою порцию как похвальный лист за работу: опущенные долу глаза, румянец смущения на щеках, заметил про себя Лоик (без сомнения, он был единственным из своей группы, кто сохранил некоторую свободу). Голод и восторг при виде еды на какое-то время лишили его способности замечать что-либо, и, только расправившись с содержимым своей тарелки, он обратил внимание, что сидящие рядом друг с другом Люс и Морис выглядели по-новому. Счастье внезапно смягчило их, подернуло патиной, озарило изнутри, и они беспрестанно делали усилия, чтобы не коснуться друг друга, – и эти усилия, в глазах Лоика, свидетельствовали о большем, чем любая фамильярность или вольности любовников, афиширующих свои отношения.
***
Морис шутил, сощурив глаза от смеха и от недавнего удовольствия. Люс ничего не говорила, но улыбалась сказанному им, не глядя на него, при этом у нее было снисходительное и достойное выражение лица, а ведь еще недавно она была неловкой взволнованной женщиной. Она настолько изменилась, что Диана время от времени бросала на нее подозрительные взгляды. Но конечно, она и не представляла себе всей правды. Визит к больному оставил ее несолоно хлебавши, и это злило ее. Диана наклонилась к Лоику, затем, передумав, обратилась прямо к хозяйке дома:
– А есть ли в здешних местах форты, Арлет?
– Форты? А что вы называете фортами? – Впервые у Мориса был озадаченный вид, хотя казалось, что его ничем нельзя удивить. – Что вы имеете в виду?
Укрепления, большие такие?
– Ну да, именно их.
– Да нет тут таких! – сказал Морис. – Откуда им здесь взяться? Это ведь все-таки Бос.
– Мы не на линии Мажино, моя дорогая Диана, – начал заинтригованно Лоик.
Но его вмешательство раздосадовало ее, и она разнервничалась:
– Кто вам говорит о линии Мажино, Лоик? Я только хотела узнать... я просто спросила, есть ли в этих местах форты, вот и все! Их нет. Ладно, я беру это себе на заметку.
– Однако странная мысль забрела вам в голову, – сказала Арлет с подозрительным видом.
Лоик почувствовал, что Диана колеблется и даже отступает, прежде чем снова броситься в атаку, ее голос стал еще более пронзительным, чем прежде.
– А нет ли поблизости семинарии или резиденции епископа?
При этих словах удивление достигло наивысшей точки. Арлет, вонзившая было нож в каравай, так и застыла, вызвав всеобщую тревогу. Морис расхохотался:
– Нет, нам здесь не нужен ни епископ, ни кюре... У нас столько работы, что на молитвы не хватает времени! По воскресеньям сюда приезжает кюре из Виньяля, чтобы отслужить мессу. Когда-то здесь был викарий... – Он замолчал, затем, смеясь, продолжил:
– Но тот маленький викарий смылся отсюда галопом! А, мамаша? Он был совсем малышом, этот викарий, которого прислали сюда! Он не мог, бедняга, всякий раз звать на помощь Господа Бога!
– Замолчишь ли ты наконец, Морис, – сказала Арлет-Мемлинг снисходительно.
И Морис замолчал, продолжая посмеиваться. Лоик смотрел то на него, то на Диану, как будто следил за теннисным мячом. Это монотонное занятие прервал шум в коридоре. За шумом последовало слово, сказанное на местном диалекте грубым голосом, а затем появился Брюно, поддерживаемый Никуда-не-пойду, Брюно, согнувшийся пополам, с горячечным взором; входя в комнату, он ударился о дверь. Никуда-не-пойду усадил больного на первый подвернувшийся стул и придвинул к нему другой стул, чтобы не дать Брюно упасть, потому что он все время соскальзывал, отяжелевшие руки и ноги тянули его вниз. Ошеломленная компания сразу встрепенулась.
– Что ты делаешь? – строго закричала Мемлинг.
Обвиняемый поднял глаза:
– Я хотим есть, а я не могу оставить его совсем одного!
– А почему бы и нет? Никто не украдет его у вас! – закричала пришедшая в себя Диана. – Вы ведь не будете таскать этого несчастного по коридору всякий раз, как вы проголодаетесь, его асе терзает лихорадка! Это бесчеловечно!
«Видно, что суп пошел ей на пользу, нашей Диане!» – подумал прагматик Лоик. Но все же она была права. И он добавил:
– Именно так. Уложите его обратно в постель, пожалуйста. Тем более что в таком состоянии ему нельзя есть, можно только пить.
– Но я-та ничо не емши! – повторил Никуда-не-пойду, его искаженное лицо свидетельствовало о том, что он переживал трагедию в духе пьес Корнеля: его раздирали два чувства – страсть и голод.
– Ну ладно, пойду уложу нашего друга! И вы не сможете помешать мне! Не правда ли, Лоик? – твердым голосом сказала Диана.
Она встала, обогнула стул Лоика, бросив ему на ходу: «Возьмите сыра на мою долю!»
– Не хочу отпускать его! – простонал Никуда-не-пойду.
И обняв своими обезьяньими руками Брюно за плечи и колени, он плотнее усадил его на стул.
– Да что вы себе позволяете! – закричала Диана. – Оставьте его! Месье – жених мадам <обращение к замужней женщине>, представьте себе! – сказала она, указывая на Люс.
Красная от злости, она ощущала себя исполненной достоинства. Только повернувшись к Люс, она поняла, что та витает где-то далеко, глаза ее блуждали. Диана отметила это и, как и всякий раз, когда она не находила всеобщей поддержки, вывернулась, сделав поворот на сто восемьдесят градусов:
– А впрочем, ерунда! Каждый человек имеет право на личную жизнь! Но что касается меня, раз уж мы все здесь, мой дорогой Лоик, заявляю вам, что, если меня хватит солнечный удар и Здатути захочет утащить меня в свое кресло, я буду протестовать, что бы он там ни говорил. Я могу рассчитывать на вас?
Казалось, это простое предположение возвратило старика к жизни, потому что он с энтузиазмом принялся кричать: «Здатути! Здатути!» Мемлинг повернулась к Никуда-не-пойду и вырвала у него стул, который он занимал на правах сиделки и фаворита.
– Ты его отпустишь наконец? – сухо спросила она. – Возвращайся в свою комнату! Супа ты все равно не получишь! Ну уж нет... Супа? А за что? Если завтра примешься за работу, получишь суп! Ты считаешь, что я должна кормить тебя за то, что ты таскаешься по моему дому за больными? Нет уж!