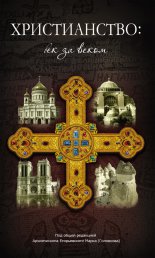Осторожно, триггеры (сборник) Гейман Нил
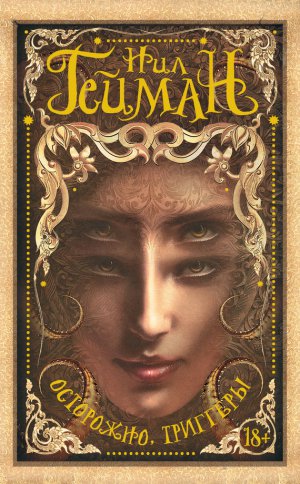
Еще один жуткий хриплый вздох. Легкие моего брата громыхали, как ставни в пустом доме.
– Если бы я остался жив, Британская империя сумела бы протянуть еще по меньшей мере тысячу лет, неся всей планете прогресс и мир…
В прошлом, будучи совсем мальчишкой, я почитал своим долгом воздать Майкрофту за каждое такое грандиозное заявление отборными издевательствами. Но не теперь же, не на смертном одре. Тем более что в одном я был совершенно уверен: мой брат говорит не о том государстве, что существовало в действительности, не об ущербном и несовершенном создании ущербных и несовершенных людей, но о великой Британской империи его воображения, величественной силе цивилизации и всеобщего процветания.
В империи я никогда не верил, не верю и сейчас. Зато я верю в Майкрофта.
Майкрофт Холмс… Пятьдесят четыре года от роду… Ему довелось увидеть зарю нового века, но Ее Величество королева все равно на несколько месяцев его переживет. Она старше его на тридцать с лишним лет, но для своего возраста – вполне еще крепкая старая сова.
Интересно, можно ли было как-то отсрочить этот злосчастный конец?
– Конечно, ты прав, Шерлок, – отозвался на мою мысль Майкрофт. – Если бы я только заставлял себя заниматься физкультурой… Если бы питался канареечным семенем и капустой вместо стейков… Если бы ходил на сельские танцы, завел жену и щенков и во всех прочих отношениях вел себя противно собственной натуре, то мог бы купить себе еще с десяток лет. Но что бы мне это дало? Да ничего особенного. Рано или поздно старческое слабоумие догонит каждого. Нет уж. Мое мнение таково, что на отладку нормально работающего государственного аппарата нужно не менее двухсот лет, не говоря уже о разведывательной службе…
Я промолчал.
На стенах бледной комнаты не было никаких украшений. Ни дипломов и грамот Майкрофта, ни гравюр, ни фотографий, ни картин. И, сравнивая эту пещеру аскета с моей собственной захламленной берлогой на Бейкер-стрит, я задумался – и уже не в первый раз – о том, как устроен породивший ее разум. Никакой потребности во внешнем он не испытывал, у него все было внутри – все, что он когда-либо видел, прочел или пережил. Майкрофт мог закрыть глаза и преспокойно отправиться в Национальную галерею, или засесть в читальном зале Британского музея, или – что более вероятно – заняться сопоставлением разведданных с отдаленных окраин империи с ценами на шерсть в Уигане и статистикой по безработице в Хоуве, и на этом основании приказать повысить по службе одного человека или тихо удавить другого.
Майкрофт издал достойный исполина вздох.
– Это преступление, Шерлок.
– Прости, что?
– Преступление, брат мой. Не менее мерзкое и чудовищное, чем любое бульварное убийство из тех, что ты расследуешь. Преступление против всего мира, против природы, против порядка.
– Должен признать, старина, я не очень тебя понимаю. О каком преступлении ты говоришь?
– О своей смерти, конечно – если в частности. И о смерти вообще.
Он посмотрел мне прямо в глаза.
– Я серьезно, Шерлок. Разве это не преступление, достойное тебя, дорогой братец? И оно займет тебя надолго – в отличие от того бедолаги из Гайд-парка, который еще духовым оркестром дирижировал. Его третий кларнет убил, с помощью препарата стрихнина.
– Мышьяка, – поправил я его, почти машинально.
– Если дашь себе труд подумать головой, – сердито прохрипел Майкрофт, – поймешь, что мышьяк в организме, конечно, есть, но попал он туда, нападав ему в суп – в хлопьях зеленой краски с парковой эстрады. Симптоматика отравления мышьяком – стопроцентный ложный след. Нет, прикончил беднягу именно стрихнин.
Больше Майкрофт мне ничего в тот день не сказал. Как и вообще. Последний вздох сорвался с его губ под вечер четверга, а в пятницу «Снигсби и Малтерсон» действительно были вынуждены снять оконную раму, чтобы спустить останки моего брата на улицу при помощи лебедки, словно огромное пианино.
На погребальную службу пришли я, мой друг Ватсон, наша с Майкрофтом кузина Гарриет и, в соответствии с последней волей усопшего, больше ни единой живой души. Такие институции, как государственный аппарат, Министерство иностранных дел и клуб «Диоген», прямо-таки блистали своим полным отсутствием. При жизни Майкрофт был затворником и остался им после смерти. В общем, там были мы трое и пастор, который брата не знал и не имел никакого понятия, что опускает в могилу самую длинную руку британского правительства.
Четверо дюжих молодцев ухватились за веревки и препроводили моего брата к месту последнего упокоения, изо всех сил стараясь не ругаться по поводу веса гроба. Я дал каждому по полкроны.
Майкрофту было всего пятьдесят четыре. Глядя, как он отплывает на ту сторону, я все еще слышал его сиплый, отрывистый шепот: «Вот преступление, достойное тебя, братец»…
* * *
Произношение у незнакомца оказалось не такое уж плохое, хотя запас слов – определенно небольшой. Говорил он вроде бы на каком-то местном диалекте, хотя, может, и нет, зато схватывал и вправду быстро. Старый Гао отхаркивался и сплевывал в уличную пыль. Общаться ему не хотелось, а тем более вести странного чужака на холмы и тревожить пчел. Чем меньше ты беспокоишь пчел, тем лучше они делают свое дело. А если они покусают этого варвара, что тогда?
Волосы у него были бело-серебряные и редкие, а нос – первый варварский нос, какой довелось увидать Старому Гао, – огромный, крючковатый и похожий на орлиный клюв. Кожа его, изрезанная глубокими морщинами, загорела не меньше, чем у самого Гао. Китаец не был уверен, что сможет прочесть варварскую рожу с тою же легкостью, что лицо нормального человека, но, присмотревшись, решил, что личность перед ним чрезвычайно серьезная и, судя по всему, несчастная.
– Чего тебе надо?
– Я изучаю пчел. Ваш брат сказал мне, у вас тут есть большие черные пчелы. Редкие, необычные пчелы.
Старый Гао только плечами пожал. Просвещать чужака по поводу степеней родства он посчитал излишним.
А чужак между тем осведомился, кушал ли Старый Гао, и, узнав, что нет, распорядился, чтобы вдова Чжан подала им супу и рису и вообще всего самого лучшего, что найдется у нее на кухне. Это оказалось варево из черных древесных грибов и овощей и к нему мелкие прозрачные речные рыбки, размером чуть больше головастиков. Двое мужчин поели в молчании. Когда они закончили, странник сказал:
– Вы оказали бы мне большую честь, согласившись познакомить с вашими пчелами.
Старый Гао опять отмолчался, но гость уже встал, щедро расплатился с вдовой Чжан и закинул мешок на спину. Потом он подождал, и когда Старый Гао пустился в путь, просто пошел за ним. Мешок свой он нес так, будто весу в нем не было никакого. Сильный для старика, подумал Старый Гао, интересно, все варвары такие?
– Откуда ты пришел?
– Из Англии.
Гао припомнил, как отец рассказывал ему про войну с англичанами, про торговлю, про опиум… но это было совсем давно.
Они поднялись по склону холма – или, может, горы, кто его разберет, – слишком крутому и каменистому, чтобы его можно было разбить на поля. Старый Гао затеял проверить выносливость незнакомца, шагая быстрее обычного, но тот легко поспевал рядом, да еще и мешок на спине тащил.
Впрочем, он все же несколько раз останавливался рассмотреть цветы – мелкие белые цветочки, распускавшиеся ранней весной по всей долине и только поздней – тут, у Гао. На одном из цветков сидела пчела, и варвар встал на колени, чтобы как следует ее разглядеть. Потом полез в карман, извлек огромное увеличительное стекло и изучил насекомое сквозь него, а потом записал что-то в маленький карманный блокнот – совершенно варварскими, непонятными буквами.
Старый Гао никогда прежде не видал увеличительного стекла и тоже наклонился, поглядеть на пчелу – могучую, черную, совсем не такую, как все прочие пчелы в долине.
– Это одна из ваших?
– Да. Или просто такая же.
– Ну, пусть себе ищет дорогу домой, – сказал незнакомец, убрал стекло и не стал тревожить пчелу.
* * *
Крофт
Ист-Дин, Сассекс
11 августа 1922 года
Мой дорогой Ватсон,
нашу сегодняшнюю послеобеденную дискуссию я принял близко к сердцу и тщательно обдумал. Думаю, теперь я готов изменить свое мнение.
Я согласен, чтобы вы опубликовали свой отчет о событиях 1903 года и, в частности, о последнем деле перед моей отставкой, на следующих условиях.
Помимо обычных модификаций, которые вы всегда производите для сокрытия подлинных имен и топонимов, предлагаю вам заменить суть рассматриваемого вопроса (я говорю о саде профессора Пресбери и больше упоминать его здесь не намерен) обезьяньими железами или какой-нибудь вытяжкой из тестикул человекообразной обезьяны или лемура, присланной из-за границы таинственным доброжелателем. Возможно, одним из побочных эффектов этого чудодейственного экстракта будет свойственная профессору Пресбери новая, обезьяноподобная манера двигаться (например, его могут прозвать «Подкрадывающимся» или как-то так) или способность взбираться на деревья и по стенам зданий. Может быть, он даже отрастит себе хвост… хотя это, пожалуй, будет слишком причудливо даже для вас, Ватсон, – но не более причудливо, нежели прочие барочные украшения, которыми вы столь щедро уснащаете в своих повестях рутинные события моей жизни и работы.
Вдобавок я сочинил нижеследующую речь, которая должна быть приведена от первого лица по окончании вашего повествования. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы там непременно было какое-то подобное эссе, в котором бы я выступал против слишком долгой жизни и идиотских импульсов, заставляющих всяких идиотов делать идиотские вещи для продления своих идиотских жизней.
Человечество, дорогой Ватсон, находится в опасности, и весьма реальной опасности. Если бы мы могли жить вечно, если бы бесконечная юность вдруг оказалась доступна детям Адама, люди материальные, чувственные, мирские тут же кинулись бы продлять свое бессмысленное существование. Люди же духовные все равно не станут избегать высшего призвания. Выживут слабейшие, наименее достойные. Представляете, в какую выгребную яму превратится наш бедный мир?
Что-нибудь в этом духе меня, полагаю, вполне удовлетворит.
Пожалуйста, покажите мне законченный материал, прежде чем отсылать его издателям.
Остаюсь ваш старый друг и покорнейший слуга,
Шерлок Холмс
* * *
До пчел Старого Гао они добрались только ближе к вечеру. Серые деревянные ящики ульев сгрудились позади строения столь простого, что оно вряд ли могло именоваться хижиной. Четыре столба, крыша да занавески из промасленной ткани, защищающие от свирепых весенних ливней и летних гроз. Для тепла имелась маленькая угольная жаровня – если сесть поближе и накрыться вместе с ней одеялом, вполне можно согреться; на ней же и готовили. Деревянный топчан посредине с древней глиняной подушкой служил ложем на тот случай, если Старый Гао вдруг решит заночевать в холмах вместе с пчелами. По большей части такое случалось осенью, когда он собирал основной урожай. По сравнению с пасекой кузена меда, конечно, было мало, но все же довольно, чтобы иногда подождать дня два или три, пока соты будут готовы, а затем разломать их на куски, раздробить в кашу и процедить через тряпицу в специально затащенные сюда, на холм, ведра и корчаги. Все, что оставалось – липкий, неочищенный воск, частицы пыльцы и почвы, пчелиную пульпу, – он плавил в горшке, чтобы получить чистый воск, а сладкую воду отдавал снова пчелам. Потом нес мед и восковые слитки вниз, в деревню на продажу.
Гао показал варвару свои одиннадцать ульев и бесстрастно глядел, как тот надел вуаль и открыл первый из них, внимательно изучая сперва самих пчел, потом расплод и, наконец, царицу через свое увеличительное стекло. Ни страха, ни неудобства он не выказывал, движения его сохраняли покой и мягкость. Он не раздавил и не поранил ни единой пчелы и ни разу не был ужален. Старого Гао это, признаться, впечатлило. Он всегда считал, что варвары – это такие непостижимые, непонятные, загадочные твари и нормальных человеческих чувств от них ждать не приходится, но этот странный человек, казалось, был вне себя от радости, что познакомился с пчелами. Глаза у него так и сияли.
Старый Гао раскочегарил жаровню, чтобы вскипятить воды. Однако не успел уголь набрать жару, как незнакомец вытащил из своего мешка какую-то странную штуковину из стекла и металла, наполнил ее верхнюю половину водой из ручья, а в нижней зажег огонек, и вскоре уже полный чайник воды весело булькал и пускал пар. За чайником последовали две жестяные кружки и завернутые в бумагу листья зеленого чая. Листья он бросил в кружки и залил их кипятком.
Чай у него оказался самый лучший, какой Старому Гао только доводилось пробовать, – куда лучше, чем даже у кузена. Они пили его молча, сидя на земляном полу хижины.
– Я бы хотел остаться тут на лето, прямо в этом доме, – сказал странный гость.
– Здесь? Это даже не дом! – удивился Старый Гао. – Остановись внизу, в деревне. У вдовы Чжан есть комната.
– Я останусь здесь, – твердо сказал тот. – И еще я бы хотел взять в аренду один из ваших ульев.
Старому Гао уже долгие годы не случалось смеяться. Кое-кто в деревне сказал бы, что такое вообще невозможно. Но тут он расхохотался, грубо, отрывисто, будто смех из него выдергивали по кускам – дивясь и потешаясь над нежданной шуткой.
– Я совершенно серьезен, – сказал незнакомец.
И положил на землю между ними четыре серебряных монеты. Откуда они взялись у него в руках, Старый Гао не видел: три серебряных песо из Мексики, которые давно уже были в ходу в этих краях, и один большой юань. Даже торгуй он медом целый год, и то навряд ли увидал бы столько денег сразу.
– А за это, – продолжал гость, – я хочу, чтобы кто-нибудь приносил мне еду. Раз в три дня, думаю, хватит.
Старый Гао ничего не сказал. Он допил чай, встал и вышел, отодвинув промасленную дерюгу, на прогалину за навесом. Одиннадцать ульев стояли перед ним. В каждом имелось по два ящика для расплода, а над ними – еще один, два, три, а в одном случае даже четыре ящика с рамками. Вот к этому-то, с четырьмя, он и подвел незнакомца.
– Этот – твой, – сказал он и тем ограничился.
* * *
Дело со всей очевидностью было в растительных экстрактах. Да, они давали некоторый эффект и только ограниченное время, но при этом были чрезвычайно ядовиты. Наблюдая за бедным профессором Пресбери в его последние дни – и в особенности за состоянием его кожи, глаз и походки, – я пришел к заключению, что, несмотря на все это, метод он выбрал правильно.
Я забрал его ящик с семенами, стручками, корнями и сухими экстрактами и погрузился в размышления. Я думал. Я взвешивал. Я анализировал. Это чисто интеллектуальная задача, и разрешить ее можно, как всегда старался продемонстрировать мне мой старый учитель математики, тоже средствами интеллекта.
Это были растительные препараты, и они оказались летальными.
Мне удалось сделать их нелетальными, но при этом пропала и эффективность.
Проблема оказалась больше, чем на три трубки. Подозреваю, что еще немного, и она потянула бы на три сотни трубок, но тут мне в голову пришла идея, запустившая мысль в совершенно новом направлении: ведь существует способ переработки растительного материала, способный сделать его пригодным для употребления человеком!
Увы, исследования такого порядка на Бейкер-стрит провести не так-то легко. Поэтому осенью 1903 года я перебрался в Сассекс и за зиму прочел, смею думать, все до сих пор опубликованные книги, брошюры и монографии о содержании и разведении пчел. А в начале апреля 1904-го, вооруженный пока только теоретическими знаниями, я уже принимал посылку от одного местного фермера – мой первый рой.
Иногда я задаюсь вопросом: неужели Ватсон ничего не заподозрил? Впрочем, его поразительная недалекость никогда не уставала меня восхищать. Скажу больше, в некоторых ситуациях я прямо-таки на нее полагался – и она ни разу меня не подвела. Впрочем, Ватсон очень хорошо себе представлял, на что я становлюсь похож, когда мне нечем занять ум, в какую меланхолию, в какую апатию я впадаю, когда мне не подворачивается ни одного годного дела. Как он мог поверить, что я и вправду вышел в отставку – зная мой характер?
При получении пчел Ватсон, тем не менее, присутствовал – наблюдал с безопасного расстояния, как рой полился из посылочного ящика в пустой, ждущий улей, будто густая, тихонько жужжащая струя патоки.
Он видел, как я взволнован, – и, разумеется, ничего не понял.
Шли годы, мы продолжали наблюдать – за тем, как рушится империя, как правительство раз за разом доказывает свою неспособность управлять, как наших героических мальчиков отправляют во фламандские траншеи на верную смерть, – и все это лишь укрепляло мою решимость: я не просто поступал правильно – я делал единственно возможное.
Шло время. Мое лицо утрачивало знакомые черты, суставы пальцев распухали и ныли (хотя и не так сильно, как могли бы, причиной чему, вероятно, были многочисленные укусы, сопровождавшие первые годы моей карьеры пчеловода-исследователя). Ватсон, мой милый, храбрый, глупый Ватсон увядал, бледнел и съеживался; как его кожа серела, усы становились того же оттенка, что кожа – и мое намерение довести исследования до конца с годами отнюдь не ослабело. На самом деле оно лишь усилилось.
Итак, моя первоначальная гипотеза прошла проверку в Саут-Даунс, в изобретенном мною самим пчельнике, где каждый улей был устроен строго по Лангстроту[17]. Нет сомнений, что я совершил все ошибки, какие когда-либо совершал или хотя бы мог совершить пчеловод-новичок, – а вдобавок, вследствие специфики моих исследований, еще и целый улей ошибок, которых ни один пасечник никогда не совершал и никогда, очень хочу надеяться, не совершит в будущем. «Дело об отравленном улье» – вот как окрестил бы многие из них Ватсон, хотя «Таинственный паралич в Женском институте» привлек бы к моим штудиям куда больше внимания, если бы кто-то дал себе труд его расследовать. (В действительности я ограничился тем, что выбранил миссис Телфорд за то, что она взяла банку меда у меня с полки без разрешения, и позаботился о том, чтобы на будущее у нее всегда было несколько банок для кулинарных нужд – и непременно из обычных ульев, а те, что из экспериментальных, сразу после сбора меда запирались бы в отдельном шкафу. Сдается мне, никто так ничего и не понял – впрочем, как всегда.)
Я экспериментировал с голландскими пчелами, с немецкими и с итальянскими, с украинскими серыми медоносами и с кавказскими видами. Я горько оплакивал наших родных, британских, пчел, почти полностью исчезнувших из-за болезней растений и межпородного скрещивания, хотя в конце концов мне удалось найти и пустить в работу маленький улей, который я приобрел в одном бывшем аббатстве в Сент-Олбансе и самолично вырастил из одной расплодной рамки и королевской ячейки. Я полагаю, что это вполне может быть последний представитель того самого, изначального британского маточного поголовья.
Я усердно экспериментировал почти два десятилетия, прежде чем пришел к выводу, что нужных мне пчел не найти на английских берегах, и если они где-то и есть, то так далеко, что им все равно не пережить путешествия на столь колоссальное расстояние в посылке международной почтовой службы. Я должен был изучить индийских пчел. А затем, возможно, отправиться и еще дальше.
К счастью, я знаю довольно много языков, пусть и на самом поверхностном уровне.
У меня были цветочные семена, экстракты и тинктуры в форме сиропов. А больше мне ничего и не понадобится.
Я тщательно их упаковал, договорился, что коттедж в Даунс будут убирать и проветривать раз в неделю, а с мастером Уилкинсом – которого я, боюсь, привык именовать, к вящему его огорчению, «юным Вилликинсом», – что он станет проверять мои ульи и своевременно готовить их к зиме, а также собирать и продавать излишки меда на рынке в Истбурне.
Я сказал им, что не знаю, когда вернусь.
Я уже стар – возможно, они и не ждали увидеть меня еще раз.
И, если уж на то пошло, строго говоря, они оказались совершенно правы.
* * *
Даже не желая того, Старый Гао оказался впечатлен. Он всю жизнь свою прожил среди пчел. И все равно, глядя, как незнакомец профессиональным движением запястья вытряхивает насекомых из ящиков, так чисто и так быстро, что суровые черные пчелы успевают скорее удивиться, чем рассердиться, и просто летят – или ползут – обратно в улей, он не мог не признать в нем выдающегося мастера. А гость тем временем сложил ящики с рамками на крышку одного из слабейших ульев, чтобы Старый Гао не лишился меда из арендованного.
Так у Старого Гао появился постоялец.
Он выдал внучке вдовы Чжан несколько монет, чтобы та носила варвару еду трижды в неделю – по большей части рис и овощи, да еще глиняный горшок с горячим (по крайней мере, на тот момент, когда она его оставляла в хижине) супом.
Каждые десять дней Старый Гао сам взбирался на холм. Сначала он ходил проверять свои одиннадцать ульев, но вскоре обнаружил, что вверенные заботам незнакомца они процветают, как никогда раньше. И был еще двенадцатый, в котором гость поселил дикий рой черных пчел, пойманный как-то на прогулке по холмам.
В следующий раз наведавшись в хижину, Старый Гао притащил с собой досок, и они с постояльцем несколько вечеров молча делали ящики, которые вставляются в ульи, и рамки, которые вставляются в ящики.
Незнакомец поведал Гао, что рамки, которые они сейчас изготавливают, были изобретены одним американцем всего лишь семьдесят лет тому назад. Старый Гао решил, что это вздор, потому что он делал точно такие же рамки, как его отец и как его дед, и дед его деда, и как все соседи по всей долине, – но вслух ничего не сказал.
Общество варвара ему нравилось. Они вместе делали ульи, и Гао жалел, что лет гостю, к несчастью, многовато. А не то он остался бы на подольше, и ему, Гао, было бы кому завещать пасеку. Но нет, оба они были старики, с редкими, битыми изморозью волосами и морщинистыми лицами. Они просто вместе сколачивали ящики, и ни один, ни другой не надеялся протянуть еще хотя бы с дюжину зим.
Старый Гао приметил, что рядом со своим ульем, который он отодвинул подальше от прочих, чужак насадил маленький аккуратный садик и покрыл его сеткой. Еще он сделал черный ход от него к двенадцатому улью, чтобы добраться до тамошних цветов могли только пчелы оттуда и ниоткуда больше. Также от него не укрылось, что под сеткой, среди растений, расставлено несколько мисок, вроде бы с сахарным сиропом: одна – с красным, другая – с зеленым, третья – с удивительного оттенка синим и четвертая – с желтым. Гао ткнул в них пальцем, но получил от гостя в ответ только кивок да улыбку.
Пчелы, однако, жадно поглощали сиропы, толпясь и толкаясь по краям мисок. Высунув хоботки, они ели до отвала, пока уже совсем не могли больше сосать, после чего, басовито жужжа, возвращались домой, в улей.
Еще постоялец рисовал пчел Старого Гао. Он даже показал наброски ему, их хозяину, и попробовал объяснить, чем эти пчелы отличаются от всех прочих; толковал о каких-то древних пчелах, миллионами лет сохранявшихся в камне, но тут китайского ему явно не хватало, да и Старому Гао, по правде говоря, было не особенно интересно. Все равно, пока он не умрет, это будут его пчелы, а потом – пчелы гор. Когда-то он приносил сюда и других пчел, но они захирели и перемерли или пали жертвой черных хозяек, которые совершали налеты на их гнезда и забирали мед, оставляя новоприбывших голодать.
Последний такой визит случился в конце лета. Потом Старый Гао спустился с горы и никогда больше не видал своего постояльца.
* * *
Дело сделано.
Все работает. Меня охватывает странное сочетание торжества с разочарованием, чтобы не сказать с горечью поражения, словно нервы мне пощипывают собирающиеся где-то тучи дальней грозы.
Так странно смотреть на свои руки и видеть их не такими, какими привык, но какими они были когда-то, в более молодые годы: костяшки не распухли, на тыльной стороне – темные волосы вместо привычных снежно-белых.
Сколь многие сложили головы на этом пути, стараясь разрешить проблему, очевидного решения не имеющую? Первый император Китая умер сам и почти уничтожил свою империю три тысячи лет назад, а сколько поиски заняли у меня – от силы лет двадцать?
До сих пор не знаю, правильно ли я поступил, что взял дело по заказу Майкрофта, – хотя отставка и отсутствие пищи для рассудка свели бы меня в буквальном смысле с ума. Я расследовал дело и неизбежно пришел к решению – как всегда.
Расскажу ли я обо всем миру? О нет, ни в коем разе.
Тем не менее в сумке у меня еще полгоршка темно-бурого меду. Полгоршка, стоящие больше целой империи. (Так и подмывало написать «больше, чем весь чай в Китае, вместе взятый» – возможно, из-за моего текущего местонахождения, но, боюсь, даже Ватсон расценил бы это как клише.)
Кстати, о Ватсоне…
Осталось сделать еще только одну вещь. Моя последняя задача, и она сама по себе невелика. Нужно добраться до Шанхая, а там сесть на корабль до Саутгемптона – всего лишь на другом конце света отсюда, но какие, право, мелочи!
Дома я разыщу Ватсона, если он еще жив, – а я надеюсь, это так. Признаю, это довольно иррационально, но я положительно уверен, что почувствую, если Ватсон покинет этот мир.
Я куплю коробку театрального грима, замаскируюсь под старика, чтобы не слишком удивить его при встрече, и приглашу моего старого друга на чашку чаю.
Думаю, тем вечером к чаю будут подавать тосты со свежим маслом и медом.
* * *
В деревне все только и говорили что об еще одном варваре, который прошел через эти места, держа путь на восток. Те, кто спешил поделиться новостью со Старым Гао, категорически отказывались верить, что варвар этот – тот самый, что целое лето жил у него в хижине на склоне горы. Нет, этот был молод и горд осанкой и волосы имел черные. Ничего общего со стариком, что был тут весной… хотя кто-то из деревенских утверждал, что мешок вроде бы похож.
Естественно, Старый Гао пошел в горы, разбираться, что к чему, хотя и подозревал уже, что там найдет.
Его постоялец исчез, и знаменитый мешок вместе с ним.
Кажется, в хижине много чего сожгли – вон зола от бумаги. Старый Гао нашел обугленный уголок рисунка: одна из его пчел. От остальных ровным счетом ничего не осталось, только серый пепел либо черные ошметки, на которых все равно ничего не разобрать, даже если бы Старый Гао умел читать варварские буквы. Однако горела не только бумага: от улья, который арендовал незнакомец, остались одни головешки, а от мисок с разноцветными сиропами – скрученные от жара обрывки жести.
Что касается цвета растворов, незнакомец сказал ему в свое время – это чтобы различать, где какой, а зачем – Старый Гао никогда не выпытывал.
Он изучил всю хижину, будто детектив, выискивая хоть намек на то, кем мог быть его таинственный гость и куда отправился дальше. На глиняной подушке для него оставили четыре серебряные монеты: два юаня и два песо – и Гао их немедленно прибрал.
За хижиной он обнаружил кучу отработанной пульпы, по которой все еще ползали последние вечерние пчелы, выбирая остатки нектара с поверхности все еще липкого воска.
Старый Гао думал долго и усердно, а потом собрал пульпу, завернул в тряпку, положил в горшок и наполнил его водой. Горшок он нагрел на жаровне, но кипеть воде не дал. Вскоре воск всплыл на поверхность, оставив мертвых пчел, почву, пыльцу и прополис в тряпке.
Гао оставил воду остывать, а сам вышел наружу и уставился на луну. Она была почти полной.
Интересно, сколько народу в деревне еще помнит, что его сын умер в младенчестве? Гао помнил жену, но лицо ее казалось далеким и будто бы стертым, а ни портретов, ни фотографий у него отродясь не водилось. Он подумал, что нет, наверное, в целом свете лучшего призвания, чем держать черных, свирепых, формой напоминающих пулю пчел тут, на склоне высокой горы. Никто на земле не знает их нрава лучше, чем он.
Вода остыла. Гао положил теперь уже совсем твердый слиток воска на доски кровати и вынул узел, полный грязи и нечистот, из горшка. А затем (раз уж он тоже был в своем роде детектив, а настоящий детектив знает, что когда ты исключил все невозможное, то, что осталось, каким бы невозможным оно ни казалось, – это и есть истина) он выпил сладкую воду из горшка. В пульпе всегда остается много меда, даже когда большую его часть уже процедили через ткань и очистили. У воды был вкус меда – но только не такого, к которому привык Старый Гао. Она отдавала дымом, металлом, странными цветами и нездешними благовониями. На вкус вода была, подумал Гао, немножко похожа на секс.
Он допил ее и уснул, головой на глиняной подушке.
А проснувшись, стал думать, как поступить с кузеном, который, конечно, станет требовать себе двенадцать ульев на склоне холма, когда Старый Гао исчезнет.
Пожалуй, это будет незаконный сын – тот молодой парень, что вернется в деревню в один из грядущих дней. Или даже настоящий сын, законный. Молодой Гао на смену Старому. Кто теперь вспомнит подробности?
Он уйдет в город, а потом вернется оттуда и станет разводить черных пчел на склоне горы – сколько позволят отпущенные ему дни и судьба.
Человек, который забыл Рэя Брэдбери
Я ЗАБЫВАЮ ВСЯКИЕ ВЕЩИ, и это меня пугает.
Я теряю слова, хотя понятия еще помню. То есть надеюсь, что помню. Если и они улетучиваются из моей памяти, то я этого не осознаю. И потом, если забываешь понятия, как это вообще можно осознавать?
Все это довольно забавно, так как памятью я всегда отличался хорошей. В нее помещалось все. Иногда я так хорошо все помнил, что думал, будто могу даже вспомнить те вещи, которых еще не знаю. Эдакое предвоспоминание…
Вряд ли для такого явления есть специальное слово. Или есть? Память о том, чего еще не случилось. Это неловкое чувство, когда лезешь к себе в голову в поисках слова, а его там нет, словно кто-то прокрался туда под покровом ночи и стащил несколько штук.
В молодости я жил в большом общежитии. Я тогда был студентом. У каждого из нас на кухне имелась своя полка, надписанная именем, и в холодильнике тоже; мы держали на них яйца, сыр, молоко, йогурт, которые покупали себе сами. Я всегда педантично пользовался только собственными продуктами. Остальные были не столь… ну вот. Забыл слово. То, которое значит «скрупулезно следовать правилам». Остальные люди в доме не были… вот этим самым. Идешь, бывало, к холодильнику, а твои яйца уже кто-то слопал.
Я вижу небо, полное космических кораблей; их так много, что похоже на египетскую казнь саранчой. Так и сверкают серебром в светоносной лиловой ночи.
А ведь тогда из моей комнаты и вещи пропадали. Например, ботинки. Я помню, как от меня уходили ботинки. Ну, вернее, «ушли», потому что в процессе покидания моей территории я их не застал. Ботинки сами собой не уходят. Как правило, их уводят. Как и мой большой словарь. Тот же дом, то же время. Помню, иду я к маленькой книжной полке возле кровати (там все было возле кровати; да, помещение гордо называлось комнатой, но по размеру больше походило на встроенный шкаф с кроватью в нем). Так вот, иду я к полке, а словаря-то и нет – только дыра в ряду книг размером точно со словарь, чтобы подчеркнуть, что он был, да сплыл.
Все слова и книга, в которой они хранились, исчезли. За следующий месяц у меня забрали еще мое радио, баллончик пены для бритья, стопку бумаги для записей и коробку карандашей. И йогурт. И, как выяснилось, когда отключили электричество, еще и свечи.
Я думаю про мальчика в новых кроссовках, который был уверен, что может бегать вечно. Нет, ко мне это не имеет отношения. Пересохший город, в котором вечно шел дождь. Дорога через пустыню, на которой добрые люди видели миражи. Динозавр, служивший кинопродюсером. В мираже показывали дворец Кубла-хана. Нет…
Иногда, если слова прячутся, я могу изловить их, подкравшись с другой стороны. Скажем, я потерял слово – разговор идет об обитателях планеты Марс, и я вдруг понимаю, что как они называются, как раз и забыл. При этом я могу помнить, что искомое слово есть в каком-то предложении или в названии чего-то. «…………хроники»[18]. «Мой любимый……………»[19]. Если оно и тут не дается, я захожу с фланга. Зеленые человечки, думаю я, или вот еще высокие, с темной кожей, изящные: «… Были они смуглые и золотоглазые…» – и внезапно вот он, марсианин, ждет меня собственной персоной, будто возлюбленная или друг вечером долгого дня.
Когда пропал радиоприемник, я ушел из того дома. Это постепенное исчезновение вещей, которые я считал однозначно своими, слишком утомляло – одна за другой, предмет за предметом, слово за словом.
Когда мне было двенадцать, один старик рассказал мне историю, которая осталась со мной навсегда.
Некий бедняк оказался на ночь глядя в лесу, и у него с собой не было молитвенника, чтобы прочесть вечерние молитвы. Ну, он и говорит:
– Боже мой, ведающий все на свете, у меня нет молитвенника, и молитв я наизусть не помню. Но ты-то знаешь их все, ты же Бог. Поэтому вот что я сейчас сделаю: я скажу тебе алфавит, а ты уж сам как-нибудь сложи буквы в слова.
Из моей памяти пропадают всякие вещи, и это меня пугает.
Икар! Не то чтобы я вообще все имена позабыл. Вот Икара же я помню. Он подлетел слишком близко к солнцу. В сказках оно всегда того стоит. Всегда имеет смысл хотя бы попытаться – даже если тебя ждет неудача, даже если падешь ты, подобно деннице, и сгинешь навек. Лучше просверкнуть во тьме, вдохновить других, прожить хоть немного на полную катушку, чем просидеть всю дорогу впотьмах, проклиная тех, кто одолжил у тебя свечку, да так и не вернул.
Еще я теряю людей.
Странно, когда такое случается. Я же их на самом деле не теряю. Не так, как люди теряют родителей, – и не так, как маленький ребенок в толпе… когда ты думаешь, будто держишь за руку маму, а потом поднимаешь глаза – а это вовсе и не мама… Или потом, позже, когда приходится откуда-то брать слова, чтобы рассказать, какими они, эти люди, были, – на похоронах или на поминальной службе. Или когда рассеиваешь прах в саду с цветами или над морем.
Я иногда думаю, что хотел бы, чтобы мой прах рассеяли в библиотеке. Но на следующее утро, еще до первых читателей, все равно придут библиотекари и сметут его весь обратно.
Да, я хотел бы, чтобы мой прах рассеяли в библиотеке – или на ярмарке с аттракционами. На ярмарке 1930-х, где можно покататься на черной… на такой черной… на…
Опять забыл слово. На карусели? На русских горках? В общем, на такой штуке, на которой ты катаешься – и ты снова молодой. На чертовом колесе! Да. Бывает еще другой карнавал, который тоже приезжает в город, но несет с собой зло. «У меня разнылся палец…»[20]
Шекспир.
Я помню Шекспира; помню имя, и кто он был, и что написал. Шекспир пока может чувствовать себя в безопасности. Хотя наверняка есть на свете люди, которые забывают Шекспира. Им приходится говорить что-нибудь вроде «ну, этот человек, который написал быть иль не быть», – и ни в коем случае не фильм с Джеком Бенни, настоящее имя которого было Бенджамин Кубельский и который вырос в Уокигане, штат Иллинойс, примерно в часе пути от Чикаго. Уокиган, штат Иллинойс… его еще потом обессмертили под именем Зеленого Города в целой серии рассказов и книг одного американского писателя, который сам как раз уехал из Уокигана и отправился жить в Лос-Анджелес. Я про того чувака, о котором как раз сейчас думаю. Я вижу его у себя в голове, стоит мне только закрыть глаза.
Я любил смотреть на его фотографии на оборотах книг. Он там выглядел очень мягким. И мудрым. И добрым.
Он написал рассказ о По – чтобы По не забыли. О будущем, в котором люди жгут книги и забывают их. И в этом рассказе мы оказываемся на Марсе, хотя с тем же успехом могли бы оказаться в Уокигане или в Лос-Анджелесе, – мы, критики, те, кто обижает книги и забывает их, кто забирает и крадет слова, все слова, словари и радиоприемники, набитые словами, те люди, которых ведут через весь дом и убивают, одного за другим, при помощи орангутанга или ямы и маятника, ради любви к Господу, Монтрезор…[21]
По. Я знаю По. И Монтрезора. И Бенджамина Кубельского с его женой, Сэйди Маркс, которая никакого отношения к братьям Маркс не имела, зато выступала под именем Мэри Ливингстон. Все эти имена у меня в голове…
Мне было двенадцать.
Я читал книги, я смотрел фильм. На температуре сгорания бумаги я внезапно понял, что непременно должен это запомнить. Потому что, если кто-то один жжет или забывает книги, кто-то другой обязан их помнить. Мы вверим их своей памяти. Мы станем ими. Станем писателями и их книгами заодно.
Простите. Тут я что-то забыл… Идешь себе по тропинке, и вдруг она исчезает, тупик, и ты один и заблудился в лесу. Вот он я, здесь, и я больше понятия не имею, где это самое здесь находится.
Вы должны выучить какую-нибудь пьесу Шекспира – я буду называть вас «Титом Андроником». А вы, кто бы вы там ни были, можете взять что-нибудь из Агаты Кристи. Будете, скажем, «Убийством в Восточном экспрессе». Еще кому-то неплохо было бы заняться стихотворениями Джона Уилмота, графа Рочестера. А вы, да, вы, который сейчас это читает, извольте запомнить роман Диккенса, и когда мне понадобится узнать, что там случилось с Барнеби Раджем, я приду к вам. Уж вы-то сможете мне рассказать.
А вы, люди, которые сжигают слова, берут книги с полок, пожарные и невежды, те, кого пугают слова и сказки, и сны, и Хэллоуин, и те, кто вытатуировал себе по всему телу слова, и мальчишки! Растите грибы у себя в подвале! И пока ваши слова (которые – люди, которые – дни, которые – вся моя жизнь), пока ваши слова будут жить, останетесь живы и вы, и у вас будет смысл, и вы измените мир, и я все равно не помню ваших имен.
Я выучил ваши книги. Выжег их у себя в уме. На тот случай, если в город вдруг придут пожарные.
Но кто вы такие, я уже не помню. Я жду, что память вернется ко мне, как ждал, что вернутся словарь и радио, и ботинки – и все с тем же никудышным результатом.
Все, что осталось, – пустое место у меня в голове, место, которое раньше занимали вы.
Но даже и в этом я уже не уверен.
Помню, я разговаривал с другом.
– Тебе знакомы эти сюжеты? – спросил я его.
Я пересказал ему все слова, какие только знал: те, что о чудовищах, идущих домой, а дома их ждет человечий детеныш; те, что о торговце молниями и о черном карнавале, следовавшем за ним по пятам; те, что о марсианах и об их павших хрустальных городах и безупречных каналах. Все эти слова сказал я ему, а он ответил, что слышит о них в первый раз. Что их просто нет.
Мне не по себе.
Не по себе оттого, что я поддерживал в них жизнь – как те люди в снегах в конце повести: ходил взад-вперед, вспоминал, повторял слова, сохраняя им жизнь и реальность.
Думаю, во всем виноват Бог.
Нельзя ожидать, что он будет помнить все вообще. Куда уж ему! Бог – парень занятой. Наверняка он иногда доверяет кому-то поработать за него.
– Ты! Да, ты. Я хочу, чтобы ты помнил даты Столетней войны. А вот ты будешь помнить окапи. А ты – Джека Бенни, он же Бенджамин Кубельский из Уокигана, штат Иллинойс.
А если тебе вдруг случится забыть то, что Бог наказал помнить – БАМ! Нет больше окапи. Только дыра в ткани мира, в форме окапи, которая, между прочим, была на полпути между антилопой и жирафом. Нет больше Джека Бенни. И Уокигана нет. Только пустое место у тебя в голове, ровно там, где было такое понятие или человек.
Я больше не знаю…
Не знаю, где искать. Может, я потерял писателя, как когда-то словарь? Или еще того хуже: может, Бог дал мне это малюсенькое задание, а я взял и не справился? И теперь, когда я его забыл, он исчез со всех полок, исчез даже из энциклопедий и живет разве что в наших снах…
Мои сны… Ваших-то я не знаю. Возможно, вам никогда и не снился вельд, всего-то нарисованный на обоях, да только он взял и съел двух детей. Ам, и нет! Возможно, вам невдомек, что Марс – это небеса, куда отправляются наши ушедшие, те, кого мы любили, и откуда они приходят потом по ночам, чтобы сожрать нас. И человек, арестованный за то, что он – пешеход, вам тоже не снится.
А вот мне – снится.
Если он и вправду существовал, я его забыл. Потерял. Забыл его имя, названия книг – одно за другим. Забыл сами книги и то, о чем в них написано.
Боюсь, я схожу с ума, ведь не может все дело быть просто в возрасте!
Если я провалил это твое задание, Господи, Боже мой, дай мне сделать только одну последнюю вещь, чтобы ты мог вернуть в мир все эти истории.
Потому что, если это сработает, возможно, они будут помнить этого человека… Все они будут помнить. И снова один звук его имени приведет вам на память крошечные американские городишки в Хэллоуин, когда сухая листва вьется над тротуарами, словно стая вспугнутых птиц, – или Марс, или саму любовь. А мое имя будет забыто.
Я хочу, я готов заплатить эту цену, если зияющая дыра на книжной полке моего разума снова заполнится – прежде чем я уйду.
Боже милостивый, услышь мою молитву.
А … Б … В … Г … Д … Е … Ж …
Иерусалим
- Мой дух в борьбе несокрушим,
- Незримый меч всегда со мной,
- Мы возведем Ерусалим
- В зеленой Англии родной[22].
ИЕРУСАЛИМ, ДУМАЛ МОРРИСОН, подобен глубокому пруду, где даже время застоялось, сделалось густым. Город поглотил его, поглотил их обоих; время давило со всех сторон, выталкивая наверх и вон. Это как если нырнуть слишком глубоко.
Моррисон был рад, что вынырнул.
Завтра он снова пойдет на работу. Работать было хорошо. На работе можно сосредоточиться. Он включил было радио, но тут же выключил обратно – прямо на середине песни.
– Вообще-то она мне нравилась, – сказала Делорес, которая мыла холодильник перед тем, как набить его новой едой.
– Ну, прости, – сказал он.
Когда играла музыка, ему было трудно думать. Для этого ему требовалась тишина.
Моррисон закрыл глаза и на мгновение снова провалился в Иерусалим, ощутил на лице пустынный жар, увидел древний город и понял – впервые в жизни, – какой он все-таки маленький. Настоящий Иерусалим, тот, что две тысячи лет назад был меньше английского провинциального городка.
Их экскурсовод, сухопарая кожистая женщина, тыкала пальцем.
– Вон там была прочитана Нагорная проповедь. Вон там схватили Иисуса. Вон туда его посадили под стражу. Суд Пилата был там, у дальнего конца Храма. А распяли его вон на том холме.
Она деловито мазнула пальцем вниз вдоль склонов и снова вверх. Самое большее в нескольких часах пешком отсюда.
Делорес фотографировала. Они с экскурсоводшей моментально нашли общий язык. Моррисон в Иерусалим вообще не хотел. В этот отпуск он думал поехать в Грецию, но Делорес настояла. Иерусалим такой библейский, сказала она ему. Это же живая история.
Они шли через старый город, начав с еврейского квартала. Каменные ступени. Закрытые лавочки. Дешевые сувениры. Мимо продефилировал мужчина в громадной черной меховой шапке и в толстом пальто. Моррисон поморщился.
– Он же там наверняка уже сварился.
– Они носили такое в России, – сообщила экскурсовод. – И продолжают носить здесь. Такие меховые шапки – только для праздников, и это еще не самая большая. У некоторых и побольше бывает.
Делорес поставила перед ним чашку чаю.
– Дам пенни, если скажешь, о чем ты думаешь.
– Отпуск наш вспоминаю.
– Хватит уже его жевать, – сказала она. – Лучше отпусти. Сходи лучше, выгуляй собаку.
Он выпил чай. Пока он ходил за поводком, собака смотрела на него выжидательно, будто хотела что-то сказать.
– Пошли, мальчик, – сказал Моррисон.