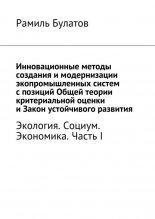Избранное. Потрясение оснований Тиллих Пауль

Смерть – дело Божественного гнева: «Все дни наши прошли во гневе Твоем; мы теряем лета наши, как звук». Странным стало в наши дни представление о Божественном гневе. Мы отвергли религию, которая превращает Бога в яростного тирана, в существо, наделенное страстями и желаниями, совершающее капризные и непредсказуемые действия. Не это означает гнев Бога. Гнев Бога означает неизбежную реакцию против каждого искажения закона жизни и сверх того – против человеческой гордости и надменности. Эта реакция, отбрасывающая человека назад, в свои пределы и границы, – не кара, необузданная и страстная, и не возмездие Бога – это восстановление равновесия между Богом и человеком, нарушенного, когда человек восстал против Бога.
Поэт выражает свое глубокое понимание отношения между человеком и Богом, говоря, что Бог «положил тайное наше перед светом лица Своего». Гнев Бога направлен не против наших моральных слабостей и изъянов, не против особых актов непослушания и неподчинения Божественному порядку. Он направлен против необъяснимого в нашей личности, против того, что происходит в нас и действует на нас, незримое для людей, незримое даже для нас самих. Эта наша тайна определяет нашу судьбу больше всех видимых вещей. В сфере наших зримых действий и поступков мы можем и не почувствовать, что заслужили гнев Бога, страдания и несчастья. Но Бог видит сквозь покровы, за которыми прячутся наши тайны – они явны для Него. Поэтому мы каждодневно ощущаем на себе тяжкую власть, отрицающую нас, расщепляющую нас на части, делающую нас несчастными. Этот гнев Бога сопровождает нас во все наши дни, а не только тогда, когда мы претерпеваем особые неудачи и страдания.
Такова ситуация всех людей. Но не все люди знают это. «Кто знает силу гнева Твоего, и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Псалом старается научить нас истине о нашей человеческой ситуации, нашей скоротечности и нашей вине. Этот псалом производит в нас то же действие, какое в свое время оказывали греческие трагедии: они открывали всем горожанам, собравшимся в театре, истину о том, что есть человек; они показывали народу, что самое великое, самое лучшее, самое прекрасное, самое могущественное – все на свете – подчинено трагическому закону и проклято бессмертными. Они стремились раскрыть человеческую ситуацию – ситуацию человека перед лицом Божественного. Человек становится великим и надменным, он пытается прикоснуться к Божественной сфере – и повергается в распад и отчаяние. Именно это хотел открыть псалмопевец праведным и неправедным людям своего народа: кто они; что есть человек.
Но псалмопевец знал, что люди, даже если на мгновение и испытают потрясение, узнав эту истину, – забывают о своей участи. Он знал, что люди живут так, словно бы им суждено жить вечно, словно гнева Божьего не существует. Поэтому он просит нас так счислять свои дни, чтобы уразуметь, как быстро они подойдут к концу. Он молит Бога о том, чтобы Сам Он научил нас тому, что мы должны умереть.
Псалмопевец не думает, что осознание истины сказанного повергнет человека в отчаяние. Напротив, он верит, что именно это прозрение и сможет дать нам сердце мудрое – сердце, которое принимает бесконечное расстояние между Богом и человеком и не притязает на величие и блаженство, присущие одному лишь Богу.
Мудрое сердце таково, что не пытается скрыть эту истину от самого себя, не пытается найти себе прибежище в обманчивой защищенности и безопасности, лживом цинизме. Мудрое сердце таково, что способно мужественно выстоять перед лицом этого знания, с благородством, смирением и силой духа. Эта мудрость сквозит в каждом слове псалма – величайшая мудрость, которой в Древнем мире достиг человек, ощущающий трагизм жизни.
После моления о мудром сердце (а не об интеллектуальной мудрости!) начинается новая часть псалма, добавленная, быть может, в более поздний период развития еврейской религии. Эта новая часть посвящена народу и его исторической ситуации. «Обратись, Господи! Доколе? Умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя; И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам». Нечто новое появляется в этих словах: значимость прошедшего и будущего, мольба о лучшем будущем, о будущем счастья и веселья, о присутствии Бога и успешности нашей работы. Бог не только Бог вечности, Он еще и Бог будущего. Круговращение из праха во прах, от греха ко гневу – прервано. Возникает видение века исполнения и свершения после веков ничтожества и страдания. Но это видение – только для Его рабов, для избранного народа, а внутри него – только для тех, кто действительно Его рабы. Отдельный человек не стоит больше перед Богом в одиночестве. Он среди других рабов Божиих, в среде народа Божиего, которого ожидает не возвращение в тление, а жизнь в новом веке, где присутствует Бог. Надежда вытесняет трагизм. Здесь – высочайшая точка развития религии Ветхого Завета.
Но религиозный дух устремляется и за эти пределы. Это не конец. Что для отдельного человека означает историческая надежда? Освобождает ли она нас от закона скоротечности жизни и вины? История, устремляясь в неведомое будущее, отбрасывает каждого человека в прошлое, и мы не достигаем возраста совершенства и полноты бытия, по которым тоскует поэт. Не ведая жалости, история шагает через наши могилы, и не видно, чтобы сама она приблизилась к своему завершению и полноте. Всякий раз, когда история, казалось бы, должна приблизиться к исполнению и завершению, она отбрасывается назад и оказывается еще дальше от своего завершения, чем когда бы то ни было. Именно это – хотим мы того или нет – испытываем мы в наше время. И вот мы спрашиваем, как спрашивали все былые поколения людей: что сильнее – трагизм или надежда? Находится ли будущее под властью прошлого? Сильнее ли гнев милости? Мы мечемся между унынием и надеждой – от трагизма к надежде, от надежды к трагизму. В этой ситуации нужно быть готовым принять весть о новом бытии, о существовании иного рода, которое оказывается не только надеждой, но и реальностью, где в конечном счете Божественный гнев и человеческая вина преодолены. Христианство основано на этой вести: Бог принял на Себя скоротечность жизни и гнев, чтобы быть с нами. Так исполняется надежда, о которой поет псалмопевец: «Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя».
Можно принимать или отвергать эту весть, но она дает ответ на те вопросы, которые псалмопевец оставляет без ответа. Можно предпочесть держаться лишь слабой надежды, несмотря на утрату всех иллюзий. Можно предпочесть вернуться к благочестивой покорности и смирению более ранней части псалма. Можно даже предпочесть вернуться назад, к тому настроению печали, в которую нас погружает уподобление человеческой жизни – жизни полевой травы. Можно избрать любой из этих путей истолкования нашей жизни. Но что бы мы ни выбрали, мы должны отдавать себе отчет в том, что ни на одном из этих путей мы не сможем найти ответ на вопрос о нашей жизни. И нам придется смириться. Но если мы принимаем весть о новой реальности во Христе, мы должны понимать, что эта весть не содержит в себе простых и легких ответов, и что она не гарантирует нам никакой духовной безопасности. Нам следует знать, что это реальный ответ только тогда, когда мы осмысляем его постоянно в свете нашей человеческой ситуации, где трагизм и надежда борются друг с другом, и никто из них не побеждает. Победа – выше них. Победа пришла, когда на молитву псалмопевца был дан ответ. «Обратись, Господи!» – это молитва человечества из века в век, и это сокровенная молитва, звучащая в глубине каждой человеческой души.
9. И природа оплакивает утраченное благо
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их.
Пс. 18:2–5
Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне.
Рим. 8:19–22
И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления народов.
Отк. 21:1; 22:1–2
Каждый год, с приближением Страстной Пятницы и Пасхального Воскресенья, наши помыслы обращаются к великой драме искупления, достигающей своей кульминации в образах Креста и Воскресения. Кто искуплен? Лишь некоторые люди, или все человечество с его народами, или весь мир, все сотворенное: природа с ее звездами и облаками, ветрами и океанами камнями и растениями, животными и собственными нашими телами? Снова и снова Библия говорит о спасении мира, как говорит она о творении мира и подчинении мира противоборствующим Богу силам. А мир означает природу заодно с человеком.
Итак, зададимся сегодня вопросом: что для нас означает природа? Что значит она сама по себе? Каково ее значение в великой драме творения и спасения? Ответ на это, состоящий из трех частей, содержится в словах псалмопевца, апостола и пророка: псалмопевец воспевает славу и великолепие природы; апостол показывает ее трагедию, а пророк возглашает ее спасение. Гимн псалмопевца превозносит славу Божию в славе природы; послание апостола связывает трагедию природы с трагедией человека, а провидение пророка усматривает спасение природы в спасении мира.
Итак, вслушаемся еще раз в слова псалмопевца о славе и великолепии природы, в их точном смысле.
Небеса говорят о славе Бога, и твердь показывает дело Его рук. День дню изливает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет ни речи, ни языка! Их голос нельзя слышать! Но их музыка проходит по всей земле, а их слова – до пределов мира.
18 псалом указывает на старинное верование, которого придерживался Древний мир. Его выражали поэты и философы, говоря, что небесные тела – Солнце, Луна и звезды – в своем движении создают гармонию музыкальных тонов, звучание которой днем и ночью пронизывает из конца в конец весь мир. Эти голоса Вселенной человеческому уху не слышны; на человеческом наречии они не говорят. Но они существуют, и мы можем воспринять их органами нашего духа. Шекспир говорит: «…Взгляни, как небосвод весь выложен кружками золотыми; и самый малый, если посмотреть, поет в своем движенье, точно ангел, и вторит юнооким херувимам. Гармония подобная живет в бессмертных душах; но пока она земною, грязной оболочкой праха прикрыта грубо, мы ее не слышим»{ Венецианский купец, акт 5, сцена 1. – Прим. пер.}. Псалмопевец слышал эту гармонию; он знал, что звезды прославляют великолепие творения и его Божественного Основания.
А способны ли мы воспринять потаенный голос природы? Говорит ли природа нам что-нибудь? Говорит ли она вам что-нибудь? Или же она онемела для нас, для людей нашей эпохи? Кто-то из вас может сказать: «Никогда прежде не была природа столь открыта человеку, нежели ныне. Тайны прошлого стали достоянием детей. Природа говорит, обращаясь к нам, из каждой научной книги, в каждой лаборатории, каждой машиной. Откровение тайны природы – ее использование в технических целях». Голос природы услышан научным разумом, и его ответ – завоевание природы. Но разве это все, что она говорит нам?
Однажды мы сидели под деревом с одним замечательным ученым-биологом. Неожиданно он воскликнул: «Как бы я хотел узнать что-нибудь об этом дереве!» Разумеется, он знал все, что науке положено говорить о деревьях. Я его спросил, что он имеет в виду? И он ответил: «Я хочу понять, что это дерево значит само по себе, я хочу понять жизнь этого дерева, такую странную, такую непостижимую!» Ученый стремился к сопереживающему знанию жизни природы. Но такое знание возможно только при единении человека и природы, в причастности их друг другу. Возможно ли такое единение в нашу историческую эпоху? Не подчинена ли всецело природа воле и своеволию человека? Гордость человечества – техническая цивилизация – нанесла гигантский урон первобытному состоянию природы: земле, животным, растениям. Остатки нетронутой природы она сохранила в маленьких заповедниках и подчинила все своему господству и безжалостной эксплуатации. Хуже того, – многие из нас утратили способность жить вместе с природой. Мы заглушаем ее шумом пустой болтовни, вместо того чтобы вслушиваться в ее многоголосие, а в нем улавливать безмолвную музыку вселенной. Отлученные от почвы автомобилем, мы проносимся сквозь природу, бросая на нее взгляды, но никогда не постигая ее величие, не чувствуя ее силы. Кто все еще способен проникать в творящее основание природы, размышлять над ней, созерцать ее? Китайский император попросил знаменитого живописца нарисовать для него петуха. Живописец изъявил согласие, но сказал, что на это потребуется много времени. Через год император напомнил художнику о его обещании. Живописец отвечал, что после года изучения петуха он только начал понимать внешнюю сторону его натуры, еще через год художник утверждал, что только начал постигать сущность петушиной жизни. Так год за годом и шло. Наконец, через десять лет сосредоточенного изучения петушиной природы художник написал картину: работу, о которой говорили как о неисчерпаемом откровении божественного основания вселенной в малой ее части, в петухе. Сравните мудрое терпение китайского императора и святое созерцание художника бесконечно малого проявления божественной жизни с экзальтированной несдержанностью наших современников, спешащих в своих автомобилях к прославленным видам природы и восклицающих: «Как мило!» – разумея при этом, конечно, не сами виды, но свою собственную оценку красоты. Какое святотатственное надругательство над славой и великолепием природы! – а следовательно, и над божественным основанием, слава которого звучит в великолепии природы.
Восхвалять великолепие природы – не значит говорить только об одной ее красоте и забывать о ее подавляющем и захватывающем величии и ужасающем могуществе. Природа никогда не являет нам поверхностную красоту или одну лишь видимую гармонию. «Глас Господа силен, – говорит поэт, автор 28 псалма, – глас Господа сокрушает кедры, глас Господа высекает пламень огня, глас Господа потрясает пустыню и обнажает леса». В книге Иова мы находим описание ужасающего могущества природы в мифологических символах Бегемота и Левиафана. А великий современный поэт Рильке говорит: «Ибо Красота – не что иное, как начало Ужаса, который мы все еще едва способны перенести. И мы потому поклоняемся ей, что она невозмутимо презирает нас, чтобы уничтожать. Каждый ангел – ужасен. Великолепие природы – не внешняя красота».
А теперь прислушаемся еще раз к словам апостола о трагедии природы. Творение с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле Того, Кто ее покорил, в надежде, что творение, как и человек, будет освобождено от рабской зависимости от тления и достигнет великолепной свободы детей Божиих. Мы знаем, что до сегодняшнего дня все творение вздыхает и страдает.
Не только славой и великолепием полна природа, – она еще и трагична. Она подчинена законам конечности и разрушения. Она страдает и вздыхает вместе с нами. Всякий, кто хоть раз вслушался в звуки природы, сочувствуя и сопереживая ей, не может позабыть их трагического напева. Греческое слово в послании Павла, которое мы перевели как «творение», употребляется преимущественно для обозначения неодушевленной части природы, как например, у того же Павла, когда тот ссылается на слова, сказанные Богом Адаму после его грехопадения: «Проклята земля за тебя». Вздыхающие звуки ветра и вечно неспокойный, бесплодный накат волн прибоя могли навеять поэтический, полный меланхолической грусти стих о покорности природы суете. Но слова Павла в большей мере касаются сферы живых существ. Печаль осенних листопадов, конец ликующей жизни весны и лета, неприметная и тихая смерть бесчисленных существ в холодном воздухе надвигающейся зимы – все это заставляет и всегда будет заставлять сжиматься сердца не только поэтов, но и всех людей, способных чувствовать. Песнь о скоротечности звучит у всех народов. Слова Исайи: «Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа» – говорят о краткости жизни людей и народов. Но без глубокого сопереживания жизни природы они не могли бы быть написаны. А вот что говорит Иисус, восхваляя полевые лилии: «И Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». В двух этих речениях мы постигаем как славу, так и трагедию природы.
Сопереживание природе в ее трагедии – не сентиментальное душевное волнение, это неподдельное чувство реальности природы. Шеллинг справедливо говорит: «Флер грусти окутывает всю природу, глубокая неутолимая печаль распространена во всей жизни». Согласно Шеллингу, это «явственно проступает в следах страдания на лике всей природы, особенно – в выражении глаз животных». Учение Будды о страдании как существенной черте всей нашей жизни завоевало значительную часть человечества. Но только тот, кто в основании собственного бытия связан с основанием природы, способен разглядеть ее трагизм; как говорит Шеллинг: «Самое темное и самое глубокое основание человеческой натуры есть "страстное томление"… есть печаль. Это, главным образом, и создает отношения сопереживания человека с природой, ибо печаль составляет глубочайшее основание и природы тоже. И природа оплакивает утраченное благо». Понимаем ли мы еще смысл таких полупоэтических, полуфилософских слов? Или мы уже слишком обособились в нашем человеческом превосходстве, интеллектуальном высокомерии, заняв позицию господства над природой? Мы утратили способность воспринимать гармонические звуки природы. Неужели мы потеряли восприимчивость и к ее трагическим звукам?
Почему природа трагична? Кто виноват в страданиях животных, в безобразии смерти и разложения, во всеобщем страхе перед смертью? Много лет тому назад я и один хорошо известный психолог стояли на молу, глядя на океан. Мы видели бесчисленное множество маленьких рыбок, которые спешили по направлению к пляжу. Их преследовали рыбы побольше, за которыми, в свою очередь, гнались еще большие. Агрессия, бегство, тревога – прекрасная иллюстрации старого сюжета о карасе и щуке, как в природе, так и в истории. И вот ученый, во множестве научных споров отстаивавший гармоническое устроение реальности, заливается слезами, говоря: «Зачем созданы эти существа, если они живут только для того, чтобы другие их пожирали?» В этот миг трагедия природы вторглась в его оптимистическое умонастроение, и он задал вопрос: «Почему?»
Павел пытается проникнуть в тайну, стоящую за этим вопросом. И его удивительный ответ гласит: природа покорилась суете по проклятию, которое Бог наложил на нее из-за грехопадения Адама. Трагедия природы связывается с трагедией человека, также как спасение природы зависит от спасения человека. Что это означает? Человечество всегда мечтало о временах, когда гармония и радость наполнят всю природу, когда между природой и человеком воцарится мир – Рай, Золотой Век. Но человек, преступив божественный закон, разрушил гармонию, и теперь между человеком и природой, как и в самой природе, установилась вражда. В полных печали словах Павла вновь звучит эта мечта. Да, это мечта, но в ней содержится глубокая истина: человек и природа принадлежат друг другу в их сотворенной славе и великолепии, в их трагизме и в их спасении. Как природа, предстающая в виде «змея», вовлекает человека в искушение, так и человек, преступая божественный закон, приводит природу к трагедии. Случилось это не в стародавние времена, как о том говорит предание, – это происходит в каждый момент времени и в каждом месте: пока существуют время и пространство. До тех пор, пока существуют ветхое небо и ветхая земля, человек и природа вместе будут покорны закону суеты. Многие глубокие мыслители, как внутри христианства, так и за его пределами, согласны в том, что человеку суждено положить конец глубокому томлению природы. Но пока человек терпел и продолжает терпеть неудачу в попытках приблизиться к собственному совершенству, он будет не в состоянии привести к совершенству природу: свое собственное телесное существо и окружающую природу. Поэтому Иисуса называют Сыном Человеческим, человеком свыше, истинным человеком, в ком силы разделения и трагизма преодолены – не только в человечестве, но и во вселенной. Ибо нет спасения человека без спасения природы, ведь человек – в природе, а природа – в человеке.
Прислушаемся еще раз к словам пророка о спасении природы: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления народов» (Откр. 21:1; 22:1–2).
Мощными образами описывает последняя книга Библии спасение человека и природы от рабства тлению: град Божий строится из драгоценнейших материалов неодушевленной природы. Океана, символа бесформенного хаоса, больше нет. Река не тронута гниением. Деревья непрерывно приносят плоды; животные вместе со святыми поклоняются трону Славы. Демонические силы повергнуты в ничто. Нет ни страдания, ни смерти. Нет нужды говорить, что это не описание будущего состояния нашего мира. Подобно Золотому веку прошлого, Золотой век будущего есть символ, указывающий на некую тайну в пределах нашего нынешнего мира: он указывает на силы спасения, и становится совершенно понятным одно обстоятельство в видениях пророка: спасение – значит спасение мира, а не одного только человека. Львы и овцы, малые дети и змеи, мирно возлягут друг подле друга, – говорит Исайя. Ангелы и звезды, люди и животные поклоняются Младенцу Рождественской легенды. Земля содрогается, когда Христос умирает, и потрясается снова, когда Он воскресает. Солнце теряет свой свет, когда Он закрывает свои глаза, и восходит, когда Он восстает из гробницы. Символ победы над смертью – воскресение тела, а не бессмертной души. Бестелесный дух (и в этом заключается смысл всех этих образов) не является целью творения; результат спасения – не отвлеченный разум или внеприродное личностное начало. Разве не видим мы повсюду отчуждение людей от природы – от сил своей собственной природы и природы вокруг? И разве не стали люди сухими и бесплодными в своей душевной жизни, жесткими и надменными в своей моральной позиции, подавлеными и отравлеными в своих жизненных проявлениях? Нет сомнения, они не олицетворяют спасение. Как справедливо сказал один теолог: «Телесное бытие – окончание путей Божиих».
Это всегда было известно творчески одаренным живописцам и скульпторам. Великая картина или статуя – предвосхищение новой земли, откровение тайны природы. Картина или статуя суть растение или камень, преображенные в носители духовного смысла. Это – возвышенная над собой природа, обнаруживающая свою трагедию и в то же самое время – свою победу над трагедией. Изображения Иисуса, апостолов и святых на протяжении многих веков существования христианского искусства, в цвете и камне – это портреты людей, в которых человечность являет свою силу и достоинство: ни с чем не сравнимое выражение личностного начала в лице самого простого человека показывает, что дух становится телом, и что природа не чужда личности. Система клеток и функций, которую мы называем «телом», способна выражать тончайшие перемены состояния нашего духовного существа. Художники зачастую понимали вечную значимость природы даже тогда, когда теологи настаивали на бестелесной духовности, забывая о том, что свое мессианское призвание Иисус явил прежде всего как силу исцелять телесные и душевные недуги.
Позвольте задать вам вопрос: по-прежнему ли мы в состоянии понимать, что означают таинства? Чем более мы отчуждены от природы, тем меньше у нас остается возможности ответить на этот вопрос утвердительно. Вот почему в наше время таинства утратили столь многое в своей значимости для отдельного человека и Церквей. Ведь в таинствах в деле спасения участвует природа. Хлеб и вино, вода и свет и все великие стихии природы становятся носителями духовного смысла и спасающей силы. Природные и духовные силы соединяются – воссоединяются – в таинстве. Слово обращается к нашему разуму и может побудить нашу волю. Таинство, если смысл его жив, завладевает нашим бессознательным и сознательным существом. Оно завладевает творческим основанием нашего бытия. Оно – символ природы и духа, объединившихся в спасении.
Итак, будьте едины с природой и причастны ей! Примиритесь с ней после отчуждения. В безмолвии прислушивайтесь к природе, и вы найдете ее душу. Природа и впредь будут возвещать славу своего божественного основания. Она будет вздыхать вместе с нами в трагическом рабстве. Она будет говорить о нерушимой надежде на спасение!
10. Опыт святости
В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего:
«Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал Он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите.
Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена; но как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее».
Ис. 6
Эта глава – одна из величайших глав Ветхого Завета. В ней с полной ясностью открывается сущность библейской религии. Пророк описывает видение своего призвания на пророческое служение словами и образами, выражающими одновременно его основополагающий опыт встречи с Богом, его понимание человеческого существования и его представление о назначении пророка. Его опыт встречи с Богом есть опыт святости Бога. Пророк понимает состояние человека как состояние нечистоты и неспособности стоять пред лицом Бога. Назначение пророка парадоксальным образом противопоставлено обычному пониманию смысла пророчества. Эти три идеи в сочетании друг с другом являются, быть может, наивысшим выражением пророческого духа.
Самого Бога пророк никоим образом не описывает. Он говорит только о свите, заполняющей храм, об ангелах, окружающих трон Господа, о потрясении основания и о дыме воскурений, наполняющем дом. Этими средствами пророк указывает на то, что откровение Бога одновременно есть скрывающая Его завеса. Бог может открыть себя, только оставаясь сокрытым. Но даже и сокровенное откровение вызывает у Исайи такое чувство, будто он гибнет. Встреча с Богом, даже если это всего лишь приближение к Его сфере, даже если сам Бог остается скрытым, означает упразднение человека.
Такое же чувство выражается и в возгласе серафима. Как ясно показывает контекст, восклицание «Свят!» имеет двойной смысл. Оно означает величие, наполняющее мир, и чистоту в противоположность человеческой нечистоте. Слава и великолепие без чистоты – отличительный признак всех языческих богов. А чистота без славы и великолепия составляет отличительный признак всех человеческих представлений о Боге. Гуманизм преобразовал недоступность Бога в возвышенность Его нравственных требований. Гуманизм позабыл о том, что величие Бога, явленное в опыте пророка, подразумевает потрясение оснований, где бы Бог ни являл себя, и туманную завесу, где бы Он ни давал зреть себя. Когда Бог отожествляется с каким-либо началом человеческого естества, как это свойственно гуманизму, то ужасающая и уничтожающая встреча с величием Бога становится невозможной. Но «Свят» означает также и нравственное совершенство, чистоту, добродетель, истину и справедливость. Слава Бога может удовлетворить весь мир только потому, что Он свят в этом двойном смысле. Слава богов, которые не святы в этом двойном смысле, может удовлетворить только одну страну, один род или племя, один народ или государство, одну сферу человеческой жизни. Поэтому они не обладают истиной, справедливостью и чистотой Бога, который поистине Бог. Они – демоны, домогавшиеся святости, но отрешенные от нее, ибо их слава – величие без чистоты. Итак, повторим: «Лишь Ты Один свят!» – что особенно важно для нынешнего времени.
Пророк признается, что он – человек с нечистыми устами и что живет среди народа с нечистыми устами. Он специально говорит именно о своих устах, ибо его дело – проповедовать, но нечистота его уст символизирует и нечистоту всего его существования, существования отдельных людей и общества в целом. Исайя показывает глубину прозрения, отожествляя себя со своим нечистым народом в тот самый момент, когда он удостоился своего исключительного видения. Различие между мистической и профетической религиями кроется в этом прозрении, ибо даже в высочайшем экстазе пророк не забывает о той социальной группе, к которой он принадлежит, и ее нечистоте, от которой не может избавиться. Поэтому пророческий экстаз, в противоположность мистическому, никогда не замыкается на самом себе, но является средством получения Божественных повелений, которые должны быть проповеданы народу. Видение Исайи открывает два условия пророческого существования. Уста пророка должны быть сперва очищены огнем. Тогда он сможет услышать Глас Бога – условие его пророческой миссии. Никто не может быть пророком Бога, опираясь на свои собственные силы, и никто не может освободить себя от этой миссии. Только сила Божественной Святости, касаясь нашего существования, может приблизить нас к Богу. Что-то из нашего существования, греха, беззакония или нечистоты должно быть выжжено, должно быть уничтожено. Только благодаря такому уничтожению Бог может говорить, обращаясь к нам и через нас. Но от нас никоим образом не зависит, когда Он заговорит и будет ли говорить вообще. Исайя сам своего видения не порождает и источником собственного очищения не является. Он был охвачен ужасом и благоговейным трепетом. И он должен был действовать, ибо Бог спросил: «Кто пойдет для нас?» Бог ожидает ответа. Он ни к чему не принуждает: решение выступить у Исайи должно быть свободным. Свобода принятия решения – второе условие существования пророка. Пророк должен решить, посвятить себя пророческому служению или нет. Что касается нашей судьбы и призвания, мы свободны; что касается нашего отношения к Богу, мы бессильны. Величие Бога очевидно в каждом случае.
Затем пророк говорит о содержании божественного повеления. «Сделай сердца этих людей бесчувственными, сделай уши их глухими и закрой их очи». Наше естественное нравственное чувство отказывается принять подобный парадокс; ведь говоря, мы желаем быть услышанными, и проповедуя, желаем обращать и исцелять. Однако пророк принимает божественное повеление. И когда его естественное чувство побуждает спросить: «Надолго ли?», он получает ответ: «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет». Здесь нет ни надежды, ни обетования. В чем смысл этого парадокса? Суть его состоит в том, что подлинные пророки – орудия Бога, доводящие до человечества божественные приговоры. Они орудия постольку, поскольку пророческое слово всегда вызывает сопротивление человека как в сфере его жизненных проявлений, так и в сфере его нравственного и религиозного существования – особенно в сфере религиозного существования. Люди любят лжепророков, которые, прославляя их богов, прославляют своих последователей и самих себя. Люди страстно желают, чтобы им льстили, льстили их желаниям и добродетелям, их религиозному чувству и общественной деятельности, их воли к власти и утопическим упованиям, их знанию и любви, их роду и расе, их классу и нации. И всегда можно найти лжепророка для прославления демона, которому эти люди поклоняются. Но когда поднимается голос подлинного пророка, они затыкают свои уши, они перечат ему и в конце концов преследуют и убивают его, потому что неспособны принять его весть. Порядок их жизни держится, пока не исполнится пророческое слово, пока не разрушатся города, а земля не опустошится.
Все мы жаждем пророческого духа. Мы озабочены тем, чтобы привести людей к новой справедливости, к лучшему социальному строю. Мы жаждем спасти народы от угрожающей им гибельной участи. Но обладает ли наше слово – даже если бы оно было от Бога – большей действенной силой, нежели то, что увидел Исайя в своем видении и испытал в своей жизни? Разве мы больше, чем Исайя? Разве наш народ сегодня менее привержен демонам, чем его народ? А если так, то разве можно ожидать иного, чем то, о чем в своем видении был предупрежден Исайя? Мы должны молиться о даровании пророческого духа, который столь долгое время был мертв в Церквах. И тот, кто чувствует, что перед ним поставлена пророческая задача, должен исполнять ее, как это делал Исайя. Он должен нести весть о новой справедливости и новом социальном строе во имя и во славу Бога. Он должен быть готовым к вражде и преследованиям не только своих врагов, но и своих друзей, партии, класса и нации. Он должен ожидать преследований в той мере, в какой его слово есть слово того Бога, Кто единственный свят, того Бога, Кто единственный способен создать святой народ из остатка каждой нации.
11. Иго религии
В то же время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Прийдите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.
Мф. 11:25–30
Когда я достиг возраста конфирмации и полноправного участия в церковной жизни, мне было сказано, чтобы я выбрал из Библии отрывок, который бы выражал мой личный подход к библейской вести и христианской Церкви. Каждому конфирманту нужно было это сделать и прочитать наизусть выбранный отрывок перед прихожанами. Когда я выбрал слова «Прийдите ко Мне все труждающиеся и обремененные», меня спросили, с некоторым изумлением и даже иронией, почему я выбрал именно этот особый отрывок – ведь обстоятельства моей жизни складывались счастливо и, будучи пятнадцати лет от роду, я не был обременен никакой видимой работой. В тот раз я не нашелся что ответить, оказавшись в некотором замешательстве, но чувствовал свою правоту по существу. Я и в самом деле был прав; прав каждый ребенок, непосредственно отзывающийся на эти слова; прав каждый взрослый человек, откликающийся на них во всякое время своей жизни, во всех обстоятельствах своей внутренней и внешней истории. Эти слова Иисуса имеют всеобщее значение и относятся к каждому человеку, каждой человеческой ситуации. Они просты; они завладевают как наивным, так и глубоким сердцем, приводя в смущение душу мудреца. Практически каждое речение Иисуса характеризуется подобной способностью влиять на людей, неся на себе отпечаток того различия, которое существует между Иисусом как автором этого речения, и его толкователями, учениками и теологами, святыми и проповедниками. Возвращаясь после долгого перерыва к отрывку, который некогда выбрал, я чувствую, что захвачен им как и в тот раз, но бесконечно более смущен его величием, глубиной и неисчерпаемостью смысла. Наша задача при встрече с подобными словами ясна: мы должны указать причину их власти над нашими душами, мы должны объяснить, почему в эмоциональную силу этих слов включена последняя истина, и мы должны попытаться рассмотреть нашу человеческую ситуацию в их свете.
Следует поставить три вопроса, порождаемые этими словами Иисуса, и истолковать ответы, которые из них вытекают. Что это за труд и бремя, от которых мы можем избавиться и обрести покой благодаря Иисусу? Что это за благое иго и легкое бремя, которые Он возложит на нас? Почему Он – и только Он один – способен даровать такой покой нашим душам?
Слова «Прийдите ко Мне, все труждающиеея и обремененные…» обращены ко всем людям, хотя не все воспринимают их одинаковым образом. Слова эти выражают общую человеческую ситуацию – быть обремененными и без отдыха трудиться под игом, слишком жестоким, чтобы снести его. Что же это за бремя? Поначалу можно подумать, что это бремя и труды, налагаемые на нас каждодневной жизнью. Но в данном тексте на это нет указания. Иисус не говорит нам, что облегчит бремя нашей жизни и работы. Да и как бы Он смог это сделать, если бы даже и захотел? Приходим мы к Нему или нет – угрозы болезней или безработицы не уменьшаются, тяготы нашей работы не облегчаются, судьба беженца, влекущая его из одной страны в другую, не изменяется, ужас разрухи, ран и смерти, летящей с небес, не перестает преследовать нас, и не превозмочь печали по уходящим друзьям, родителям или детям. Иисус не может обещать и не обещает больше удовольствий и меньше страданий тем, кого призывает к Себе. Наоборот, иногда Он сулит им больше страданий, гонений, смертельных угроз – «крест», как Он это называет. И все это – не то бремя, о котором Он говорит.
Это не бремя греха и вины, как мог бы допустить человек, сведущий в традиционном христианском толковании дела Христа. В словах Иисуса ни на что подобное указаний не содержится. Возложить на себя Его благое иго, Его легкое бремя – не значит легче относиться к греху или менее серьезно – к вине. Приходящим к Нему Он не говорит, что их грехи не столь значительны, как кажутся. Он не притупляет в них осознания ошибок и прегрешений. Наоборот, практически каждым своим словом Он до высочайшей возможной степени обостряет их сознание. Он судит и порицает такие грехи, которые традиционная теология Его эпохи грехами и не считала. Не об этом бремени Он говорит.
Бремя, которое Иисус хочет снять с нас, есть бремя религии. Это иго закона, которое возложили на людей Его эпохи религиозные учителя, мудрые и разумные, как называет их Иисус в нашем отрывке, – или книжники и фарисеи, как они зовутся обычно. Труждающиеся и обремененные – это те, кто томится и вздыхает под игом религиозного закона. И Иисус дает им власть преодолеть религию и закон; иго, которое Он дает им, есть «новое бытие», бытие превыше религии. То, чему они научатся от Него, есть победа над законом мудрых и разумных и над законом книжников и фарисеев.
Какое отношение это имеет к нам? Почему это имеет отношение ко всем людям во всех ситуациях? Потому, что вместе со всеми людьми мы томимся и вздыхаем под законом, под законом, чье имя религия, и под религией, чье имя закон. Такова глубина слов Иисуса; такова истина, заложенная в эмоциональной силе Его слов. Человек работает и изнемогает в труде, ибо он – существо, знающее о своей конечности, своей скоротечности, об угрожающей его жизни опасности и трагическом характере существования. Взирая на евреев и язычников, Павел знал, что удел всех людей – страх и тревога. Августин понимал, что всю жизнь человека гонит и влечет беспокойство. Великий датский протестант Кьеркегор видел, что в душе каждого человека таится скрытый элемент отчаяния. Нет такого религиозного гения, нет такого прозорливого созерцателя бездн человеческой души, нет человека, способного вслушаться в голос собственного сердца, который не засвидетельствовал бы такое же понимание человеческой природы и человеческого существования. В каждой душе есть расколы и разрывы. Так, мы знаем, что представляем собою нечто большее, чем только прах; и при всем том мы знаем также и то, что прахом станем. Мы знаем, что принадлежим более высокому порядку бытия, чем порядок наших животных нужд и желаний; и при всем том мы знаем также, что употребим во зло этот более высокий порядок, поставив его на службу нашей более низменной природе. Мы знаем, что являемся лишь малыми частицами духовного мира; и при всем том, мы знаем и то, что будем стремиться к целому, делая самих себя центром мира.
Таков человек; и поскольку он таков, существуют религия и закон. Закон религии – великая попытка человека совладать со своей тревогой, беспокойством и отчаянием, устранить свой внутренний разрыв и достичь бессмертия, духовности и совершенства. И вот он работает, изнемогает в трудах под бременем религиозного закона, властвующего над мыслями и поступками.
Религиозный закон требует, чтобы человек признал идеи и догмы, чтобы он уверовал в доктрины и традицию, принятие которых оказывается условием его спасения от тревоги, отчаяния и смерти. И вот человек пытается принять их, хотя они могут казаться ему чуждыми или сомнительными. Он работает и тяжко трудится, исполняя религиозное требование верить тому, во что верить не может. Наконец, он пытается избавиться от закона религии. Он пытается сбросить с себя тяжкое иго вероучительного закона, наложенное на него церковными властями, правоверными учителями, благочестивыми родителями и непреложными обычаями. Он впадает в критицизм и скептицизм. Он свергает иго, но никто не может жить в пустоте одного лишь скептицизма, и вот – он возвращается под старое иго, впадая в фанатизм, причиняющий ему самому страдания, и старается навязать его другим людям, своим детям и ученикам. Им движет бессознательное стремление к мести – за бремя, которое он взвалил на себя. Многие семьи распадаются из-за мучительных трагедий, многие души надламываются из-за отношения к ним родителей, учителей и священников. Другие же люди, неспособные вынести пустоту скептицизма, находят новое иго за пределами Церкви, новые вероучительные законы, под властью которых они начинают вырабатывать политические идеологии и пропагандировать их с религиозным фанатизмом; научные теории, которые они защищают с религиозным догматизмом; и утопические чаяния, о которых они возвещают как об условии спасения мира, силком загоняя целые народы под иго их символов веры, которые суть религии, даже если при этом они и притязают на звание разрушителей религии. Все мы трудимся под игом религии; все мы время от времени пытаемся отбросить прочь старые или новые учения или догмы, но немного погодя мы возвращаемся, снова предавая самих себя и других в рабство им.
То же самое справедливо и в отношении практических приложений законов религии. Они требуют соблюдения обрядов, участия в религиозных мероприятиях, изучения религиозного предания, молитвы, таинств и медитаций. Они требуют нравственного послушания, нечеловеческого самообладания и аскетизма, превосходящей наши возможности самоотдачи человеку и вещам, превосходящей наши силы преданности идеям и долгу, безграничного самоотрицания и безграничного самосовершенствования. Религиозный закон требует совершенства во всем. И наше сознание соглашается с этим требованием. Однако раскол в нашем бытии берет начало именно здесь; в том, что совершенство, хоть и есть в нем истина, находится вне нашей досягаемости, выступает против нас, осуждая нас. Поэтому мы пытаемся отбросить прочь обрядовые и этические предписания. Мы пренебрегаем ими, мы ненавидим их; некоторые из нас проявляют циничное безразличие по отношению к религиозному и этическому закону. Но поскольку один лишь цинизм невозможен, как невозможен один лишь скептицизм, мы возвращаемся к старым или новым законам, становясь фанатичнее, чем прежде, и принимаем на себя иго закона, который еще более невозможно исполнить, который еще более жесток по отношению к другим, еще более склонен собрать других людей под то же самое иго во имя совершенства. Сам Иисус становится для этих перфекционистов, пуритан и моралистов учителем религиозного закона, налагающим на нас тяжелейшее из всех бремя Его закона. Но это – самое сильное искажение духа Иисуса. Это искажение можно обнаружить и в духе тех, кто распял Его, ибо Он разрушил религиозный закон, не убегая от него, подобно циничным саддукеям, но преодолевая его. Мы находимся в постоянной опасности, когда унижаем Иисуса, утверждая, что Он – основатель новой религии, что Он дал другой, более утонченный, более порабощающий закон. И вот мы видим во всех христианских Церквах тяжкие труды и работу людей, называющихся христианами, находящихся под властью бесчисленных законов, которые они не могут исполнить, от которых они бегут, к которым возвращаются или заменяют их другими. Это – иго, от которого хочет избавить нас Иисус. Иисус больше, чем священник, пророк или религиозный гений. Все они подчиняют нас религии. Он – освобождает нас от нее. Все они создают новые религиозные законы. Он – преодолевает религиозный закон.
«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня… ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Эти слова указывают не на количественное различие: немного легче, немного свободнее. Эти слова указывают на противоречие! Иго Иисуса – благо само по себе, потому что оно превыше закона и заменяет труды и работу покоем в наших душах. Иго религии и закона предполагает все те разрывы и расколы в наших душах, которые побуждают нас к попыткам преодолеть их. Иго Иисуса – превыше этих расколов и разрывов. Оно преодолевает их, где бы ни являлось, где бы ни было принято. Оно – не новое предписание, не новое учение или этика, оно – новая реальность, новое бытие и новая сила преобразовывать жизнь. Иисус называет это игом; Он хочет сказать, что оно является свыше и охватывает нас спасающей силой; когда Иисус называет его легким и благим, то имеет в виду тот факт, что оно от наших действий и усилий не зависит, а дается нам еще до того, как мы успеем что-либо совершить. Это – бытие, сила, реальность, побеждающие тревогу и отчаяние, страх и беспокойство нашего существования. Оно здесь, среди нас, в центре нашей личной трагедии и трагедии истории. Нежданно, вдруг является оно как победа, достигнутая не нами самими, в разгар жесточайшей борьбы, но присутствующая сверх чаяния и помимо борьбы. Неожиданно мы погружаемся в мир, что превыше разума, превыше нашего умозрительного стремления к истине, превыше нашего стремления к практическому осуществлению добра. Истинное – истина нашей жизни и нашего существования – захватывает нас. Мы знаем, что теперь, в этот самый миг, мы находимся в истине, невзирая на все наше неведение относительно самих себя и нашего мира. Ни в каком обычном смысле мы не стали мудрее или разумнее; по своему знанию мы все еще дети. Но истина жизни пребывает в нас, соединяет нас с просветляющей несомненностью с самими собою, даруя нам великое, исполненное покоя счастье. И добро, безусловное добро – не для чего-нибудь, а само по себе – объемлет нас. Мы знаем, что сейчас, в этот самый миг, пребываем в добре, невзирая на всю свою слабость и зло, невзирая на фрагментарный и искаженный характер нашего «я» и мира. Мы не стали более нравственными или более святыми; мы все еще принадлежим миру, подвластному злу и саморазрушению. Но добро жизни пребывает в нас, соединяет нас с добром всего, дарует нам благословенный опыт всеобщей любви. Если бы это произошло, произошло в полной мере – мы достигли бы своей вечности, более высокого порядка жизни и духовного мира, которому принадлежим и от которого отделены в нашем обычном существовании. Мы вышли бы за пределы самих себя. Новое бытие покорило бы нас, хотя и старое бытие не исчезло бы.
Где можем мы ощутить эту новую реальность? Мы не можем найти ее, она нас – может. Она пытается найти нас на протяжении всей нашей жизни. Она – в мире; она несет на себе мир; благодаря ей наше «я» и наш мир все еще не ввергнуты в полное самоуничтожение. Хотя реальность и скрывается за тревогой и отчаянием, конечностью и трагизмом – она повсюду, в душах и телах, потому что все получает жизнь от нее. Новое бытие означает, что старое бытие все-таки не разрушило себя полностью, что жизнь еще возможна, что наши души все еще собирают силы для движения вперед, и что доброе и истинное – не угашены. Реальность пребывает, и она найдет нас. Пусть она найдет нас! Она – сильнее мира, хотя тиха, кротка и смиренна.
Вот в чем смысл призыва Иисуса: «Прийдите ко Мне». Ведь в Нем это новое бытие присутствует таким образом, что определяет Его жизнь. То, что скрывается во всех вещах, что проявляется в нас в великие моменты душевного подъема, – есть формирующая сила этой жизни. Это – уникальность и тайна Его Бытия, воплощение, полное проявление Нового Бытия. Вот в чем причина того, что Иисус может произнести слова, которые никогда ни один пророк или святой не произносили: никто не знает Бога, кроме Меня и тех, кто получает знание от Меня. Бесспорно, слова эти не означают, что Он навязывает нам новую теологию или новый религиозный закон. Они означают, что Он – Новое Бытие, в котором могут участвовать все, ибо это универсальное и вездесущее бытие. Почему Он сказал о себе, что кроток и смирен сердцем, после слов о своей уникальности, после слов, которые в устах любого другого человека выражали бы богохульное высокомерие? Потому что Новое Бытие, формирующее Его, создано не Им – Он создан Новым Бытием. Оно нашло Иисуса, и должно найти нас. И поскольку Его Бытие не результат Его рвения и трудов, и раз оно не рабство религиозному закону, а победа над религией и законом, составляющая Его уникальность, – то Он не навязывает религию и закон, не надевает на людей иго, не взваливает на них бремя. Мы с ненавистью отвергли бы призыв Иисуса, если бы Он призывал нас к христианской религии, или христианским доктринам, или христианской морали. Мы бы не приняли Его притязания на смирение и кротость, не поверили бы Его словам о даровании покоя нашим душам, если бы Он дал нам новые предписания для мышления и деятельности. Иисус не творец новой религии, Он победитель религии; Он не новый законодатель, Он победитель закона. Мы, христианские священники и учителя, зовем вас не к христианству, а к Новому Бытию, для которого христианство должно быть не более чем свидетелем, не смешивающим себя с Ним. Позабудьте все доктрины христианства, позабудьте свои собственные убеждения и сомнения, когда слышите призыв Иисуса. Забудьте всякую христианскую мораль, свои достижения и поражения, когда идете к Нему. От вас не требуется ничего – ни идеи Бога, ни блаженства, ни религиозности, ни христианства, ни мудрости, ни морали. Единственное, что требуется от вас, – это ваша открытость и готовность принять то, что вам даруется: Новое Бытие – пребывание в любви, справедливости и истине – как оно проявляется в Том, Чье иго благо и бремя легко.
Позвольте мне закончить, как я и начал, словом, имеющим личный характер. Если вы люди религиозные и христиане, поверьте мне – было бы нестоящим делом учить христианству ради христианства. Если вы чужды религии и далеки от христианства, поверьте мне – не наша задача делать вас религиозными и превращать в христиан, интерпретируя призыв Иисуса применительно к нашему времени. Мы называем Иисуса Христом не потому, что Он принес новую религию, а потому, что Он – конец религии, потому, что Он – превыше религии и нерелигии, превыше христианства и нехристианства. Мы распространяем Его призыв потому, что он обращен к каждому человеку каждой эпохи, потому что это призыв обрести Новое Бытие, ту скрытую в нашем существовании спасительную силу, что слагает с нас бремя и труды и дарует покой нашим душам.
Не спрашивайте сейчас, что нам делать, какие действия должны вытекать из Нового Бытия, из покоя в наших душах. Не спрашивайте; ведь не спрашиваете же вы, как получаются добрые плоды от добротного дерева. Доброе дерево дает добрый плод; действие вытекает из бытия, и новое действие, лучшее, сильнейшее действие, вытекает из нового, лучшего, сильнейшего бытия. Мы и наш мир были бы лучше, истиннее и справедливее, если бы в нашем мире было больше покоя душам. Наши действия были бы более творческими, более победоносными, преодолевавшими трагизм нашего времени, если бы они брали начало на более глубоком уровне нашей жизни. Ибо наша творческая глубина есть глубина, где мы утихаем и успокаиваемся.
12. Смысл провидения
Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
Рим. 8:38–39
Эти хорошо известные слова Павла выражают христианскую веру в божественное Провидение. Они содержат первое и основополагающее истолкование приводящих в смущение слов из Евангелия от Матфея, где Иисус велит не думать о своей жизни, пище и одежде и искать прежде всего Царства Божия, ибо вся наша каждодневная жизнь и наши нужды уже ведомы Богу. Мы нуждаемся в таком истолковании, ибо немного найдется положений христианской веры, более важных для повседневной жизни каждого человека, более подверженных неверному пониманию и искажению. И такое неверное понимание с необходимостью ведет к разочарованию, не только отвращающему сердца людей от Бога, но и порождающему мятеж против Него, против христианства и против религии. Когда во время последней войны я разговаривал между боями с солдатами, то они выражали свое отрицание христианской вести в форме нападок на веру в Провидение – нападок, горечь и острота которых были вызваны глубочайшим разочарованием. Прочитав статью великого Эйнштейна, в которой он бросает вызов вере в личного Бога, я пришел к выводу, что между его чувствами и чувствами простых солдат нет разницы. Идея Бога кажется невозможной, потому что реальность нашего мира трудно совместить со всемогущей силой мудрого и праведного Бога.
Однажды, когда я старался растолковать группе христианских и еврейских беженцев парадоксальный характер божественного мироправления словами Второисайи, один весьма известный еврей из Западной Германии рассказал мне, что получил из Южной Франции множество телеграмм о страшной истории стремительной высылки из Германии около десяти тысяч евреев в возрасте девяноста и более лет и их отправки в концентрационные лагеря. Он сказал, что мысль об этом невообразимом несчастье лишает его возможности усматривать смысл даже в самой могучей и впечатляющей вести о божественном Провидении. Какой мы дадим ответ, какой мы можем дать ответ перед лицом острейшей проблемы, ставящей под вопрос все христианство, проблемы, относящейся не к теоретической критике идеи Бога, а к боли человеческого сердца, неспособного больше выносить власти демонических сил на земле?
Павел говорит об этих силах. Он знает их все: ужас смерти и тревогу жизни, неотразимую мощь природных и исторических сил, неясность настоящего и непроницаемую темноту будущего, неисчислимые повороты судьбы, истребление одних живых существ другими. Павел знает все эти силы, как знаем и мы, вновь открывшие их в нашу эпоху, после краткого времени, когда Провидение и реальность казались чем-то само собой разумеющимся. Но Провидение не было и никогда не будет чем-то само собой разумеющимся. Оно, скорее, объект наиболее сильной, наиболее парадоксальной, наиболее рискованной веры. Только будучи таким, Провидение обладает смыслом и истиной.
В чем оно заключается? Совершенно очевидно, что Провидение – это не какое-то неопределенное обещание, что с Божьей помощью все в конце концов закончится хорошо: в действительности многое кончается плохо. И это не утверждение надежды в любой ситуации: есть ситуации, где не может быть никакой надежды. Это и не предвкушение исторических эпох, когда божественное Провидение будет удостоверено счастьем и блаженством человека: ни для одного поколения Провидение не будет менее парадоксальным, чем для нашего. Вера в Провидение заключается в следующем: когда, как ныне, смерть падает с неба подобно дождю, когда жестокость овладела народами и отдельными людьми, когда голод и преследования гонят миллионы людей с места на место, когда тюрьмы и трущобы всего мира искажают облик человеческих тел и душ – в это время, и именно в это время, мы можем гордиться тем, что все эти беды не отлучили нас от любви Божией. В этом, и только в этом смысле, все вместе служит благу, безусловному благу, вечной любви и Царству Божиему. Вера в божественное Провидение есть вера в то, что никто и ничто не сможет помешать достижению последнего, безусловного смысла нашего существования. Провидение не означает, что Бог все расчислил и предопределил, как целесообразно сконструированную машину. Скорее, Провидение означает тот факт, что в каждой ситуации есть творческая и спасительная возможность, которую ничем нельзя уничтожить. Провидение означает, что демонические и разрушительные силы внутри нас и внутри нашего мира никогда не смогут раз и навсегда завладеть нами, и что узы, связывающие нас с совершенной любовью, никогда не смогут быть расторгнуты.
Эта любовь является перед нами и воплощается «во Христе Иисусе, Господе нашем». Прибавив эти слова, Павел не просто пускает в ход торжественную фразу, как это часто делаем мы, – он употребляет их после того, как указал единственное, что может разрушить нашу веру в Провидение: наше неверие в любовь Бога, наше недоверие Богу, наш страх перед Его гневом, нашу ненависть к Его Присутствию, наше представление о Нем как о тиране, осуждающем нас, и наше ощущение греха и вины. Нашу веру в Провидение разрушает не глубина нашего страдания, а глубина нашего отделения от Бога. Провидение и прощение грехов – не две отдельные стороны христианской веры, они суть одно: уверенность в том, что мы сможем достичь вечной жизни, невзирая на страдание и грех. Павел соединяет оба эти слова в речении: «Кто осуждает? Христос Иисус… Он и ходатайствует за нас, – а потому, продолжает Павел, – Кто отлучит нас от любви Христа? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность или меч?.. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас». Такова вера в Провидение – и только такова.
13. Знание через любовь
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.
1 Кор. 13:8-12
В приведенных здесь знаменитых словах Павел говорит о вещах, данных нам отчасти, или, как мы бы сказали сегодня, – фрагментарно; и о вещах совершенных, или законченных. Фрагментарное непременно упразднится; законченное пребудет постоянным. Первое – временное; последнее – вечное. Фрагментарным, временным бывает не только одно лишь материальное; это и высочайшие дары Духа Божиего: пророчество – объяснение смысла нашей эпохи и истории; языки – наши экстатические чувствования и речи; и знание – понимание нашего существования. Даже и эти духовные блага должны исчезнуть вместе со всеми материальными и интеллектуальными благами. Все они – фрагментарны, временны, преходящи. Одна лишь любовь не исчезнет; она длится вечно. Ибо Сам Бог есть любовь, согласно Иоанну, доводящему до конца мысль Павла.
Однако в нашем тексте содержится и другое рассуждение, которое по-видимому противоречит этим словам о любви. Павел особо выделяет знание и указывает на различие между нашим отрывочным, косвенным и замутненным знанием и полным, прямым и тотальным знанием, которое должно прийти. Он сравнивает младенческие фантазии со зрелыми постижениями взрослого. Он говорит о том, что совершенно и вечно помимо любви: о видении истины лицом к лицу; о знании столь же полном, сколь полно знание Бога о нас.
Как совмещаются две эти мысли? Разве забыл Павел о том, что только что предрек совершенство и вечность одной лишь любви? Нет, не забыл, ибо заключает эту часть своего послания тем, что вновь подчеркивает непреходящий характер любви, которая превыше всего. Или же слова о знании вставлены сюда без всякой заботы о ясной связи их со всем отрывком? Нет, это не простая вставка, потому что имеется связующее звено между ними, – одна из фраз в этой главе, полная глубокого смысла: «…подобно как я полностью познан». Полностью познан: значит познан Богом. Но существует только один способ познания личности: единение с этой личностью посредством любви. Полное познание предполагает полную любовь. Бог знает меня, потому что любит меня, и я познаю Бога лицом к лицу благодаря подобному единению, которое есть любовь и знание в одно и то же время. Любовь длится, одна лишь любовь выдерживает испытание временем; и кроме любви, вне зависимости от любви – не выдерживает ничто. Более того, видение лицом к лицу и знание средоточия другого «я» подразумеваются любовью. Это не слепая любовь; это продолжающаяся любовь, которая есть Сам Бог. Это зрячая любовь, знающая любовь, любовь, проницающая глубину Сердца Бога и глубину наших сердец. Для любви нет отчуждения; любовь знает; любовь – единственная сила полного и продолжающегося знания. Есть греческое слово, которое обозначает как знание, так и чувственную любовь. Оно может обозначать и то и другое потому, что оба его значения выражают акт единения, преодоления раскола между человеческими существами. Знание следует упразднить постольку, поскольку оно отличается от любви; знание должно стать вечным постольку, поскольку оно едино с любовью. Поэтому мерило знания есть мерило любви. Для Павла различие между знанием и любовью, созерцанием и действием, теорией и практикой существует только тогда, когда речь идет о фрагментарном знании. Полное знание не допускает различия между собой и любовью или между теорией и практикой. Любовь преодолевает кажущуюся враждебность между теорией и практикой; она знает и действует одновременно. Поэтому любовь – превыше всего; поэтому Сам Бог есть любовь; поэтому Христос, как проявление Божественной Любви, полон милосердия и истины. Вот что имеет в виду Павел, вот какое он дает мерило знания.
А теперь посмотрим на наше существование, на знание, которым мы обладаем. Павел говорит, что все наше нынешнее знание подобно восприятию вещей в зеркале и потому имеет дело с тайнами и загадками. У Павла это просто другой способ выражения фрагментарного характера нашего знания, ибо фрагменты вне контекста целого – только загадки для нас. Мы можем гадать о природе целого, окольным путем приближаться к нему, но само целое мы не видим, не постигаем его во встрече лицом к лицу. Света мало, темноты много; мы располагаем несколькими фрагментами, но целым – никогда; у нас множество проблем, решения же их – нет; нам даны только отражения в зеркалах наших душ вне источника самой истины: такова ситуация нашего знания. И такова ситуация нашей любви. Поскольку у нас нет совершенной и длящейся любви, нам отказано в совершенном знании. Поскольку мы, как земные существа, отделены друг от друга, а значит, отделены и от этого безусловного единства, делается невозможной общность знания между отдельными существами, как невозможна она также между ними и Основанием Самого Бытия. Один великий философ сказал, что наше знание простирается настолько далеко, насколько хватает нашей творческой воли. Для определенной сферы жизни это верно, но неверно для нашей жизни в целом. Справедливым же для всего человеческого существования остается тот факт, что наше знание простирается настолько далеко, насколько хватает нашей соединяющей любви.
Человечество всегда старалось расшифровать загадочные фрагменты жизни. Это было делом не одних только философов, священников, пророков или мудрецов во все периоды истории – это касается каждого. Ибо каждый человек – это фрагмент самого себя. Он – загадка для самого себя, и индивидуальная жизнь любого другого человека – тайна для него, темная, возбуждающая, приводящая в тупик и замешательство. Само наше бытие – непрерывное вопрошание о смысле нашего бытия, постоянные попытки расшифровать тайну нашего мира и нашего сердца. Пока дети не приспособятся к условным и шаблонным реакциям взрослых, пока не вырастут из своей творческой индивидуальности – они непрерывно спрашивают, упорно стремятся расшифровать загадки, которые видят в наивном зеркале своего опыта. Творческий человек во всех сферах жизни подобен ребенку, который осмеливается искать разгадку за пределами условных и шаблонных ответов. Он обнаруживает фрагментарный характер всех этих ответов, смутно и неосознанно ощущаемый всеми людьми. Одним вопросом, затрагивающим самые основы существования, он может разрушить хорошо налаженную систему жизни и общества, этики и религии. Он может показать, что принимаемое людьми за целое – это всего лишь фрагмент фрагмента. Он может потрясти уверенность, в которой жили веками, раскопав тайну или загадку в самом ее основании. Жалкое и бедственное состояние человека коренится во фрагментарном характере его жизни и знания; величие человека – в его способности знать о том, что его бытие фрагментарно и таинственно. Ибо человек способен недоумевать и вопрошать, выходить за пределы фрагментарности в поисках совершенства. И тем не менее, будучи способным на это, человек ощущает трагизм таинственности и фрагментарности своей жизни. Человек вместе со всеми земными существами покорен закону суеты, но сознает это один лишь он. Поэтому он бесконечно более несчастен и жалок, чем все остальные существа, находящиеся в рабстве у этого закона; с другой же стороны, он бесконечно превосходит их, потому что один знает о том, что есть нечто за пределами суеты и упадка, загадки и тайны. Это чувствует Павел, когда говорит, что творение само должно быть избавлено от рабства тлению и обрести свободу славы сыновей Божиих.
Человек – фрагментарен и загадочен для самого себя. Чем больше он постигает и сознает этот факт, тем больше он человек в подлинном смысле слова. Павел пережил распад системы жизни и мысли. Он верил, что они составляют одно целое, совершенную истину без загадок и разрывов. И вот он увидел, что погребен под обломками своего знания и морали. Но Павел никогда не пытался выстроить новое и удобное здание из этих обломков. Он жил с ними. Он всегда сознавал, что фрагменты остаются фрагментами, даже если в них пытаются внести новый порядок. Единство, которому они принадлежат, находится за их пределами: на обладание им можно надеяться, но его нельзя увидеть лицом к лицу.
Как мог Павел продолжать жизнь, разбитую на фрагменты? Он продолжал ее потому, что фрагменты несли для него новый смысл. Зеркальные образы указывали на нечто новое для него; они предвосхищали совершенное, предвосхищали реальность любви. В обломках его знания и морали ему являлась любовь. И сила любви преобразила мучительные загадки в символы истины, трагические фрагменты – в символы целого.
14. Делание истины
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Но всякий, делающий истину, идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.
Ин. 3:17–21
«Делающий истину» – удивительнейшее сочетание слов! Можно распознавать и знать истину, порой можно действовать согласно этому знанию, но как можно делать истину? Истина дается нам в правильной теории. Мы можем следовать этой теории в своей практике, а можем и не следовать. Теория и практика представляются двумя разными вещами, и трудно счесть их чем-то единым. Подобным же образом, трудно понять выражение «делающий истину». Быть может, эту фразу не нужно воспринимать слишком серьезно? Быть может, её следует понять попросту как «действие в согласии с истиной». Но если такое истолкование правильно, то что же делать с другими утверждениями, которые тоже можно найти в Четвертом Евангелии: «Я есть истина», «истина настала», со словами о людях, «которые от истины»? Ни одно из них не имело бы смысла, будь истина всего лишь теоретическим предметом.
Порою говорят: «В теории это верно, но на практике ничего не выходит». Следовало бы говорить: «Это ошибочно в теории, потому неверно и на практике». Нет верной теории, которая бы оказалась неверной на практике. Это противопоставление теории и практики выдумали люди, желающие избавиться от тяжкого труда всестороннего и основательного мышления. Они предпочитают держаться на мелководье привычной практики, на поверхности так называемого «опыта». Они не примут ничего, кроме повторного подтверждения чего-либо из того, что они и так уже знали и чему верили. Только такое вопрошание об истине, которое бросало вызов векам практики, приводило к ее фундаментальным изменениям. Об этом говорит история науки, этики и религии. Когда пророк Амос подверг сомнению теорию всех языческих религий, по которой выходило, что бытие и могущество Бога каким-то образом отождествляются с бытием и могуществом отдельной страны, – тогда были подорваны основания языческой практики во всем мире. Когда пророк эпохи изгнания Израиля поставил под вопрос теорию, согласно которой страдание народа есть наказание за его собственные грехи, и разработал теорию, согласно которой страдание раба Божиего служит на благо всем народам, история человечества приобрела новый характер. Когда апостолы усомнились в теории, в соответствии с которой Мессия – это земной властитель, и истолковали Крест Христа как решающее событие в истории спасения, вся система древних ценностей была поколеблена. Когда Августин поставил под вопрос теорию, по которой получалось, что Бог и человек сообща трудятся для спасения; когда Лютер нападал на теорию, утверждавшую, что нет спасения без церковного посредничества в таинствах; и когда современная историческая наука разрушила механистические и суеверные учения о богодухновенности священных текстов – практика значительной части человечества изменилась. Особый акцент на истине в Четвертом Евангелии предостерегает нас от ошибочного противопоставления теории и практики. И тем, кто по-настоящему озабочен истиной христианства, это должно придать крайне необходимый импульс для более глубокого и всестороннего мышления.
По-гречески слово «истина» означает обнаружение скрытого. Истина скрыта и должна быть обнаружена. Никто не обладает ею от природы. Она обитает в глубине, под поверхностью. Поверхность нашего существования меняется, находясь в постоянном движении подобно океанским волнам, и потому иллюзорна. Глубина же – вечна и потому надежна и верна. Употребляя греческое слово для обозначения истины, Четвертое Евангелие принимает греческое представление об истине и одновременно преобразует его. «Делать истину», «бытие истины», «истина настала», «Я есмь истина» – все эти словосочетания показывают, что истина для христианства есть нечто, что происходит, что связано с определенным пространством и временем, с определенной личностью. Истина есть нечто новое, что Бог делает в истории, и вследствие этого – в индивидуальной жизни. Для христианства, как и для греческой мысли, истина скрыта, истина – тайна. Но тайна истины для христианства – это уже состоявшееся событие, событие, которое происходит вновь и вновь. Это – жизнь, жизнь личности, откровение и решение. Истина – поток жизни, она сосредоточена во Христе, осуществляется в каждом человеке, соединенном с Ним, учреждается в собрании Бога – Церкви. Для греческого мышления истину можно только найти. В христианстве истина найдена, если она делается, и делается, если найдена. Для греческой мысли истина есть проявление вечной, недвижной сущности вещей. Для христианства истина – новое творение, осуществляющееся в истории. Поэтому в христианстве противоположность истине – ложь, а не ошибочное мнение, как это было у греков. Решение «за» или «против» истины – вопрос жизни и смерти, оно тождественно решению принять или отвергнуть Христа. У вас не может быть мнения о Христе после того, как вы встретитесь с Ним. Вы можете только делать истину, следуя Ему, или лгать, отвергая Его. Поэтому невозможно сделать из Него учителя истины среди других учителей, или даже учителя, который выше всех остальных. Это отделило бы истину от Него, решение об истине от решения о Нем (подобно тому как решение об учении Платона не то же самое, что решение о Платоне). Но как раз это разделение и отвергается Четвертым Евангелием, когда оно называет Христа истиной, «которая настала», и когда оно называет Его последователей теми, кто от истины и кто поэтому способен делать истину.
Христианская теология коренится в понятии истины, которое не допускает раскола между теорией и практикой, ибо эта истина – спасающая истина. Теологии следует уподобиться кругу, где находящиеся на самой периферии элементы исторической, образовательной и философской теорий направлены к центру, к истине, которая есть Христос. Ни одно утверждение не является теологическим, если прямо или косвенно не содержит в себе спасающей истины. А «спасающая истина» означает ту истину, которую делают; спасающая истина в «том, кто делает истину».
15. Теолог{ Эту проповедь, как и две последующие, я читал, памятуя в особенности об изучающих теологию.} (часть 1)
Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам – так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу: одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно.
1 Кор. 12:1-11
Большинство из нас составляют те, кто изучает теологию, – учим ли мы, или учимся, миссионеры мы или педагоги, священники или общественные деятели, администраторы или политические руководители. Но в этом особом сообществе мы – теологи, люди, задающие вопрос о том, в чем мы предельно заинтересованы: о Боге и Его проявлениях. Кем бы мы ни были – прежде всего мы теологи. Поэтому самое естественное для нас, хотя и не самое привычное – рассмотреть наше существование как теологов. На чем оно основано? Что делает человека теологом? Каково его отношение к иным формам существования? В чем смысл нашего существования в целом? Павел очень ясно указывает на то, что, по его мнению, является основанием всей теологии: Божественный Дух. И теология – слово мудрости и знания – согласно свидетельству всей христианской Церкви, в основе своей является даром Духа. Это один из даров, наряду с другими, это особый дар, помимо других особых даров. Но это дар Духа, а не природная способность. Слово знания – теология – говорится нам до того, как мы сможем сказать его другим или даже самим себе. Быть теологом означает, прежде всего, быть в состоянии получать духовное знание. Но можем ли мы называть себя теологами на основании этого критерия? Можем ли мы говорить, что наше теологическое мышление есть дар Духа? Убеждены ли мы в том, что наше теологическое существование превосходит пределы нашей человеческой способности, или в том, что обладаем словом знания, словом духовной мудрости?
Павел дает очень конкретный критерий теологического существования, являющийся также критерием для всякого духовного существования. Он говорит: всякий, кто восклицает: «Анафема Иисусу», говорит не в Духе Божием; и никто не может сказать: «Иисус есть Господь», кроме как в Святом Духе. Тот, кто принимает Иисуса как Христа, доказывает тем самым, что получил Дух Божий, ибо один только человеческий дух не в состоянии сказать: «Я принимаю Иисуса как Христа». Утверждение, что Иисус есть Христос, – тайна и основание христианской Церкви, парадокс и камень преткновения, оно навлекает на христианство поношения и проклятия. Это утверждение глубины и силы, творящей новое Бытие в мире, истории и человеке. Поэтому тот, кто присоединяется к церковному исповеданию Иисуса Христом, участвует в Божественном Духе. Именно он может получить Дух мудрости и знания; именно он может стать теологом.
Теология не существует вне сообщества тех, кто утверждает, что Иисус есть Христос, вне Церкви, собрания Бога. Теология – дело Церкви как раз потому, что она – дар Божественного Духа. Теологическое существование – составная часть существования Церкви. Теология не просто предмет «свободного» мышления, научного поиска или общего философского анализа. Теология выражает веру Церкви. Она вновь повторяет парадоксальное утверждение: «Иисус есть Христос» и рассматривает все его предпосылки и вытекающие из него выводы. В теологическом существовании выражается существование человека внутри Церкви, охваченного Божественным Духом, получившего слово мудрости и знания.
Но нужно задать и другой вопрос. Если таково теологическое существование, кто из нас может назвать себя теологом? Кто может решиться стать теологом? И кто может отважиться оставаться теологом? Действительно ли мы принадлежим собранию Бога? Можем ли мы всерьез принять парадокс, на котором зиждется Церковь, парадокс, говорящий, что Иисус есть Христос? Охвачены ли мы Божественным Духом, получили ли мы слово знания как дар? Если бы кто-нибудь пришел и сказал нам, что действительно принадлежит Церкви, что больше не сомневается в том, что Иисус есть Христос, что непрерывно испытывает в себе действие Божественного Духа и ощущает дар духовного знания, – каким должен быть наш ответ ему? Несомненно, нам следовало бы сказать ему, что он не выполнил даже первое условие теологического существования: не осознал того факта, что человек не знает, испытал ли он действие Божественного Духа или духов, которые не от Бога. Мы не приняли бы его как теолога. С другой стороны, если бы кто-нибудь пришел и сказал нам, что чужд христианской Церкви и ее оснований, что не ощущает присутствия силы Духа, что у него нет духовного знания, но что он вновь и вновь ставит теологический вопрос о том, в чем он предельно заинтересован и что проявляет себя в Иисусе как Христе, – мы приняли бы такого человека как теолога. Может быть, мы подвергли бы испытанию серьезность его сомнения, чтобы посмотреть, не выражает ли его опустошенность и отчаяние новую и более рафинированную суетность. Но если бы мы уверились в его серьезности, мы сочли бы его теологом.
Многие из нас внутренне убеждены в том, что никогда не смогут стать хорошими теологами, что могли бы добиться больших успехов едва ли не в любой другой сфере деятельности. И тем не менее они не могут представить себе, чтобы их существование могло бы быть чем-либо иным, кроме как теологическим. Даже если они оставят теологию как свое профессиональное занятие, они никогда не перестанут ставить теологический вопрос. Этот вопрос преследовал бы их повсюду, чем бы они ни занимались. Они были бы прикованы к нему если не профессиональным интересом, то внутренним интересом самой жизни. У них не было бы уверенности в том, что они могли бы исполнять требования, предполагаемые этим вопросом, но в том, что он ими владеет, – такая уверенность у них была бы. Те, кто верят в это в своем сердце, принадлежат собранию Бога. Они охвачены Божественным Духом. Они получили дар знания. Они – теологи.
Теолог (часть 2)
Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобресть чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтоб быть соучастником его.
1 Кор. 9:19–23
В первой проповеди мы видели, что основание нашего теологического существования состоит в том, что Божественный Дух поддерживает нас силой и делает для нас невозможным отказаться от теологического вопроса, вопроса о том, в чем мы предельно заинтересованы, вопроса о Боге. Мы говорили о теологе как верующем, невзирая на его сомнение и отчаяние, принадлежащем к Церкви, в силе которой совершается вся теологическая работа, невзирая на нехватку уверенности.
Теперь же несколько слов Павла о его пастырском служении должны привести нас к пониманию другой стороны теологического существования. Апостол, безусловно, больше, чем теолог, а священник исполняет больше обязанностей, нежели теолог как ученый. Однако апостол также и теолог, а священник не может исполнять свою работу без теологии. Поэтому слова Павла о его пастырском служении в целом истинны также и для теологической стороны его служения: «Для всех я сделался всем». Теологическое существование требует такого же отношения. Теолог в своей теологии должен стать всем для всех. Нам нужно разобрать значение этих слов.
«Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных, хотя сам я не под законом». Заменим слово «закон» словом «идеализм» – не только потому, что идеалисты обычно являются приверженцами буквы закона, но также и потому, что идеализм – благородная позиция, возвышающая нас над более низкими пластами нашего существования и порождающая веру и преданность, точно так же, как и закон. «Для идеалистов я стал как один из них, чтобы приобресть идеалистов, хотя сам я не идеалист». Как такое возможно? Как теолог, не будучи идеалистом, может стать идеалистом для идеалистов? Он может стать идеалистом точно таким же образом, как апостол Христа может стать евреем для евреев. Павел говорит, что закон благо и что он не отменяется, но исполняется во Христе. Подобным же образом и теолог, не будучи идеалистом (он никогда бы и не смог им быть) – не разрушает идеализм. Он пускает его в дело и утверждает, что идеализм содержит некоторую истину, создающую беспрерывное искушение для теолога самому стать идеалистом и отвергнуть Крест – осуждение идеализма. Теолог использует идеализм, его идеи и методы. Он становится платоником для платоников, стоиком для стоиков, гегельянцем для гегельянцев, прогрессистом для прогрессистов. Но он не может смешивать любую из этих форм идеализма с христианской вестью. Он более привержен к одним, чем к другим, но никогда не навязывает свои предпочтения остальным во имя христианства. Он знает о том отчаянии, которое идеализм, как и закон, способен вызывать в нас. И он знает, что во Христе присутствует новое Бытие, в котором воплощаются и становятся зримыми все идеалы – уже не как идеалы, а как реальность.
«Для чуждых закона я стал как чуждый закона – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобресть чуждых закона». Заменим выражение «чуждые закона» на «реализм» – не потому, что у реалистов нет закона (ибо нет ни реалистов, ни язычников без какого-нибудь закона), но потому, что у них нет абстрактных принципов, навязываемых реальности. Величие реалистов – в их смиренном принятии вещей в том виде, в котором они существуют. «Благочестие реализма есть смирение». «Для реалистов я стал как один из них, чтобы приобресть их, хотя сам не реалист». Теолог, не будучи реалистом (он никогда бы и не смог стать реалистом), не разрушает реализма. Он признает истину реализма и его постоянно искушает желание самому стать реалистом и таким образом отвергнуть вечную жизнь – осуждение реализма. Теолог использует реализм и становится позитивистом для позитивистов, прагматиком для прагматиков и видящим в жизни трагическое для видящих в жизни трагическое. Однако он не говорит, что реализм – это христианская весть. Он не борется за него во имя христианства. Он знает безнадежность одного лишь реализма и знает, что существует новое Бытие, преодолевающее саморазрушение реальности.
«Для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных». Это наиболее глубокое из трех заявлений Павла о самом себе и наиболее важное для нашего существования как теологов. Мы должны стать как будто немощными, хотя, охваченные Божественным Духом, основанием всякой теологии, мы не немощны. Как можем мы стать немощными, уже не будучи немощными? Мы можем стать немощными, имея силы признать свою немощность, удерживая себя от всякого фанатизма и теологической самонадеянности и принимая участие – не со стороны, но внутренне – в немощности всех тех, к кому мы обращаемся как теологи. Наша сила – наша немощность; наша сила – не наша сила. Мы сильны, следовательно, только постольку, поскольку указываем – ради самих себя и ради других – на ту истину, которая владеет нами, но которой мы не владеем.
Нет ничего пагубнее, как для самого теолога, так и для тех, кого он хочет убедить, чем теология самоуверенности. Настоящий теолог – тот, кто в силах понимать свою немощность и признаваться в ней, и, следовательно, тот, кто имеет силы стать немощным для немощных, с тем чтобы победа была за ним.
Теолог (часть 3)
И Павел, став среди ареопага, сказал: Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны; ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «Неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам: Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и не далеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «Мы Его и род». Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться; ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Услышавши о воскресении из мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время.
Деян. 17: 22–32
В первый раз, когда я говорил о нашем существовании как теологов, я указывал на тот факт, что основания этого существования покоятся в силе Божественного Духа и реальности Церкви. Я пытался обрисовать именно верующего теолога – верующего невзирая на все свои сомнения и свое отчаяние. Во второй раз, когда мы обсуждали наше существование как теологов, мы говорили о самоотверженном теологе, который благодаря силе любви становится «всем для всех», того теолога, который, по-видимости, утрачивает себя через понимание всего и вся. На сей раз давайте поговорим об отвечающем теологе, который, несмотря на свое участие в немощности и заблуждениях всех людей, способен ответить на их вопросы благодаря силе своего основания – благодаря Новому Бытию во Христе.
Знаменитая сцена в Ареопаге, центре греческой мудрости, где Павел держит речь перед афинянами, дает нам прототип отвечающего теолога. Павлу задали вопрос о его вести, отчасти потому, что афиняне всегда были любопытны в отношении нового, отчасти же потому, что они знали о своем незнании истины и всерьез стремились ее познать. Ответ Павла состоит из трех частей, раскрывающих три задачи отвечающего теолога. Первая часть заключается в утверждении, которое гласит, что задавшие ему вопрос о первых и последних вещах отчасти уже знают ответ на него: эти люди поклоняются неведомому Богу и таким образом свидетельствуют о своем религиозном знании, невзирая на свое религиозное неведение. Это знание не удивительно, потому что Бог близок каждому из нас; именно в Нём мы живем, движемся и существуем; иначе говоря, мы Его род. Следовательно, первый ответ, который мы должны дать всем задающим нам такие вопросы, будет состоять в том, что сами они уже догадываются об ответе. Мы должны показать им, что ни они, ни мы не существуем вне Бога, что даже атеисты пребывают в Боге – показать именно ту силу, благодаря которой они живут, истину, которую они ищут и безусловный смысл жизни, в который они верят. Это вообще плохая теология и религиозное малодушие – думать, что имеется некое место, где можно глядеть на Бога, словно Он нечто внешнее по отношению к нам, с тем чтобы можно было доказывать или опровергать Его бытие. Для человека подлинный атеизм невозможен, ибо Бог ближе к человеку, чем этот человек к себе. Какого-то Бога можно отрицать только во имя другого, и Бога, выступающего в одной форме, можно отрицать только посредством Бога, выступающего в другой форме. Таков первый ответ, который мы должны дать самим себе и тем, кто задает нам вопросы, дать не в качестве отвлеченного утверждения, но как непрекращающееся истолкование нашего человеческого существования во всех его движениях, безднах и достоверности.
Бог ближе к нам, чем мы сами к самим себе. Нам не отыскать места вне Бога, но мы можем пытаться отыскать такое место. Вторая часть ответа Павла в Ареопаге состоит в том, что мы можем пребывать в состоянии постоянного бегства от Бога. Мы можем один за другим измышлять способы бегства от Бога; мы можем заменять Бога порождениями своего воображения, – что мы и делаем. Хотя человечество и не чуждо Богу, оно отчуждено от Него. Хотя человечество никогда не бывало без Бога, оно извращает Его образ. Хотя человечество никогда не существовало без знания о Боге, оно не ведает Бога. Человечество отделено от своего истока, оно живет под законом гнева и разбитых надежд, трагедии и саморазрушения, ибо один за другим создает искаженные образы Бога и поклоняется им. Отвечающий теолог должен обнаруживать этих лжебогов в индивидуальной душе и в обществе. Он должен проникать в их самые потаенные укрытия. Он должен бросать им вызов с помощью силы Божественного Логоса, который и делает его теологом. Теологическая полемика – не просто теоретическая дискуссия, но духовное осуждение богов, каждый из которых не есть Бог; это духовное осуждение структур зла: искажений Бога в мысли и действии. На этом уровне недопустимы ни компромисс, ни приспособление к обстоятельствам, ни теологическая капитуляция, ибо первая заповедь есть та скала, на которой стоит теология. Невозможен синтез Бога и идолов. Невзирая на опасности, присущие такому духовному осуждению, теолог должен стать орудием Божественного Суда над искаженным миром.
Слушатели Павла склонны принять этот двоякий ответ настолько, насколько они могут постичь его в свете своих собственных вопросов. Но затем Павел касается третьей стороны дела, говорит о том, чего афиняне не в состоянии перенести. Они либо немедленно отвергают сказанное Павлом, либо медлят с решением: отвергнуть или принять. Павел говорит о Муже, которому Бог предопределил быть Судом и Жизнью этого мира. Такова третья и заключительная часть теологического ответа. Ибо мы являемся подлинными теологами тогда, когда утверждаем, что Иисус есть Христос, и именно в Нем явлен Логос теологии.
Но теологи мы только тогда, когда объясняем этот парадокс, этот камень преткновения для идеализма и реализма, для слабых и сильных, для язычников и евреев. Как теологи мы должны объяснять этот парадокс, а не забрасывать парадоксальными фразами человеческие умы. Мы не должны сохранять или искусственно создавать камни преткновения – рассказы о чудесах, легенды, мифы – и порождать болтовню, полную ухищрений и парадоксов. Мы не должны искажать церковным и теологическим высокомерием тот великий космический парадокс, согласно которому внутри самого мира смерти свершилась победа над смертью. Мы не должны налагать тяжкое бремя ложных камней преткновения на тех, кто задает нам вопросы. Но не должны мы и лишать истинный парадокс его силы, ибо подлинное теологическое существование есть свидетельствование о Том, чье иго благо и бремя легко, о Том, кто есть истинный парадокс.
16. Свидетельство от духа к духу
Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии; потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии… Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией.
Рим. 8:1-16; 26–27
Для нас, нынешних, все это звучит странно, понимается с трудом, кажется почти непостижимым. Такие слова, как «дух» и «плоть», «грех» и «закон», «жизнь» и «смерть» в их различных сочетаниях представляются нам скорее философскими абстракциями, нежели конкретным отображением христианского опыта. Для Павла, однако, они выражают наиреальнейший и наиконкретнейший опыт его жизни. Только что прозвучавшая восьмая глава из Послания Павла христианам Рима подобна гимну, прославляющему в восторженных словах явившуюся ему новую реальность, открывшуюся в истории и преобразившую все его существование. Павел называет это новое бытие Христом, поскольку впервые видимым образом оно проявилось в Иисусе Христе. И он называет его «Духом», поскольку это реальность, присутствующая в духе каждого христианина, и в духе, что учреждает собрание христиан всегда и везде. Оба имени обозначают одну и ту же реальность. Христос есть Дух, а Дух есть Дух Христа. Христианин – это тот, кто участвует в этой новой реальности, т. е. тот, кто имеет Дух. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Быть христианином – значит иметь Дух, и любое описание христианства должно быть описанием проявлений Духа. Последуем же описанию Духа, которое дал нам Павел, и сравним его с нашим собственным опытом. Действуя таким образом, мы сможем обнаружить, сколь далеко отстоим мы от опыта Павла, и, одновременно, насколько его и наш опыт похожи. Эти странные слова Павла могут открыть нам о нашей жизни больше, нежели любые слова и мысли наших современников, которые они могут написать и помыслить о природе человека, его жизни и его предназначении.
«Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии». В этих словах заключается тот смысл, что наш дух не способен дать нам подобное заверение. Наш дух, т. е. наша природная душа и рассудок, наше мышление, наша воля, наши эмоции, целостность нашей внутренней жизни, не может дать нам уверенности в том, что мы – дети Бога. Это не значит, что Павел умаляет значимость человеческой природы и духа. Напротив, он признает творческую сущность человека, его подобие Богу, который есть Дух, его способность освободиться самому и избавить от суеты и обреченности на разложение всю природу своим собственным избавлением. «Ибо и мы тоже – Его отпрыски», – говорил Павел афинянам в Ареопаге, произнося свою знаменитую речь и подтверждая таким образом мнения самих греческих философов. Думая о человеке, Павел ставил его так же высоко, как и любой из мыслителей Нового времени. Один знаменитый философ эпохи Возрождения проникновенными словами описывает положение человека в центре природы, его бесконечность и творческую сущность, единение и завершение в нем всех природных сил. С этим Павел согласился бы. Но он знал кое-что и сверх того, что знали греческие философы, нечто, позабытое философами Возрождения, – он знал, что человеческий дух привязан к человеческой плоти, и что человеческая плоть враждебна Богу.
«Человеческая плоть» не значит человеческое тело. Тело человека, согласно Павлу, может стать храмом Духа. «Человеческая плоть» означает природные человеческие наклонности, желания человека, его нужды, его образ мышления, направленность его воли, характер его чувств – постольку, поскольку эта плоть отделена от Духа и враждебна Ему. «Плоть» – искажение человеческой природы, унижение ее творческой сущности. Прежде всего, это унижение ее бесконечности служением безграничному желанию плоти и ее безграничной воле к власти. Это желание, о котором мы кое-что узнали из современной психологии, и эта воля к власти, о которой нечто рассказала нам нынешняя социология, коренятся в нашем индивидуальном существовании в пространстве и времени, в теле и плоти. Вот что Павел называет властью извращенной плоти.
Глубина мысли Павла не знает себе равных, когда он говорит о желании плоти. «Чувственные помышления (помышления плоти) суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут!» Если бы мы получили закон, который должны были бы признать, но не могли бы исполнять, – наша душа неизбежно прониклась бы ненавистью к тому, кто дал нам этот закон. Отец, представляя закон, стоящий на пути исполнения желаний ребенка, с необходимостью становится объектом его бессознательной ненависти, способной превратиться в ненависть сознательную и проявиться с ужасающей силой. Этого не случилось бы, если бы закон, направленный против беспорядочных и необузданных желаний ребенка, казался ему деспотичным и несправедливым. Но справедливость закона ребенок чувствует. Закон стал частью «супер-эго» ребенка, как сказала бы нынешняя психология; или, на языке традиционной этики, – закон стал требованием его сознания. Из-за того, что данный отцом закон хороший и правильный (чего ребенок не может не признавать), и так как закона избежать нельзя, – ребенок должен возненавидеть своего отца, ибо он представляется ребенку причиной мучительного раскола в его душе. Такова ситуация человека перед Богом. Природный человек ненавидит Бога и считает Его врагом, ибо Бог выражает для человека закон, требования которого он не может выполнить, против которого борется и который в то же время он должен признать благим и истинным. В этом пункте между теистом и атеистом различия нет. Атеизм – только одна из форм вражды против Бога, того Бога, который представляет собою закон, а вместе с законом – раскол, отчаяние и бессмысленность нашего существования. Атеист, так же, как и теист, не переносит, когда ему показывают, каким он должен быть, показывают предельный смысл и абсолютное благо. Отрицать все это он не может, но и достичь – тоже не может. Атеист дает другие имена Богу, которого ненавидит, но убежать от Него он не может, как не может и перестать ненавидеть Его. По этой причине Павел не говорит: «Наш собственный дух свидетельствует нам о том, что мы – дети Божии». Собственный наш дух свидетельствует нам только о том, что мы – враги Бога!
Следовало бы помнить об этом всякий раз, когда христианство говорит о Боге и нашей любви к Нему в нашей обыденной жизни. Величие Бога ставится под сомнение, когда мы делаем Его любящим Отцом прежде чем признаём Его как осуждающий закон, как Того, кого мы ненавидим в глубине сердца.
«Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии». Наступило что-то новое, пришла некая новая реальность, новое бытие, Дух, от нашего духа отличный и все-таки способный сделаться понятным ему; случилось что-то вне нас, и все-таки внутри нас. Вся христианская весть содержится в этих словах. Христианство преодолевает закон и отчаяние уверенностью в том, что мы – дети Бога. Выше этого ничего нет. Ибо пусть мы и во плоти, и под законом, и существование наше расколото – мы в то же самое время пребываем в Духе и в единстве с предельным смыслом нашей жизни. Для Павла этот парадокс есть удивительное и с человеческой точки зрения невероятное содержание христианства. Уверенность в том, что мы – дети Бога, побудила Павла проповедовать свою весть всему миру, придала ему силы порвать со своей социальной группой и своим народом, взять на себя невыносимо тяжкий груз страдания и борьбы, а в конечном счете и мученическую смерть. Христос победил закон – систему предписаний, которая делает нас рабами, поскольку мы не можем от нее уйти; которая ввергает нас в отчаяние, ибо делает нас врагами нашего предназначения и безусловного блага. Для Павла иметь уверенность в том, что мы – дети Бога, значит «иметь Дух». Из этой уверенности проистекает все то, что является христианским существованием. Прежде всего, это дает нам право воскликнуть: «Авва, Отче!», то есть право молиться Господней молитвой. Только тот, кто имеет Дух, имеет право говорить Богу «Отче».
Всякий может произносить Господню молитву, и каждый день она возглашается миллионы и миллионы раз. Но сколь многие из тех, кто произносит ее, получили право так молиться? Отцовство Бога, будучи величайшей и самой невероятной идеей христианства, стало одной из самых обыкновенных и обиходных фраз. Христианство позабыло о том, что в каждом обращении к Богу как к Отцу должна быть преодолена враждебность против Него, должна быть дарована Духом восторженная уверенность в том, что мы – дети Бога. Многие из тех, кто находится вне христианства, об этом знают больше, чем сами христиане. Они знают, какой парадокс, какая невозможность заложены в обращении к Богу «Отче». Но там, где человеку случается обрести свободу, «дух рабства» у страха побеждается «духом усыновления». Когда у ребенка выдается момент, который можно было бы назвать моментом милосердия, он вдруг начинает делать добро свободно, без приказа, и делает добра больше, нежели тогда, когда ему приказывают; его лицо светится счастьем. Он успокоился, потерял враждебность и полон любви. Рабство и страх исчезли, послушание перестало быть послушанием и превратилось в свободную наклонность, эго и супер-эго объединились. Это – освобождение детей Бога, освобождение от закона, а поскольку от закона, то и от осуждения и отчаяния.
Имеюшие Дух живут не по плоти, но по Духу. Власть бесконечного желания и неограниченной воли к власти сломлены. Они не угашены; голод и жажда жизни остаются. Но когда – для нас – Дух присутствует, то желание преобразуется в любовь, а воля к власти – в справедливость. В великой главе о любви в 1 Послании к коринфянам Павел ясно говорит, что любовь есть плод Духа, и что без Духа нет любви. Любовь никакого отношения к закону не имеет. Пока ее понимают как заповедь, ее не существует. Не имеет она отношения и к сентиментальному настроению. Она невозможна для природного человека; и в своих проявлениях она экстатична, как и всякий дар Духа.
И наконец, Дух есть жизнь. «Помышления плотские суть смерть». Есть человек, наш современник, который понял правду этих глубоких слов. Зигмунд Фрейд считает, что в основании нашего бесконечного желания лежит воля к смерти. Человек, ощущая невозможность исполнения своего желания, хочет избавиться от него, избавившись от самого себя. Смерти избежать нельзя, но ее можно избрать. Мы не только должны умереть, мы еще и хотим умереть, «ибо помышления плотские суть смерть».
«А помышления духовные суть жизнь и мир», – продолжает Павел. Дух есть жизнь, творческая жизнь, как о том возвещает древний гимн Veni Creator Spiritus (Приди, дух животворящий). Слово «дух» почти совсем исчезло из нашего обиходного языка и совершенно исчезло из нашей научной терминологии. Его заменило слово «разум». Но разум оспаривает то, что получил; он анализирует жизнь и часто убивает ее. Он – не сама жизнь, он лишен творческой силы. А Дух есть и сила, и разум, он объединяет и превосходит их. Дух – это творческая жизнь. Один только разум, одна только сила не создают произведений искусства и поэзии, философии и политики; Дух, исполненный силы и разума одновременно, создает их индивидуально и значимо для всех. В каждом великом человеческом труде мы восхищаемся неизмеримой глубиной его индивидуального и несравнимого ни с чем характера, мощью того, что случается лишь единожды и повторено быть не может, тем, что все-таки остается зримым в веках, всеобщим и доступным в каждую эпоху.
Ни один из доводов разума не может дать уверенности. Конечное не может утверждать бесконечное; оно не может достичь Бога и никогда не сможет достичь своей собственной вечности. Но существует два рода уверенности. Одна из них живет в каждой сознающей себя душе. Это уверенность, которую производит закон. Она говорит, что ни жизнь, ни смерть, ни мужество, ни спасение бегством не смогут избавить нас от требования быть такими, какими нам следует быть; говорит о невозможности быть таковыми; а обреченность невозможности есть отчаяние. Вечность отчаяния охватывает нас в тот миг, когда мы осознаем свое положение перед лицом закона. Уверенность другого рода живет в тех, кто имеет Дух; они – по ту сторону своей конечности и не могут пользоваться доводами разума, ибо их вечность очевидна для них. Речь идет не о будущей жизни после смерти; это несомненное присутствие Духа, который есть Жизнь, по ту сторону жизни и смерти.
В рассказе о Пятидесятнице Дух Христа показывает свою творческую способность как индивидуально, так и значимо для всех. Каждый ученик получает язык пламени – новый творческий Дух. Выходцы из всех народов, разделенные разными языками, понимают друг друга в этом Новом Духе, творящем новый мир по ту сторону вавилонского разделения, – мир Церкви. Более того, для Павла Дух есть вечная жизнь. Очевидно, уверенность в том, что мы – дети Бога, что мы соединены с вечным смыслом нашей жизни, – такая уверенность либо сама вечна, либо ее нет вообще. Нет рациональных доказательств бессмертия наших душ. Здесь и теперь мы погружены в бесконечное отчаяние, причиной которого является закон. Здесь и теперь мы погружены в вечную и неистощимую жизнь, сотворенную Духом, который свидетельствует, что мы – дети Бога.
Но кто-то может сказать: «Я не получил этого свидетельства. Я не познал в своем опыте Тот Дух, о котором говорил Павел. В этом смысле я – не христианин». Выслушаем ответ Павла. Это, быть может, одно из самых его таинственных и приводящих в замешательство речений. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Павел осознает тот факт, что обычно нами владеет слабость, которая делает невозможным опыт познания Духа и правильную молитву. Но он говорит нам, что в такие часы мы не должны думать, что Дух далеко от нас. Он – в нас, хотя Его присутствия мы не замечаем. Наши воздыхания в глубине души, которые мы не можем выразить в членораздельной осмысленной речи, принимаются Богом как действие Духа в нас. К человеку, который стремится к Богу и не может Его найти; к человеку, который хочет, чтобы Бог его принял, и не может поверить даже в то, что Он есть; к человеку, который жаждет обрести новый и непреходящий смысл своей жизни и не может его открыть, – именно к такому человеку обращается Павел. Каждый из нас – такой человек. Именно в этой ситуации, когда Дух далек от нашего сознания, когда мы не в состоянии молиться или чувствовать хоть какой-то смысл в жизни, в глубинах наших душ неприметно совершается работа Духа. В тот миг, когда мы чувствуем свою отделённость от Бога, ощущаем бессмысленность своей жизни и обреченность на отчаяние, мы не остаемся в одиночестве. Дух, воздыхающий и тоскующий в нас и с нами, выступает вместо нас. Он ясно показывает, кто мы такие на самом деле. Ощущая это вопреки ощущению, веря в это вопреки вере, зная это вопреки знанию, мы, подобно Павлу, владеем всем. Находящиеся вне этого опыта не владеют ничем. Павел, несмотря на дерзновенность своей веры и глубину своей мистики, наиболее человечен, наиболее реалистичен, ближе к слабым, чем к сильным. Он знает, что мы, вместе со всеми другими существами, находимся в стадии ожидания, стремления и страдания со всеми животными и цветами, океанами и ветрами. Беззвучный плач этих созданий эхом вторит немому томлению человеческой души. Павел знал, что состояние, которого мы должны достичь, еще не наступило, и все же написал свое восторженное и торжествующее послание о Духе и Жизни. Написать эти слова его вдохновил не собственный дух, но Дух, который свидетельствовал его духу и который свидетельствует нашему духу о том, что мы – дети Бога.
17. Иисус, про которого говорили, что он – Христос
И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: за кого почитают Меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же – за Илию, а иные – за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты – Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о Нём. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.
Мк. 8:27–33
Этот рассказ – ключевой момент Евангелия от Марка. И в этом же рассказе мы находим суть христианской вести. Она бесконечно проста, хотя богата и глубока. Она сосредоточена в двух словах: «Ты – Христос». Рассмотрим ее в свете этого рассказа, с которого по сути начинается повествование о Страстях и Смерти.
Иисус и Его ученики отправились в селения Кесарии Филипповой по дороге между какими-то незначительными селениями, да и время указано неопределенное: «тогда». Но на этой дороге произошло самое значительное событие в истории человечества – не только с точки зрения верующего, но и с точки зрения беспристрастного наблюдателя за ходом мировой истории. И это неопределенное «тогда» указывает на определенный самым точным образом решающий момент опыта человечества, момент, когда один человек осмелился сказать другому: «Ты – Христос».
По дороге Иисус допытывается у своих учеников: «За кого принимают Меня люди?» «Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же – за Илию, а иные – за одного из пророков». Почему ученики давали Иисусу титулы, ставящие Его на более высокий уровень по сравнению с обычным человеком? Потому что они ожидали экстраординарного события: наступления нового мирового порядка в близком будущем. Из рода в род человечество тщетно ожидало наступления этого нового состояния вселенной, где воцарятся мир и справедливость. Люди верили, что их поколение будет свидетелем его прихода, но прежде должны явиться предвестники, чтобы возвестить о наступлении нового века и приготовить к нему народ. Должен прийти с небес Илия, некогда туда взятый; быть может, из мертвых воскреснет Иеремия; или явится какой-нибудь другой пророк; возможно даже, из своей могилы вернется Иоанн Креститель. Люди чувствовали, что за фигурой Иисуса, этого рабби – учителя и целителя, скрывается нечто таинственное. Они думали, что в Его обличии таится один из предвестников, которые должны прийти, чтобы приготовить новый и последний, завершающий период истории. Таковы были мнения, которые ученики Иисуса слышали от людей.
Такие люди все еще существуют, хотя христианству уже 2000 лет. Иисус для них остается предвестником, новый мир и тот, кто должен принести его с собой, все еще в будущем. Справедливость и мир еще не воцарились. Новый мир может быть у порога, а может быть все еще далек от нас. В любом случае, он еще не пришел. Таково характерное настроение евреев, не дающее им становиться христианами. Это также и настроение больших групп нынешних христиан, настроение, побуждающее их ожидать царства мира и справедливости и работать ради его приближения, хотя надежды их терпят крушение, и они постоянно должны начинать все сызнова. Если бы Иисус спросил нас сегодня: «За кого почитают Меня люди?» – нам пришлось бы ответить Ему в точности то же самое, что отвечали Ему первые Его ученики: что Он один из предвестников, и хотя, быть может, и величайший из них, но возможно, что не последний, – предвестник и пророк, но не тот, кто исполнит меру всех вещей. Царство справедливости и мира, новый строй бытия все еще не наступили.
И вот Иисус допытывается у своих учеников: «А вы за кого почитаете Меня?» Такой вопрос всегда встает перед каждым христианином. Этот вопрос встает перед Церковью в целом, потому что Церковь зиждется на ответе на этот вопрос, на словах Петра: «Ты – Христос». Петр не просто прибавляет к именам, данным Иисусу людьми, еще одно, более возвышенное. Петр говорит: «Ты – Христос». Этими словами он выражает нечто, в корне отличное от того, что об Иисусе говорили люди. Он отрицает, что Иисус – предвестник, что следует ожидать кого-то другого. Петр утверждает, что решающий момент в истории уже настал, что Христос – носитель нового – уже пришел в лице этого человека, Иисуса, который идет по пыльной дороге на севере Палестины вместе с ним.
Можем ли мы, в наше время, понять смысл сказанного Петром? Нам это удается с трудом, потому что слово «Христос» стало вторым именем Иисуса. Но когда Петр называл Иисуса Христом, слово «Христос» было все еще титулом, обозначающим призвание на мессианское служение. Этот титул давался Тому Кто должен был принести освобождение Израилю, победу Бога над язычниками, преображение человеческого сердца и установление мессианского царства мира и справедливости. Через Христа должно наступить исполнение исторических сроков. Бог снова станет Господом человечества, земля будет местом блаженства. Все это заключено в словах Петра «Ты – Христос».
Величие и трагизм момента, когда Петр произносит свои слова, становятся очевидными в отклике на них Иисуса: Он запрещает ученикам говорить о Нем кому бы то ни было. Мессианство Иисуса было тайной. Для Него оно значило не то же самое, что для людей. Если бы они услышали, что Он называет себя Христом, они увидели бы в Нем либо великого политического вождя, либо божественного посланца, приходящего с небес. Иисус не верит в то, что политические действия, освобождение Израиля от римского владычества и крушение Римской империи могут создать новую реальность на земле. И он не мог бы назвать себя небесным Христом, потому что людям, неспособным Его понять, это показалось бы богохульством. Ибо Христос не есть ни политический «царь мира», которого ожидали народы на протяжении всей истории и которого сегодня с таким же горячим нетерпением ожидаем и мы; ни «царь славы», которого ожидали многие визионеры того времени и которого сегодня ожидаем и мы. Его тайна глубже; ее нельзя выразить в традиционных именах. Она может быть открыта только в событиях, которые должны были произойти после исповедания Петра: в страдании, смерти и воскресении. Быть может, явись Он сегодня, Он надолго запретил бы священникам христианской Церкви говорить о себе. «Он запрещал им говорить о Себе». Наши Церкви говорят о Нем день изо дня, каждое воскресенье, одни больше в политических категориях, как о царе мира, другие в большей мере как о небесном царе славы. Они называют Его Иисусом Христом, забывая сами и заставляя забывать нас о том, что это значит: Иисус есть Христос. Самый невероятный и с человеческой точки зрения невозможный факт – бродячий еврейский рабби есть Христос – стал само собой разумеющимся для нас. Давайте же, хотя бы иногда, напоминать самим себе и другим людям о том, что Иисус Христос значит Иисус, про которого говорили, что Он – Христос. Давайте же время от времени спрашивать самих себя и других о том, можем ли мы всерьез согласиться с восторженным восклицанием Петра; так же ли переполняет нас тайна этого Человека? И если мы не можем ответить на это утвердительно, разве не следует нам тогда, по крайней мере, хранить молчание, чтобы уберечь тайну этих слов, а не разрушать их смысл своей пустой болтовней?
И Он продолжал учить их, что Сын Человеческий должен много пострадать, быть отвергнутым старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Он говорил об этом совершенно откровенно. В час, когда Петр назвал Его Христом, Иисус предрек свои страдания и смерть. Он приоткрыл тайну своего мессианского предназначения. Это шло вразрез со всем, на что надеялись Его ученики. Ему предстояло быть отвергнутым политическими властями еврейского народа, чьим царем Христос, в соответствии с мессианскими представлениями того времени, должен быть. Ему предстояло быть отвергнутым религиозными властями избранного народа, чьим вождем, согласно мессианским представлениям, должен стать Христос. Ему предстояло быть отвергнутым культурными авторитетами той традиции, которая, как предполагалось, должна была благодаря Христу преодолеть всю языческую традицию. Ему предстояло страдать – Тому, от кого ожидалось преображение всякого страдания в блаженство. Ему предстояло умереть – Тому, кто, согласно представлениям о мессии, должен был явиться в божественной славе. Иисус не отрицал своего мессианского призвания. Символическими словами о «воскресении через три дня» Он показывает, что Его отвержение и смерть не будут поражением, но необходимыми шагами на пути к тому, чтобы стать Христом. Только Ему предстояло быть страдающим и умирающим Христом. Только в страдании и смерти Он – Христос, или, как более загадочно называет Он себя, – Сын Человеческий.
Петр отозвал Иисуса и начал прекословить Ему. Но Иисус повернулся к нему и, глядя на своих учеников, упрекнул Петра, говоря: «Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Никто во времена Иисуса не стал бы подвергать сомнению тот факт, что Бог насылает страдания и мученическую смерть даже на праведных, и это подтверждает каждая страница Ветхого Завета. Поэтому не сам этот факт страдания и смерти сделал историю Страстей наиболее важной частью всего Евангелия. Не цена страдания и героической смерти дали силу изображению Распятого. В человеческой истории было множество изображений созидательных страданий и героической смерти. Но ни одно из них нельзя сравнить с изображением смерти Иисуса. В Его страданиях и смерти произошло нечто уникальное. Это была и есть божественная тайна, непостижимая человеческому уму, божественно необходимая. Поэтому, когда Петр, потрясенный и переполненный печалью и любовью, попытался воспротивиться намерению Иисуса идти в Иерусалим, Иисус принял его мольбу за сатанинское искушение, разрушительное для Его мессианского достоинства: как Христос, Он должен был пострадать и умереть. Настоящий Христос не был Христом в силе и славе.
Христос должен был пострадать и умереть, ибо там, где во всей своей полноте проявляется Божественное, вынести его люди не могут: политические силы, религиозные власти и носители культурной традиции должны его оттолкнуть. В изображении Распятого мы взираем на отвержение Божественного человеческим. Мы видим, что за это отвержение осуждаются не низшие, но высшие представители человечества. Где бы ни являлось Божественное, оно подвергает радикальному сомнению все, что в человеке есть хорошего, и потому человек должен гнать Божественное, должен отталкивать его от себя, должен распинать его. Где бы Божественное ни являло себя как новую реальность, представители старой реальности должны отвергать его, ибо Божественное не делает человеческое совершенным. Оно восстает против него. По этой причине человеческое должно защищаться от Божественного, должно отвергать его, должно стараться разрушить его.
И тем не менее, когда Божественное отвергается, оно принимает это отвержение на себя. Оно принимает распятие от нас, наше отталкивание, нашу защиту от него. Божественное принимает наш отказ принять его и тем – побеждает нас. В этом средоточие тайны Христа. Вообразите Христа, который бы не умирал, который должен был бы прийти в славе, чтобы навязать нам свою власть, свою мудрость, свою мораль и свое благочестие. Он мог бы сломить наше сопротивление своей силой, своим прекрасным правлением, своей непогрешимой мудростью и своим неотразимым совершенством. Но Он был бы не в состоянии завоевать наши сердца. Он принес бы новый закон и навязал бы его нам властью своей всемогущей и всесовершенной личности. Его сила сломила бы нашу свободу; Его слава залила бы нас, как палящее, слепящее солнце; сама наша человеческая сущность была бы поглощена Его Божественностью. Во Христе Бог умалил себя ради нас – таково одно из глубочайших прозрений Лютера. Тем самым Бог оставил нам нашу свободу и нашу человеческую сущность. Он дал нам увидеть Свое Сердце, чтобы можно было завоевать наши сердца.
Когда мы взираем на страдания и нищету нашего мира, на его зло и грех, особенно в эти дни, которые, кажется, знаменуют собой конец одной из мировых эпох, мы страстно мечтаем о божественном вмешательстве, благодаря которому могли бы быть побеждены этот мир и его демонические правители. Мы тоскуем по царю мира внутри истории или по царю славы – над историей. Мы томимся по Христу силы. И тем не менее если бы Он пришел и преобразил нас и наш мир, нам пришлось бы заплатить за это цену, которую мы уплатить не смогли бы: мы утратили бы свою свободу, свою человеческую сущность и свое духовное достоинство. Возможно, мы стали бы счастливее, но мы должны были бы стать и более низкими существами, чем теперь, несмотря на нынешние наши несчастья и беды, борьбу и отчаяние. Мы должны были бы стать скорее блаженными животными, чем людьми, сотворенными по образу Бога. Тот, кто мечтает о лучшей жизни, а сам старается избежать крестного пути; тот, кто надеется на Христа, а сам пытается изгнать всякую мысль о Распятом, – ничего не знает о тайне Бога и человека.
Такие люди должны расценивать Иисуса всего лишь как предвестника. Они должны ожидать других, обладающих большей силой для преобразования мира, других, обладающих большей мудростью для перемены наших сердец. Но даже величайший в силе и мудрости не смог бы полнее открыть Сердце Бога и сердце человека, чем это уже сделал Распятый, – это было сделано раз и навсегда: «Кончено». В лице Распятого всякое «больше» и всякое «меньше», всякий прогресс и всякое приближение – бессмысленны. Поэтому о Нем одном можно сказать: Он – новая реальность; Он – конец; Он – Мессия; одному Распятому можем мы сказать: «Ты – Христос».
18. Ожидание
Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление.
Пс. 129:5–7
Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо, если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
Рим. 8:24–25
И Ветхий Завет, и Новый Завет говорят о нашем существовании по отношению к Богу, как о существовании в ожидании. У псалмопевца это тревожное ожидание, у апостола – терпеливое. Ожидание означает не иметь и иметь в одно и то же время – ибо мы не имеем того, чего ожидаем; или, как говорит апостол: когда мы надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем этого. Условия, при которых возможна связь человека с Богом – это, прежде всего, неимение, невидение, незнание и непостижимость. Религия, в которой это забывается, – не важно, сколь она экстатична, действенна или разумна, – заменяет Бога Его образом, который она сама и создает. Нашу религиозную жизнь этот род творчества характеризует лучше всего остального. Я имею в виду теолога, который не ожидает Бога, потому что обладает Богом, заключенным в учении. Я имею в виду изучающего Библию ученого, который не ожидает Бога, потому что обладает Богом, заключенным в книге. Я имею в виду человека Церкви, который не ожидает Бога, потому что обладает Богом, заключенным в церковных учреждениях. Я имею в виду верующего, который не ожидает Бога, потому что обладает Богом, заключенным в его собственном опыте. Нелегко перенести это состояние: не иметь Бога; нелегко перенести это ожидание Бога. Нелегко выступать с проповедью каждое воскресенье, не будучи убежденным сам и зная, что и другие не убеждены в том, что мы имеем Бога и можем располагать Им. Нелегко возвещать Бога детям и язычникам, скептикам и сторонникам отделения Церкви от государства, и в то же самое время ясно показывать им, что мы сами не обладаем Богом, что мы тоже ожидаем Его. Я убежден в том, что мятеж против христианства по большей части вызван открытым и завуалированным притязанием христиан на обладание Богом, а следовательно и утратой этого элемента ожидания, столь важного для пророков и апостолов. Не станем обманывать себя, думая, что раз они говорят об ожидании, то ожидают всего лишь конца, суда и исполнения меры всех вещей, а не Бога, который полагает этот конец. Они не обладали Богом, они ожидали Бога, ибо – как можно обладать Богом? Разве Он – вещь среди других вещей, которую можно взять, которую можно познать? Разве Бог меньше человеческой личности? Человека мы ведь всегда ожидаем. Даже в самом глубоком, интимном общении человеческих существ имеется элемент неимения, незнания, элемент ожидания. Поскольку Бог бесконечно сокрыт, свободен и непостижим, ожидание наше должно быть абсолютным, радикальным. Он – Бог для нас именно постольку, поскольку мы не обладаем Им. Псалмопевец говорит, что все его существо ожидает Господа, показывая тем самым, что ожидание Бога не просто часть нашего отношения к Богу, но – условие этого отношения в целом. Мы имеем Бога благодаря тому, что не имеем Его.
Но хотя ожидание – это не обладание, оно также и обладание. Тот факт, что мы ожидаем чего-то, показывает, что каким-то образом мы уже обладаем желаемым. Ожидание предвосхищает то, что еще не стало реальным. Если мы ожидаем в надежде и терпении, сила того, чего мы ожидаем, уже действует в нас. Тот, чье ожидание предельно и безусловно, недалек от ожидаемого. Тот, кто ожидает в абсолютной серьезности, уже захвачен ожидаемым. Тот, кто ожидает в терпении, уже получил силу ожидаемого. Тот, кто ожидает страстно, сам уже является действенной силой, величайшей силой преобразования личной и исторической жизни. Мы более сильны, когда ожидаем, нежели когда обладаем. Когда мы обладаем Богом, мы сводим Его к тому малому, что мы знаем, мы завладеваем Им в этом малом и делаем своим идолом. Только поклоняясь идолу, можно верить, что обладаешь Богом. Среди христиан широко распространено такое идолопоклонство.
Но если мы знаем, что не знаем Бога, и если мы ожидаем Его, чтобы Он нам открыл себя в знании, тогда мы действительно нечто о Нем знаем, тогда Он захватывает нас, ведет нас и обладает нами. Именно тогда мы – верующие в своем неверии, тогда мы приняты, невзирая на свою отделённость от Бога.
Но не будем забывать о том, что ожидание – огромное напряжение. Оно не позволяет успокоиться на том, что мы ничего не имеем, оно устраняет безразличие или циническое презрение к тем, кто что-то имеет, не допускает снисходительности к сомнению и отчаянию. Не будем превращать свою гордость тем, что мы ничем не обладаем, в предмет нового обладания. Это – одно из великих искушений нашего времени, ибо осталось немного вещей, на обладание которыми мы можем притязать. И мы поддаемся тому же искушению, когда в своих попытках обладать Богом хвалимся, что не обладаем Им. Божественный ответ на такую попытку – полная опустошенность. Ожидание – это не отчаяние. Это прибавление нашего неимения к силе того, что мы уже имеем.
Наше время – время ожидания; ожидание – его особый удел. И всякое время – время ожидания, ожидания вторжения вечности. Всякое время стремится вперед. Всякое время – и в истории и в жизни личности – ожидание. Само время есть ожидание, ожидание не другого времени, но того, что вечно.
19. Вы приняты
Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать.
Рим. 5:20
Эти слова Павла подводят итог его апостольскому опыту, его религиозной вести в целом и христианскому пониманию жизни. Рассуждать об этих словах, превращать их в тексты нескольких гладких проповедей всегда казалось мне невозможным. Никогда прежде я не осмеливался использовать их. Но что-то побуждало меня размышлять над ними в течение нескольких последних месяцев: желание рассказать о двух вещах, которые, как мне казалось, определяли всю мою жизнь – об изобилии греха и еще большем изобилии благодати.
Мало найдется слов, более чуждых для нас, чем «грех» и «благодать». Чужды они именно потому, что так хорошо известны. За столетия они приобрели новые значения, искажающие их первоначальный смысл, и утратили так много от своей подлинной силы, что нам нужно всерьез спросить самих себя: стоит ли нам вообще их употреблять или лучше отбросить их как бесполезные? Однако когда речь заходит о великих словах нашей религиозной традиции, то возникает одно таинственное явление: эти слова нельзя ничем заменить. Все попытки замены, в том числе и те, которые предпринимал я сам, пытаясь выразить подразумеваемую этими словами реальность, – провалились; они приводили к поверхностной и пустой болтовне. Для таких слов, как «грех» и «благодать», замены нет. Но есть путь к тому, чтобы открыть их смысл заново, и это тот же путь, что ведет нас в глубину нашего человеческого существования. В этой глубине слова «грех» и «благодать» были впервые прочувствованы, и там обрели они силу на все века; там они должны постигаться заново каждым новым поколением и каждым из нас. Давайте же попытаемся проникнуть на более глубокие уровни нашей жизни, чтобы увидеть, сможем ли мы обнаружить в них ту реальность, о которой говорят наши тексты.
Осталось ли у людей нашего времени понимание смысла греха? Понимают ли они еще, понимаем ли мы, что «грех» – это не аморальный поступок, что слово «грех» никогда не следует употреблять во множественном числе, и что не наши грехи, но наш грех есть великая проблема, пронизывающая нашу жизнь? Знаем ли мы, что разделять людей, называя одних «грешниками», а других «праведниками», – значит проявлять высокомерие и заблуждаться? Ведь разделяя людей таким образом, мы обычно приходим к выводу, что сами мы не такие уж «грешники», поскольку избежали тяжких грехов, достигли некоторого прогресса в борьбе с тем или иным грехом, и даже оказались достаточно скромными, чтобы не называть себя «праведными». В состоянии ли мы еще понимать, что подобный род помыслов и чувств весьма далек от того, что разумела, говоря о грехе, великая религиозная традиция как в Библии, так и вне ее?
Я предложил бы вам другое слово – не в качестве замены слова «грех», но как удобный ключ для его истолкования: слово «отделённость». Отделённость – одна из граней опыта каждого человека. Быть может, слово sin (грех) имело такой же корень, как и слово asunder (отдельно). В любом случае, грех – это отделённость. Пребывать во грехе – значит быть отделённым. Отделённостъ проявляется трояко: как отделение одной индивидуальной жизни от другой, отделение человека от самого себя и отделение всех людей от Основания Бытия. Эта тройная отделённость определяет состояние всего сущего, она – всеобщее явление, она – удел всякой жизни. И это – наш человеческий удел, причем в особом смысле. Ибо мы, будучи людьми, знаем о своей отделённости. Мы не только страдаем вместе со всеми другими существами из-за разрушающих нас самих последствий нашей отделённости, но мы знаем также и то, почему мы страдаем. Мы знаем, что отчуждены от чего-то такого, чему в действительности принадлежим и с чем должны быть соединены. Мы знаем, что удел отделённости – это не просто какое-нибудь явление природы, вроде внезапной вспышки молнии; мы знаем, что это – опыт, в котором мы активно участвуем, в который вовлекается вся наша целостная личность, и что отделённость, будучи судьбой, – это еще и вина. Отделенность, которая является одновременно и судьбой, и виной, – это и есть смысл слова «грех». Именно это и есть форма всего нашего существования, с самого начала до самого конца. Такая отделённость подготавливается еще в материнской утробе, а до того – в каждом предшествующем поколении. Она дает себя знать в особых проявлениях нашей сознательной жизни. Она не заканчивается с нашей смертью и переходит на все последующие поколения. Отделённость – само наше существование. Существование – это отделённость. Прежде чем грех становится поступком, он существует как состояние.
То же самое можно сказать и о благодати, ибо грех и благодать неразрывно связаны. Мы не имели бы и понятия о грехе, если бы уже не пережили единство жизни, которое есть благодать. И наоборот, мы не смогли бы постичь смысл и значение благодати, не испытав в собственном переживании отделённость жизни, которая есть грех. Благодать описать столь же трудно, как и грех. Для некоторых людей благодать – это готовность божественного Царя и Отца снова и снова прощать безрассудство и слабость своих подданных и детей. Мы должны отвергнуть такое представление о благодати, ибо оно – недостойное зрелого человека унижение собственного достоинства. Для других людей благодать – это магическая сила в темных уголках души, но сила, не имеющая для практической жизни никакого значения, понятие недолговечное и бесплодное. Для некоторых благодать – это благожелательность, которую можно найти в жизни наряду с жестокостью и разрушительностью. Но тогда оказывается неважным, говорить ли «жизнь продолжается», или «в жизни есть благодать». Если благодать ничего более не означает, тогда это слово должно исчезнуть, и оно исчезнет. Для некоторых благодать означает дарования, которые человек получил от природы или общества, и способность делать хорошие вещи и творить добрые дела с помощью этих дарований. Но благодать – больше, чем дарования. Благодатью нечто превозмогается; благодать является независимо ни от чего; благодать является несмотря на отделённость и отчуждение. Благодать есть воссоединение жизни с жизнью, примирение «я» с самим собой. Благодать – это принятие того, что отвергнуто. Благодать преобразует судьбу в исполненное смысла предназначение; она превращает вину в доверие и мужество. В слове «благодать» есть нечто победно-ликующее: несмотря на изобилие греха, благодать преизобилует.
А теперь глянем внутрь самих себя, чтобы обнаружить там борьбу между отделённостью и воссоединением, между грехом и благодатью, борьбу, которая присутствует в наших отношениях с другими людьми, с самими собой и с Основанием и целью нашего бытия. Если наши души откликнутся на то описание жизни, которое я намерен сейчас дать, то такие слова, как «грех» и «отделённость», «благодать» и «воссоединение» могут приобрести для нас новый смысл. Однако сами по себе эти слова не важны. Здесь важен отклик глубочайших уровней нашего бытия. Возникни такой отклик среди нас в эту минуту, мы могли бы сказать, что узнали благодать.
Кто не бывал порою одинок в гуще общественных событий? Чувство нашей отделённости от остальной жизни всего острее, когда оно охватывает нас среди шума и суеты. Тогда гораздо глубже, нежели в минуты одиночества, мы осознаем, как чужды мы друг другу, как отчуждена одна жизнь от другой. Каждый из нас уходит в себя. Мы не можем проникнуть в скрытое средоточие другой личности; не может и этот человек разорвать завесу, закрывающую его собственное бытие. Даже величайшая любовь не может пробиться сквозь стены вокруг «я». Кто не переживал этого крушения иллюзий всякой великой любви? Если бы кто-нибудь полностью подчинил свое «я» воле другого, он обратился бы в ничто, лишенное формы и энергии; «я», лишенное «я», всего лишь объект презрения и унижения. Наше поколение знает о спрятанной в глубине наших душ враждебности больше, чем поколение наших отцов. Сегодня мы знаем гораздо больше об избытке агрессивности в каждом живом существе. Сегодня мы можем удостоверить, что Иммануил Кант, пророк человеческого разума и достоинства, был достаточно честен, чтобы сказать: «Есть в неудачах наших лучших друзей нечто такое, что не может не радовать нас». Станет ли кто из нас кривить душой и говорить, что подобные чувства ему неведомы, и слова Канта к нему не относятся? Разве не готовы мы почти всегда унизить и оскорбить все и вся, пусть зачастую и весьма утонченным образом, ради удовольствия самовозвышения, ради повода для похвальбы, ради мига наслаждения? Знать об этой своей готовности – значит знать, в чем заключается смысл отделённости жизни от жизни и «умножения греха».
Самое яркое выражение непримиримой отделённости жизни от жизни сегодня – это взаимоотношения социальных групп внутри наций и отношения между нациями. Технический прогресс уничтожил преграду расстояния во времени и пространстве, но невероятно укрепилась стена отчуждения между сердцами. Безумие германских нацистов и жестокость жаждущей суда Линча толпы на американском Юге позволяют нам легко оправдать наше нежелание присмотреться к собственному «я». Но давайте присмотримся к себе: что мы чувствуем, когда читаем, что в некоторых районах Европы дети, не достигшие и трех лет, больны и умирают, или что в некоторых районах Азии миллионы бездомных замерзают и погибают от голода. Отчужденность жизни от жизни очевидна в свете того странного факта, что все это мы можем знать, и все-таки жить с утра до вечера так, словно бы ничего не знаем. А ведь я говорю о наиболее чувствительных из нас. Как в человечестве, так и в природе жизнь отделена от жизни. Среди живых существ преобладает отчуждение. Грех изобилует.
Важно помнить о том, что мы не только отделены друг от друга, – мы также отделены и от самих себя. Человек против самого себя — это не просто название книги{ Имеется в виду книга: Menninger К. Man Against Himself. N.Y, 1938. Русский пер.: Меннингер К. Война с самим собой. М., 2000. – Прим. ред.}, это заново открытое древнее прозрение. Человек расколот внутри себя. Жизнь выступает против самой себя в агрессии, ненависти и отчаянии. Обыкновенно мы порицаем себялюбие, но в действительности то, что мы при этом имеем в виду, противоположно себялюбию. Это та смесь эгоизма и ненависти к себе, которая постоянно преследует нас, которая не дает нам любить других и мешает нам раствориться в любви, изливающейся на нас из вечности. Кто способен любить самого себя, тот способен любить и других; кто научился преодолевать собственное презрение к самому себе, тот преодолел свое презрение к другим. Но глубина нашей отделённости кроется как раз в том факте, что мы не способны на великую и милосердную божественную любовь к самим себе. Напротив, в каждом из нас присутствует инстинкт саморазрушения, столь же сильный, как и наш инстинкт самосохранения. В нашей склонности унижать и разрушать других присутствует открытая или скрытая склонность унижать и разрушать самих себя. Жестокость по отношению к другим всегда есть жестокость по отношению к себе. Ничто не проявляется с такой очевидностью, как раскол в нашей бессознательной жизни и сознающей личности. Павел без помощи современной психологии выразил этот факт в своих знаменитых словах: «Ибо не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». А потом он продолжает, и слова его могли бы стать прекрасным эпиграфом ко всей глубинной психологии: «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Апостол ощущал разрыв между своей сознательной волей и своей действительной волей, между самим собой и чем-то непонятным внутри себя и чуждым себе. Он был отчужден от самого себя, и это отчуждение он называл «грехом». Он называл его также чуждым «законом в своих членах», непреоборимым принуждением. Как часто вынуждены мы совершать определенные действия, находясь в совершенном сознании и в то же время с поразительным ощущением, что нами руководит чуждая сила! Это и есть опыт отделённости от самого себя, т. е. «грех», нравится нам это слово или нет.
Таким образом, ситуация всей нашей жизни – отчуждение от других и от самих себя из-за того, что мы отчуждены от Основания нашего бытия, из-за того, что мы отчуждены от источника и цели нашей жизни. И мы не знаем, откуда пришли и куда идем. Мы отделены от тайны, глубины и величия нашего существования. Мы слушаем голос этой глубины, но уши наши закрыты. Мы чувствуем, что нам предъявлено какое-то радикальное, тотальное и безусловное требование, но восстаем против него, пытаемся убежать от его настоятельности и не желаем принимать его надежды.
Однако убежать от него мы не можем. Если оно есть Основание нашего бытия, то мы связаны с ним на веки вечные, точно так же, как связаны мы накрепко с самими собой и жизнью. Мы всегда пребываем во власти того, от чего отчуждены. Этот факт приводит нас к предельной глубине греха: отделенные и все же связанные, отчужденные и все же принадлежащие, разрушенные и все же сохраненные, мы приходим к состоянию, которое называется отчаянием. Отчаяние означает, что бежать некуда. Отчаяние – это «болезнь к смерти»{ Болезнь к смерти – название одной из книг С. Кьеркегора. – Прим. ред. }. Но самое страшное в болезни отчаяния то, что мы не можем освободиться даже открытым или скрытым самоубийством, ибо все мы знаем, что навеки и неразрывно связаны с Основанием нашего бытия. Бездна отделённости не всегда перед глазами. Но для нашего поколения она стала виднее, чем для предыдущих: из-за нашего переживания бессмысленности, пустоты, сомнения и цинизма – всех этих проявлений отчаяния, из-за нашей отделённости, оторванности от корней и смысла нашей жизни. Грех в своем наиболее глубинном смысле – грех как отчаяние – изобилует среди нас.
«А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать», – говорит Павел в том же самом послании, в котором он описывает невообразимую силу отделённости и саморазрушения внутри общества и индивидуальной души. Он говорит это не потому, что сентиментальное настроение требует счастливого конца для всего трагического. Он говорит потому, что эти слова описывают самый глубокий и определяющий опыт его жизни. В образе Иисуса как Христа, который явился Павлу в момент его полнейшей отделённости от других людей, от самого себя и от Бога, Павел обнаружил себя принятым, невзирая на свое отвержение. А когда он обнаружил, что принят, он оказался в состоянии принять самого себя и примириться с другими. В тот миг, когда Павла нашла и переполнила благодать, он воссоединился с тем, чему принадлежал и от чего был в полной мере отчужден. Знаем ли мы, что это значит, когда нас находит благодать? Это не значит, что мы внезапно исполняемся верою в то, что Бог существует, или что Иисус есть Спаситель, или что Библия заключает в себе истину. Верить в то, что нечто есть, почти противоположно смыслу благодати. Более того, благодать не означает, что мы прогрессируем в деле нравственного самоконтроля, в нашей борьбе с конкретными прегрешениями и в наших отношениях с людьми и обществом. Нравственный прогресс может быть плодом благодати, но он – не сама благодать и может даже помешать нам обрести ее, ибо слишком часто встречается безблагодатное принятие доктрин христианства и безблагодатная борьба против структур зла в нашей личности. Такое безблагодатное отношение к Богу может привести нас либо к высокомерию, либо к отчаянию. Лучше уж отказаться от Бога, Христа и Библии, чем принимать их без благодати, ибо если мы принимаем без благодати, мы делаем это в состоянии отделённости и можем ее только усилить и углубить. Мы не сможем преобразовать свою жизнь, если не позволим, чтобы ее преобразование совершалось силою благодати. Это или происходит, или не происходит. И этого безусловно не происходит, если мы пытаемся добиться этого принудительно, как не происходит и тогда, когда мы думаем в самообольщении, что нисколько в этом не нуждаемся. Благодать настигает нас, когда наше страдание и беспокойство велики. Она настигает нас, когда мы бредем мрачной долиной бессмысленной и пустой жизни. Она находит нас, когда мы чувствуем свою отделённость глубже обычного из-за того, что подвергли насилию другую жизнь, жизнь, которую любили или от которой были отчуждены. Благодать настигает нас, когда наше отвращение к собственному бытию, безразличие, слабость, наша вражда, утрата направления и потеря самообладания становятся для нас невыносимыми. Она настигает нас, когда проходит год за годом, а совершенство жизни, по которому мы томимся, все не наступает, когда давнишнее принуждение царит внутри нас, как царило десятилетиями, когда отчаяние убивает всякую радость и мужество. Случается, что в такие минуты волна света прорвется в наш мрак, и словно бы некий голос скажет: «Ты принят. Ты принят, принят тем, что больше тебя. Имени его ты не знаешь. Сейчас об имени его не спрашивай, может быть, ты найдешь его позже. Сейчас не пытайся ничего делать, быть может потом ты сделаешь больше. Не стремись, ни к чему, не совершай ничего, не предпринимай ничего. Просто прими факт своего принятия!» Если такое происходит с нами, мы испытываем благодать. После подобного переживания мы можем и не стать лучше, чем были прежде, и верить можем не сильнее, чем раньше. Но преображается все. В тот миг благодать побеждает грех и примирение устраняет пропасть отчуждения. И для такого опыта ничего не требуется – никаких предварительных религиозных, моральных или интеллектуальных условий, ничего, кроме принятия.
При свете этой благодати мы постигаем ее силу в наших отношениях с другими людьми и самими собой, мы испытываем благодать смотреть прямо в глаза другому, чудесную благодать воссоединения жизни с жизнью. Нам дается благодать понимания слов друг друга. Мы понимаем теперь не только буквальный смысл этих слов, но и тот смысл, что стоит за ними, даже если эти слова резки и гневны, ибо даже тогда остается страстное стремление пробиться сквозь стену отделённости. Нам дается благодать быть способными принимать жизнь другого человека, даже если она была враждебна нам и опасна для нас, ибо через благодать мы узнаем, что она принадлежит тому же самому Основанию, которому принадлежим и мы, которое приняло нас. Нам дается благодать, способная преодолеть трагическую отделённость полов, поколений, наций, рас и даже полнейшее отчуждение между человеком и природой. Порой благодать является во всех этих видах разобщенности, чтобы воссоединить нас с теми, кому мы принадлежим, ибо жизнь принадлежит жизни.
И при свете этой благодати мы постигаем ее силу в нашем отношении к самим себе. Мы переживаем минуты, в которые принимаем самих себя, потому что чувствуем, что приняты тем, что больше нас. Если бы только таких минут было больше! Ибо такие минуты заставляют любить нашу жизнь, принимать самих себя – не в нашей добродетели и самодовольстве, но в нашей уверенности в вечном смысле нашей жизни. Мы не можем насильно заставить себя принять самих себя. Мы не можем принудить никого принять самого себя. Но порой случается так, что мы обретаем силы сказать «да» самим себе, что мир входит в нас и делает нас цельными, что ненависть и презрение к себе исчезают, и что наше «я» воссоединяется с самим собой. Тогда мы можем говорить, что нас осенила благодать.
«Грех» и «благодать» – непривычные слова, но за ними стоят знакомые вещи. Мы находим их, как только заглянем в самих себя испытующим взором и ищущим сердцем. Они определяют нашу жизнь. Они умножаются в нас и во всей нашей жизни. Да преизобилует в нас благодать!
20. Рожденный в могиле
Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, пришед к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать Тело. И взяв Тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтоб ученики Его, пришедши ночью, не украли Его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых»; и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: «Имеете стражу пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли, поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
Мф. 27:57–66
Перед судом над военными преступниками в Нюрнберге предстал свидетель, живший какое-то время в могиле на еврейском кладбище в польском городе Вильно. Это было единственное место, где он и многие другие могли жить, скрываясь после того как избежали газовой камеры. Все это время он писал стихи, и одно из его стихотворений было посвящено описанию рождения. В могиле неподалеку молодая женщина произвела на свет сына. Помогал ей при родах восьмидесятилетний могильщик, закутанный в саван. Когда новорожденное дитя издало свой первый крик, старик начал молиться: «Великий Боже, неужели Ты послал нам наконец Мессию? Ибо кто иной, как не сам Мессия может родиться в могиле?» Но через три дня поэт увидел, как ребенок сосет слезы своей матери, потому что у нее не было молока.
Этот рассказ, превосходящий всякое человеческое воображение, обладает не только ни с чем не сравнимой эмоциональной, но и огромной символической силой. Когда я читал его в первый раз, мне еще очевиднее, чем прежде, предстала мысль о том, что наши христианские символы, взятые из евангельских рассказов, утратили большую долю своей силы из-за частого их повторения и поверхностного понимания. Позабыто, что ясли в рассказе о Рождестве символизировали собою совершенную бедность и страдание, покуда не стали местом явления ангелов, местом, на которое указывает звезда. Позабыто и о том, что гробница Иисуса была концом Его жизни и трудов, покуда не стала местом Его окончательного торжества. Мы стали нечувствительными к огромному напряжению, заключенному в словах апостольского Символа веры: «страдал… был распят, умер и погребен… воскрес из мертвых». Слушая его первые слова, мы уже знаем, каким будет его конец: «воскрес»; и для многих людей это не более чем неизбежный «хеппи-энд». Старый еврейский могильщик понимал все это лучше. Безмерное напряжение ожидания Мессии было для него реальностью. Эта реальность проявлялась в огромном контрасте между тем, что он видел вокруг себя, и надеждой, которую он питал.
Уровень напряжения подчеркивается последней частью рассказа. Через три дня дитя не было возвышено в славе; ребенок пил слезы своей матери, ибо ничего больше не было. Вероятно, он умер, и надежду старого еврея еще раз постигло крушение, как бывало уже бессчетное число раз. Никакого утешения из этого рассказа извлечь нельзя, не может тут быть счастливого конца – а как раз это и есть истина о нашей жизни. В книге Карла Барта «Кредо» есть один замечательный пассаж о слове «погребен» в апостольском Символе веры: «Человек погребен – и этим с очевидностью утверждается и запечатлевается (по видимости в его присутствии, фактически уже в его отсутствие), что он не имеет больше настоящего, как не имеет и будущего. Он стал исключительно прошлым. К нему есть доступ только через память и то лишь до тех пор, пока те, кто может и хочет его помнить, сами не будут погребены. И именно таково будущее, к которому спешит всякий смертный: быть погребенным». Эти слова описывают в точности ту же ситуацию, в которой старый благочестивый еврей возносил свою молитву: «Великий Боже, неужели Ты послал нам наконец Мессию?»
Мы часто скрываем серьезность «погребения», о котором говорится в «Кредо» и которое имеет отношение не только ко Христу, но и к нам самим, тем, что воображаем, будто не мы будем погребены, но лишь сравнительно неважная наша часть – физическое тело. Но в «Кредо» под словами о погребении подразумевается не это. Иисус Христос, о котором говорится, что Он страдал, был погребен и был воскрешен, – один и тот же человек. Он был погребен, Он – вся Его личность – исчез с лица земли. То же самое справедливо и по отношению к нам. Мы умрем, мы – наши личности, от которых мы не можем отделить наше тело как случайную часть, – должны быть погребены.
Только если мы отнесемся к выражению «погребен» в евангельских рассказах с полной серьезностью, сможем мы оценить рассказы о Пасхе и слова могильщика: «Кто еще, кроме Мессии, может родиться в могиле?» В его вопросе есть два аспекта. Только Мессия может сотворить рождение из смерти. Это не природное событие. Оно случается не каждый день, а в день Мессии. Это – самая удивительная, самая глубокая и самая парадоксальная тайна существования. Доводы в пользу бессмертия якобы лучшей нашей части не могут вызвать жизнь из могилы. Вечная жизнь наступает только с приходом «новой реальности», века Мессии, который, в соответствии с нашей верой, уже наступил в Иисусе как Христе.
Но в утверждении, что никто другой, кроме самого Мессии, не может родиться в могиле, есть и другая сторона, которую, быть может, благочестивый еврей осознавал меньше. Христос должен быть погребен, чтобы быть «Христом» – именно Тем, кто победил смерть. Евангельский рассказ, который мы слышали, удостоверяет нам реальность и бесповоротность смерти и погребения Иисуса. Женщины, высшие священники, воины, опечатанный камень – все они призваны свидетельствовать о реальности конца. Нам следует более внимательно прислушаться к этим свидетельствам, к тем, кто рассказывает нам – с ликованием или цинизмом – о том, что Иисус Христос был погребен, что Он навсегда ушел с лица земли, что в нашем мире от Него не осталось никаких ощутимых следов. Нам следует прислушаться и к другим, к тем, кто говорит в сомнении и отчаянии: «Но мы верили, что именно Он должен был спасти Израиль». Нетрудно услышать оба эти голоса сегодня – в мире, где так много мест, подобных еврейскому кладбищу в Вильно. Эти голоса можно услышать даже в нас самих, ибо каждый из нас должен слышать их в самом себе.
А если мы их слышим, что можем ответить им? Давайте выясним это для себя. Ответ Пасхи не является необходимым. На самом деле счастливые концы встречаются лишь в искажающих реальность фильмах. Однако Пасхальный ответ стал возможным именно потому, что Христос был погребен. Новая жизнь не была бы действительно новой жизнью, если бы не происходила из полностью оконченной старой жизни. В противном случае она должна быть погребена снова. Но если новая жизнь вышла из могилы, значит явился Сам Мессия.
21. Уничтожение смерти
А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть Диавола, и избавить тех, которые от страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтоб быть милостивым и верным Первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа, ибо, как Сам Он претерпел, быв искушён, то может и искушаемым помочь.
Евр. 2:14–18
Тьма, в которую светит свет Рождества, – это прежде всего тьма смерти. Угроза смерти, отбрасывающая свою тень на весь путь нашей жизни, – это мрачный фон ожидания человечеством Пришествия. Смерть – не просто ножницы, обрезающие нить нашей жизни, как это выражено в знаменитом древнем символе; скорее, это одна из тех нитей, что вплетены в узор нашего существования, с самого его начала до самого конца. Неизбежность смерти присутствует в каждый миг нашей жизни как сила, формирующая все наше телесное и душевное бытие. Лицо каждого человека несет следы присутствия смерти в его жизни, следы его страха перед смертью, его мужества, противостоящего смерти, и его смирения перед смертью. Согласно нашему тексту, это ужасающее присутствие смерти ввергает человека в кабалу и рабство на всю жизнь. Пока я пребываю в страхе, я не свободен; я не волен действовать так, как велит ситуация, а обязан действовать так, как предписывают мне картины и фантазии, порождаемые страхом. Ведь страх, прежде всего, есть страх перед неизвестным, и мрак неизвестности наполняется образами, созданными страхом. Это справедливо даже в отношении событий обыденной жизни: незнакомое лицо наводит на младенца страх; неведомая воля родителей и учителей порождает страх в ребенке; страх порождают и все неизвестные последствия любой ситуации или новая задача; страх этот есть ощущение, внушающее тебе, что ты не в состоянии совладать с ситуацией. Все это в полной мере применимо и к смерти – полнейшей неизвестности, тьме, где вообще нет света, где меркнет и исчезает даже воображение, той тьме, где прекращается всякое действие и контроль над ним и в которой все, чем мы были, заканчивается; к идее, неизбежной и невозможной в одно и то же время, к реальному и предельному предмету страха, из которого черпают свою силу все другие страхи, того страха, что овладел даже Христом в Гефсимании.
Но следует спросить: в чем причина этого страха? Не конечны ли мы, не ограничены ли, разве в состоянии мы вообразить или пожелать бесконечное продолжение нашей конечности? Не было бы такое продолжение более страшным, чем смерть? Разве нет в нас чувства завершенности, удовлетворения и усталости по отношению к жизни, подобного чувствам ветхозаветных патриархов? Разве закон – «из праха в прах» – не естественный закон? Но тогда почему он выступает как проклятие в рассказе о Рае? В смерти должно быть нечто более глубокое, таинственное, нежели наша естественная печаль, сопровождающая осознание нашей скоротечности. Павел указывает на это, называя смерть возмездием за грех, а грех – жалом смерти. И наш текст тоже говорит о том, у кого власть смерти, о дьяволе – объединенной власти греха и зла. Смерть хотя и естественна для каждого конечного существа, по-видимому в то же самое время выступает против естества. Сознательно встретить свою смерть лицом к лицу способен только человек; это составляет его величие и достоинство. Именно это позволяет ему взглянуть на свою жизнь в целом, жизнь, имеющую определенные начало и конец. Именно это позволяет человеку спрашивать о смысле своей жизни, задавать вопрос, поднимающий его над своей жизнью и дающий ему ощущение своей вечности. Знание человека о том, что он должен умереть, есть также и его знание о том, что он – выше смерти. Таково человеческое предназначение – быть смертным и бессмертным в одно и то же время. И теперь мы знаем, что это такое – жало смерти, и почему у дьявола власть смерти: мы утратили наше бессмертие. Предельный страх смерти рождается не из-за того, что мы смертны, но из-за того, что мы утратили нашу вечность по ту сторону нашей естественной и неизбежной смертности, из-за того, что мы утратили ее благодаря греховной отделённости от Вечного, из-за того, что мы виновны в этой отделённости.
Быть в рабстве у страха смерти в течение жизни означает пребывать в рабстве у страха смерти, которая есть природное явление и вина одновременно. В страхе смерти сохраняется не только знание нашей конечности, но также и знание о нашей бесконечности, нашей предопределенности к вечности и нашей утрате вечности. Мы рабы страха не потому, что должны умереть, но потому, что заслуживаем смерти!
Следовательно, спасение – не магическое действие, посредством которого мы расстаемся со своей конечностью. Оно, скорее, приговор, возвещающий нам, что мы не заслуживаем смерти, потому что оправданы; приговор, основанный не на делах наших, ибо тогда, без всякого сомнения, мы бы в него не верили. Но этот приговор основан на чем-то, что создала сама Вечность; на чем-то, что мы можем видеть и слышать; на реальности смертного человека, который своей собственной смертью победил того, у кого власть смерти.
Если Рождество и имеет хоть какой-нибудь смысл, то только этот. Слушая пророчества о Пришествии и рассказы о Рождестве, спросите самих себя: изменилось ли ваше отношение к смерти, по-прежнему ли вы находитесь в рабстве у смерти, можете ли вы вынести образ своей собственной смерти? Не обманывайте самих себя относительно серьезности смерти – не смерти вообще, не чьей-либо смерти, но своей собственной – приятными доводами в пользу бессмертия души. Христианская весть более реалистична, чем эти доводы. Она знает, что мы, именно мы (а не какая-нибудь наша часть) должны умереть. И внутри христианства имеется только один «довод» против смерти: прощение грехов и победа над тем, у кого власть смерти. Христианство говорит о пришествии к нам Вечного, которое стало временным, чтобы восстановить нашу вечность. Человек как целое – смертен и бессмертен в одно и то же время; человек как целое – подвластен времени и вечен в одно и то же время; человек как целое осужден и спасен в одно и то же время, ибо Вечное приняло участие во плоти, крови и страхе смерти. Такова весть Рождества.
22. Вот, я делаю новое
Так говорит Господь,
Открывший в море дорогу,
В сильных водах стезю.
Но вы не вспоминайте прежнего,
И о древнем не помышляйте.
Вот, Я делаю новое,
Ныне же оно явится.
Неужели вы и этого не хотите знать?
Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне!
Ис. 43:16, 18–19
Вслушаемся в слова Ветхого Завета и Нового Завета, говорящие о том новом, что Бог делает в жизни и истории:
Вот наступают дни, говорит Господь,
Когда Я заключу с домом Израиля
И с домом Иуды новый завет.
Не такой завет, какой Я заключил с отцами их
В тот день, когда взял их за руку,
Чтобы вывести их из земли египетской;
Тот завет Мой они нарушили,
Хотя Я оставался в союзе с ними.
Но вот завет, который Я заключу
С домом Израилевым после тех дней,
Вложу закон Мой во внутренность их
И на сердцах их напишу его,
И буду им Богом,
А они будут Мом народом…
Потому что Я прощу беззакония их
И грехов их уже не воспомяну более.
Иер. 31:31–34
/Так говорит Господь:/