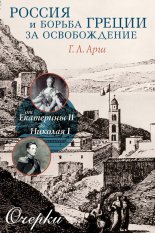Бесспорное правосудие Джеймс Филлис
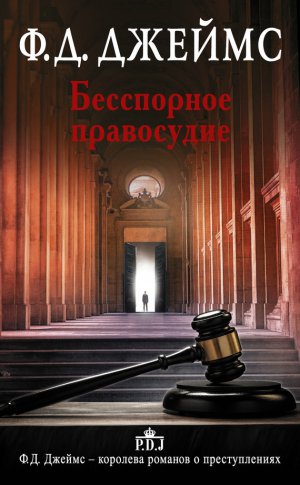
– Ваша дочь сказала: «Я это сделала, чтобы расплеваться с этой чертовой школой».
«Наконец мне честно ответили», – подумала Венис.
– Монастырь находится в ведении англо-католических монахинь, но вам не стоит бояться жесткого религиозного воспитания. Мать-настоятельница с уважением относится к пожеланиям родителей.
– Октавия может преклонить колена при совершении таинств, если это доставит ей удовольствие и принесет пару хороших оценок.
И все-таки этот разговор вселил в Венис надежду. У девочки, которая в таких выражениях говорила с мисс Эгертон, по крайней мере был характер. Возможно, у них с Октавией еще найдется некая точка соприкосновения. Пусть не любовь, но уважение, даже симпатия могут возникнуть. Но стоило Октавии вернуться домой, как ей стало ясно: ничего не изменилось. В глазах дочери был все тот же холодный взгляд, говоривший о непримиримой вражде.
Монастырь оправдал себя в том смысле, что Ок-тавия оставалась в нем до семнадцати лет и получила пристойные оценки за среднюю школу. Однако Венис во время посещения монастыря всегда чувствовала себя не в своей тарелке, особенно встречаясь с настоятельницей. Она не могла забыть их первый разговор.
– Надо смириться с тем, мисс Олдридж, что Октавия как ребенок разведенных родителей всю свою жизнь будет ощущать себя обездоленной.
– В таком же положении находятся тысячи других детей, так что ей лучше принять все как есть.
– В этом мы постараемся ей помочь.
Венис с трудом подавила вспышку раздражения. Какое право имеет эта женщина с пористым лицом и суровыми глазами под очками в металлической оправе выступать в роли прокурора? Потом она поняла, что обидеть ее не хотели, оправданий не ждали и утешения не предлагали. Просто настоятельница жила по правилам, одно из которых гласило, что за все надо платить.
Сейчас, поглощенная мыслями о последних событиях, сердитая на Октавию и себя, Венис, не понимая, как справиться с обрушившейся бедой, не заметила, как дошла до «Чемберс». За столиком администратора сидела Валерия Колдуэл и смотрела с непроницаемым лицом на входящую Венис.
– Не знаете, мистер Костелло у себя? – спросила Венис.
– Думаю, да, мисс Олдридж. После обеда он пришел и, кажется, никуда не отлучался. А еще мистер Лэнгтон просил дать ему знать, когда вы придете.
Значит, Лэнгтон хочет ее видеть. Она может зайти к нему прямо сейчас. Саймон Костелло подождет.
В кабинете Хьюберта находился и Дрисдейл Лод. Неудивительно: эти двое часто работали вместе.
– Дело касается общего собрания в «Чемберс» тридцать первого. Ты придешь, Венис? – спросил Лод.
– Разве я обычно не прихожу? С тех пор как мы собираемся дважды в год, я больше одного собрания не пропускаю.
– Есть кое-что, о чем нам хотелось бы знать ваше мнение, – сказал Лэнгтон.
– Наверное, хотите по возможности избежать на собрании разногласий и потому проводите предварительное лоббирование? Не будьте столь оптимистичны.
– Во-первых, нужно решить, кого нам взять. В коллегии есть два места. Выбор сделать нелегко, – заговорил Лод.
– Разве? Перестань, Дрисдейл. Не говори, что не припас местечко для Руперта Прайс-Маскелла.
– У него прекрасные рекомендации от руководителя, и в «Чемберс» его хорошо знают, – вмешался Лэнгтон. – Подготовка замечательная – Итон, Кингз, и везде окончил с отличием.
– Еще он племянник лорда-судьи, его прадед возглавлял коллегию, а мать дочь графа, – съехидничала Венис.
– Надеюсь, ты не хочешь сказать, что мы… мы… – нахмурился Лэнгтон. Он замолчал, его лицо выражало замешательство. – Не хочешь сказать, что мы действуем под давлением?
– Нет. Просто нелогично и непростительно применять политику дискриминации против итонцев, как и против любой другой группы. Хорошо, когда нужный вам кандидат обладает к тому же и лучшей подготовкой. Но вам не придется уговаривать меня голосовать за Прайс-Маскелла, я и так собиралась это сделать. Через двадцать лет он будет такой же высокопарный, как и его дядя, но, если принимать во внимание степень высокопарности, нельзя избирать никого из представителей вашего пола. Предполагаю, второй кандидат Джонатан Сколлард? Он не столь эффектен, но, возможно, со временем покажет лучшие и более стабильные результаты.
Лод подошел к окну и произнес невыразительным и спокойным голосом:
– Мы думали о Кэтрин Беддингтон.
– Все мужчины в «Чемберс» много думают о Кэтрин Беддингтон, но у нас не конкурс красоты. Сколлард – сильнее как адвокат.
Вот в чем дело. Она поняла это, как только вошла в кабинет Хьюберта.
– Не думаю, что наставник Кэтрин согласится с тобой. Он дал ей прекрасную характеристику. У нее отличные мозги, – вмешался Лэнгтон.
– Еще бы! Будь она дурочкой, ей никогда бы не получить практику в «Чемберс». Кэтрин Беддингтон украсит коллегию адвокатов и будет способствовать ее хорошей работе, и все же она не такой талантливый адвокат, как Джонатан Сколлард. Я ее поручитель, не забывайте. У меня к ней особый интерес, и я видела ее работу. Она не производит такого глубокого впечатления, как считает Саймон. Например, когда на конференции я обсуждала вопросы права в отношении непредумышленного убийства, то рассчитывала, что стажер знает уместность моего обращения к делам Доусона и Эндрюса. Эти дела она должна была знать еще до прихода в «Чемберс».
– Ты запугала девочку, Венис, – весело отозвался Лод. – Мне она кажется вполне сведущим юристом.
– Если она боится меня, что будет, если ей придется предстать перед судьей Картер-Райтом в тот день, когда у него разыграется геморрой.
Сколько еще они будут вилять, пока не решатся заговорить о главном? Как же не любят в «Чемберс» споры, открытые выяснения отношений! И как Хьюберту нужна поддержка Дрисдейла, два архиепископа, как всегда, действуют сообща. Может, так они хотят дать ей понять, что Дрисдейл наследник Хьюберта, а ей надо оставить надежду возглавить коллегию? Но тут они по крайней мере знают, что ее голос будет иметь значение – более того, он может стать решающим.
Мужчины быстро переглянулись, она это заметила, а потом Дрисдейл сказал: «Ну, а как же вопрос равновесия? Мне казалось, мы договорились: если на вакантное место в «Чемберс» претендуют двое – мужчина и женщина, равные по квалификации…»
– Равной квалификации не бывает. Люди не клоны, – оборвала его Венис.
Лод продолжал, словно не заметил ее вмешательства:
– Мы решили, что при прочих равных условиях, в интересах равновесия отдаем предпочтение женщине.
– Когда говорят о полном равенстве кандидатов, это означает, что никто не хочет брать на себя ответственность за выбор.
В голосе Лэнгтона послышалась упрямая нотка:
– Но мы согласились, что в этом случае возьмем женщину. – И, подумав, прибавил: – Или чернокожего, если такой найдется.
Это было уже слишком. До сих пор сдерживаемый гнев Венис выплеснулся наружу:
– Женщина? Чернокожий? Как удобно ставить нас в один ряд. Жаль, что у нас нет чернокожей лесбиянки, которая к тому же была бы матерью-одиночкой с инвалидностью. Тогда мы одним махом убили бы четырех политкорректных зайцев. И большой поклон от меня. Неужели вы думаете, что успешной женщине приятно сознавать, что своей карьерой она обязана добреньким мужчинам, которые незаслуженно пропустили ее вперед? Джонатан Сколлард талантливее Кэтрин, и вы это знаете. И он знает. Неужели Кэтрин Беддингтон выиграет, если Джонатан станет всем рассказывать, что не получил места, потому что его отдали более слабому конкуренту – женщине? Какие уж тут равные возможности!
Лэнгтон бросил взгляд на коллегу и продолжил:
– Не уверен, что репутация нашей коллегии улучшится, если на нас будут смотреть как на группу женоненавистников, не желающих замечать изменения в обществе и профессии.
– Репутация «Чемберс» зиждется на высоком профессионализме ее адвокатов. Нас немного, но здесь нет случайных людей. Напротив, мы собрали лучших лондонских специалистов. Чего вы боитесь? На вас что, давили?
После недолгого молчания Лэнгтон сказал:
– Скажем, были неформальные предостережения.
– Вот как! И могу я спросить, откуда ветер дует? Не женская ли инициативная группа «Редресс»? Впрочем, они осуждают женщин, не помогающих представительницам своего пола, – банкиров, бизнес-леди, юристов, издателей, топ-консультантов. У них есть список женщин, не оказывающих в полной мере помощь своим сестрам. Неудивительно, что я тоже в нем нахожусь. Думаю, кто-то прислал вам экземпляр их газетенки. В последнем номере как раз упоминали меня. Возможно, даже очернили. Прислушаюсь к совету Генри Мейкинза. Если он найдет там основания для предъявления иска, я подам на них в суд.
– Разумно ли это? – сказал Лод. – Если они не застрахованы, ты ничего не получишь. Стоит ли игра свеч?
– Возможно, не стоит, но такой грязной и порочной прессе, какая у нас есть сегодня, нельзя потакать и давать ощущение вседозволенности. Все мы знаем, что так называемых судейских обычно не трогают. Вспомните медиамагната Роберта Масвелла. Я могу воспользоваться услугами Генри Мейкинза, а «Редресс» нет. Если вас так беспокоит репутация адвокатов, почему не подумать об этом неравенстве? Сколько стоит час твоего времени, Дрисдейл? Четыреста фунтов? Пятьсот? Правосудие фактически недоступно большинству людей. И добиться здесь равноправия гораздо труднее, чем устроить нескольких женщин на работу, для которой у них недостает квалификации…
Венис оборвала речь. Мужчины молчали.
– А в чем заключается вторая проблема? Вы сказали, что их две. Полагаю, речь идет об уходе на пенсию Гарри Нотона?
– В конце этого месяца Гарри исполнится шестьдесят пять, – сказал Лэнгтон. – Контракт у него заканчивается, но ему хотелось бы продлить его еще на три года. Его сын Стивен поступил в Редингский университет. Только что приступил к занятиям на первом курсе. Для них это большая радость. Но это означает, что юноша не будет зарабатывать, и это их напрягает. Им удастся справиться с ситуацией, но, если Гарри продержится здесь год-другой, будет легче.
– Еще на три года его вполне хватит. Если здоровый мужчина хочет работать, ему рано выходить на пенсию в шестьдесят пять, – прибавил Лод. – Можно дать ему отсрочку с возможностью ежегодного продления и посмотреть, что из этого выйдет.
– Он вполне компетентный старший клерк, – согласилась Венис. – Добросовестный, методичный, аккуратный, и деньги получает вовремя. У меня нет к нему никаких претензий, но с того времени, как он сменил здесь своего отца, многое изменилось. Он не старается идти в ногу с новыми технологиями. Правда, есть еще младшие клерки, Терри и Скотт. Этому поколению все новое дается легко, поэтому мы здесь не проиграли. Мне нравится Гарри. Нравится его учебный плакат, личный архив и маленькие флажки, отмечающие наши достижения. Но и ему надо вовремя уходить. Как и всем нам. Вы знаете мою точку зрения. Нам в «Чемберс» нужен менеджер. Если мы собираемся расширяться – а мы уже расширяемся, – главный офис и службы нуждаются в модернизации.
– Ему будет тяжело уйти. Он отдал тридцать девять лет нашей коллегии адвокатов, до него здесь работал старшим клерком его отец.
– Господь с тобой, Хьюберт, – вскричала Венис. – Ты ведь его не увольняешь! Он проработал здесь тридцать девять лет и достиг пенсионного возраста. У него будет пенсия, и, конечно, ему еще что-то дадут в виде бонуса. Естественно, ты хочешь, чтобы он остался. Тогда можно будет потянуть с принятием другого трудного решения. Ты хочешь еще на три года забыть о том, в чем действительно нуждается «Чемберс», и ничего не предпринимать. А сейчас, простите, мне нужно работать. Ответы на свои вопросы вы получили. Если мой голос чего-нибудь значит, тогда Джонатан Сколлард получит второе место, а с Гарри контракт не продлят. И пожалуйста, вы оба, включите наконец мозги! Почему не принимать взвешенные решения?
Мужчины молча смотрели, как она идет к двери. «Боже, – подумала Венис, – какой ужасный день! Просто кошмар! А теперь надо еще прищучить Саймона Костелло». Дело, конечно, терпит, но ей не хотелось его откладывать: нет настроения проявлять милосердие к мужчинам. Но напоследок надо еще кое-что сказать этим архиепископам. Остановившись у двери, она взглянула на Лода.
– И не бойтесь обвинения в женоненавистничестве. После Хьюберта я старший член коллегии и, став главой «Чемберс», поправлю картину.
Глава седьмая
Эш сказал, что будет у нее на Пелхем-плейс в шесть тридцать, и Октавия уже к шести часам была готова и ждала его, беспокойно переходя из небольшой кухоньки к окну слева от гостиной, откуда сквозь цокольные решетки открывался подход к дому. Впервые она сама приготовила для него ужин, впервые он войдет в ее дом. До сих пор он сам звал ее куда-то, а если Октавия приглашала его войти, говорил с таинственным видом: «Еще не время». Она ломала голову, не понимая, чего он ждет. Большей уверенности в правильности выбора, нужного момента для символического вступления в ее жизнь? В себе она не сомневалась. Она любит его. Он ее мужчина, ее человек, ее возлюбленный. У них еще нет близости, но она будет. Всему свое время. Сейчас ей достаточно радостной уверенности в том, что она любима. Октавии хотелось, чтобы об этом знали все. Вот бы поехать с ним в монастырь, похвастаться – пусть эти высокомерные девчонки знают, что и у нее может быть мужчина. Ей хотелось обычных вещей – обручального кольца, подготовки к свадьбе, обустройства общего дома. О нем нужно заботиться, его нужно любить.
Одну грань его власти она не полностью осознавала. Эш был опасен. Она не знала, насколько опасен и чем именно, но одно точно знала: он не из ее круга. И не из тех кругов, которые были ей известны или могли быть известны. Находясь с ним, Октавия испытывала не только восторг и волнение нарастающего желания, но и дрожь близкой опасности, это питало ее бунтарское начало, и она чувствовала, что впервые живет в полную силу. У них был не просто любовный роман, но и братство товарищей по оружию, союз наступательный и оборонительный против домашнего конформизма, против ее матери и того, что было матери дорого. И мотоцикл был частью такого Эша. Обхватив юношу руками, она чувствовала стремительный поток холодного ночного воздуха, видела дорогу, бегущую серебристой лентой под колесами, и ей хотелось кричать от радости и торжества.
Она не встречала никого, похожего на Эша. Он держался с ней безукоризненно, почти строго. При встрече целовал в щеку или подносил ее руку к губам. И никаких других прикосновений, отчего желание разгоралось в ней с такой силой, что его трудно было скрывать. Октавия знала, он не любит, когда к нему прикасаются, но с трудом отрывала руки.
Эш никогда не говорил, куда повезет ее, и Октавию это устраивало. Обычно они приезжали в какой-нибудь загородный ресторан – похоже, он не любил лондонские питейные заведения и редко туда заглядывал. Эш также с презрением относился к шикарным загородным ресторанчикам с аккуратно припаркованными «Порше» и «БМВ», подвешенными цветочными корзинами, залом с пылающим камином, искусно продуманным интерьером в псевдодеревенском стиле, однообразной ресторанной пищей и уверенными, громкими голосами преуспевающих людей. Он предпочитал немодные, тихие места, где коротали время за выпивкой сельские жители, усаживал ее в углу, приносил, что она просила – херес или полпинты светлого пива, а себе брал полпинты обычного. Из еды обычно заказывал сыр или паштет с французской булкой, Октавия болтала, а он слушал. О себе Эш рассказывал мало. Она чувствовала, юноша хочет, чтобы она знала, как досталось ему за эти годы, и в то же время он не выносил жалости. Если она задавала вопрос, он отвечал кратко, иногда односложно. Казалось, он постоянно себя контролирует, как контролировал, когда решал, сколько будет жить у очередных приемных родителей. Октавия приучилась не ступать на опасную почву. Поев, они перед возвращением в Лондон с полчаса гуляли на природе; Эш уверенно шагал впереди, она семенила следом.
Иногда молодые люди выбирались на побережье. Эшу нравился Брайтон. Его мотоцикл с ревом несся по Роттиндинской дороге, откуда открывался прекрасный вид на Ла-Манш; там они останавливались в каком-нибудь придорожном кафе, ели, а затем ехали к холмам Даунса. Хотя Эш не любил модные заведения, но в еде был привередлив. Решительно откладывал в сторону несвежую булочку, суховатый сыр, прогорклое масло.
– Не ешь эту дрянь, Октавия, – говорил он.
– Не так уж это и плохо, дорогой.
– Не ешь. Лучше купим чипсы по дороге домой.
Вот это ей и нравилось больше всего – сидеть на обочине, смотреть, как мимо проносятся автомобили, вдыхать запах чипсов и теплой, жиронепроницаемой бумаги, испытывать радость от неограниченной свободы и в то же время чувствовать себя защищенной в их обособленном мире. А красный «Кавасаки» был одновременно гарантом и символом свободы.
Но сегодня Октавия сама приготовит ему ужин. Она остановилась на стейке. Все мужчины любят мясо. Мясник выбрал отличную вырезку, и сейчас перед ней на тарелке лежали два больших куска мяса – в последнюю минуту она положит их на решетку. У «Маркса и Спенсера» Октавия купила свежие, уже подготовленные овощи – горошек, морковь и молодой картофель. На десерт будет лимонный торт. Стол был накрыт. Она купила свечи и позаимствовала из гостиной матери два серебряных подсвечника. Октавия внесла их на кухню, где экономка матери, миссис Бакли, чистила картошку, и объявила без всяких предисловий:
– Если мама спросит, где подсвечники, скажи, что я взяла.
И, не дожидаясь ответа, направилась к бару и под неодобрительным взглядом миссис Бакли вынула оттуда первую попавшуюся бутылку бордо. Женщина открыла было рот, чтобы выразить свое недовольство, но передумала и продолжила работу.
«Глупая старая корова, – подумала Октавия, – какое ей дело? Возможно, она подсматривает из-за штор, кто идет. А потом мигом к Венис, чтобы сообщить. Ну и пусть. Теперь это не важно».
Стоя у дверей с подсвечниками в одной руке и бутылкой вина – в другой, она сказала:
– Может, откроете мне дверь. Разве не видно, что у меня заняты руки?
Миссис Бакли молча подошла к двери и открыла. Октавия выскользнула из кухни и услышала, как дверь за ней захлопнулась.
Спустившись в собственную гостиную, она с удовлетворением оглядела стол. Со свечами все выглядит иначе. Октавия не забыла и о цветах – хризантемы бронзового цвета.
Гостиная, которую она никогда не любила, выглядела нарядно и празднично. Может быть, сегодня вечером они займутся любовью.
Эш пришел точно в срок – как всегда, без тени улыбки, и, как только она открыла дверь, сказал:
– Бери все для мотоцикла. Я должен тебе кое-что показать.
– Но, дорогой, я ведь сказала, что приготовлю ужин. Стейки готовы для жарки.
– Это подождет. Съем, когда вернемся. Сам за-жарю.
Спустя несколько минут Октавия вернулась с шлемом в руках и, застегивая молнию на кожаной куртке, спросила:
– А куда мы едем?
– Там увидишь.
– По твоему тону можно подумать, что это важно.
– Действительно важно.
Больше вопросов она не задавала. Через пятнадцать минут они были в Холланд-парке и, повернув, направились к Уэствэю. Еще пять минут – и Эш подкатил к одному из домов. Октавия уже поняла к какому.
Вокруг царила полная разруха, казавшаяся еще более нереальной от падавшего сверху яркого света. По обеим сторонам улицы тянулись дома, огороженные чем-то напоминавшим по виду листы рыжеватого металла. Дома были все одинаковые, каждый состоял из двух квартир с отдельным боковым входом и крыльцом под навесом. На нижнем этаже – и на более высоких – были трехстворчатые окна, завершали строения треугольные фронтоны; все окна и двери были забиты досками. За выломанными оградами виднелись отдельные сохранившиеся кустарники, у некоторых розовых кустов были оторваны или сломаны ветки.
Эш провел мотоцикл вдоль бокового входа дома номер 397, Октавия следовала за ним.
– Подожди здесь, – сказал Эш.
Ловким движением он подтянулся и перемахнул через калитку. Через мгновение Октавия услышала звук отодвигаемого засова. Пока Эш вводил мотоцикл, она придерживала калитку.
– А кто живет рядом? – спросила девушка.
– Женщина по фамилии Скалли. Она уехала. Этот дом последний их тех, что нужно освободить.
– Он твой?
– Нет.
– Но ты здесь живешь?
– До сих пор жил. Теперь нет.
– Электричество не отключили?
– Пока нет.
Октавия мало чего могла разглядеть в саду. Различила только контуры небольшого сарайчика. Наверное, здесь он хранит свой мотоцикл, подумала она. Неподалеку валялся перевернутый пластиковый стол, темнели неровные контуры сломанных стульев. Росло какое-то дерево, но теперь от него остался только расщепленный ствол, таращившийся острыми сучьями в пылающий сине-малиновый закат. От пыли трудно дышалось, в воздухе пахло строительными отходами, известью и обуглившимся деревом.
Эш вытащил из кармана ключ и открыл заднюю дверь. Протянул руку к выключателю. Кухню неожиданно озарил неестественно яркий свет. Октавия увидела небольшую каменную раковину, дешевенький буфет с наполовину утраченными ручками, стол с замызганной и потрескавшейся пластиковой столешницей, четыре шатких стула. Здесь был уже новый запах – спертый запах плохо убираемого в течение долгого времени помещения, протухшей пищи, немытой посуды. Она видела, что Эш предпринимал попытки навести чистоту. В том, что касалось порядка, он был педантичен. Наверное, это место вызывало в нем отвращение. Чувствовалось, что он прибегал к дезинфицирующим средствам – их специфический запах витал в воздухе. Но избавиться от застарелого смрада не так просто.
Она не знала, что говорить, но Эш, видимо, не ждал от нее слов и сам никак зрелище не комментировал. Потом сказал:
– Пойдем – посмотришь коридор.
Коридор освещался высоко подвешенной голой лампочкой. Когда Эш нажал переключатель, Октавия открыла от изумления рот. Обе стены были обклеены цветными картинками, явно вырезанными из книг и журналов; яркий коллаж из глянцевых изображений слепил вибрирующим, мерцающим светом. Октавия переводила взгляд с одной стены на другую. Поверх прекрасных видов гор, озер, соборов, площадей были наклеены обнаженные женщины с раскинутыми ногами, голой грудью и задом, надутыми губками, а также мужчины с гениталиями, упакованными в сверкающие черные гульфики, – и все это в обрамлении гирлянд из полевых цветов, в окружении симметрично разбитых садов с аллеями и скульптурами, животными и птицами. А еще тут были серьезные, благородные и надменные лица, вырезанные из репродукций величайших мировых картин. Эти лица были размещены так, будто они взирали на беспорядочную чехарду из грубых сексуальных фигур с отвращением или аристократическим пренебрежением. На стенах не осталось ни дюйма свободного пространства. Коридор вел к парадной двери, стеклянную секцию которой забили снаружи досками. Сама дверь была сверху и снизу закрыта на тяжелые засовы, что вызвало у Октавии мгновенный приступ клаустрофобии.
Справившись с первоначальным изумлением, она сказала:
– Зрелище просто бредовое, но поразительно красивое. Это ты сделал?
– Вместе с тетей. Композиция моя, но идея ее.
Странно, что он все время называл ее «тетей» и – никогда по имени. Что-то в его голосе наводило на мысль о легком пренебрежении, фальши и о тщательно скрываемом более сильном чувстве. И еще – в нем звучало предостережение.
– Мне нравится, – сказала Октавия. – Это талантливо. Действительно талантливо. Можно сделать что-нибудь в таком духе и у нас в квартире. Но на это уйдет много месяцев.
– У меня ушло два месяца и три дня.
– А где ты взял все эти картинки?
– В основном из журналов. Что-то украл.
– Из библиотек?
Октавия вспомнила, что читала о двух мужчинах, драматурге и его любовнике, сделавших то же самое. Они обклеили квартиру гравюрами из украденных в библиотеке книг, и об этом узнали. Интересно, их посадили?
– Нет, слишком рискованно. Я воровал книги из киосков, – ответил Эш.
– И скоро все это уничтожат. Тебе не жалко? Столько работы!
Она представила: огромный шар, раскачиваясь, про-бивает стены, волна песка и пыли вздымается удуш-ливым облаком, картинки ломаются и рушатся, как части пазла.
– Мне все равно, – сказал Эш. – Ничего в этом доме меня не радует. Его пора снести. Посмотри сюда. Это комната тети.
Он открыл дверь справа и протянул руку к выключателю. Комнату залил красный свет. Он шел не из центрального источника, а из трех ламп, стоящих на низких столиках под красными атласными абажурами с рюшками. Все утопало в красном. Казалось, дышишь кровью. Октавия бросила взгляд на руки, ожидая, что и они окрасятся красным. Тяжелые шторы на забитых окнах были из алого бархата. Обои украшали красные розочки. Большую, провисшую тахту у окна и два кресла по разным сторонам газового камина покрывали индийские хлопчатобумажные накидки ярко-красного, алого и золотистого цвета. У стены напротив камина стоял диван, покрытый серым одеялом, – единственное мрачное пятно в этой пестрой феерии. Перед камином на низком столике лежала колода карт и стеклянный шар.
– Тетя гадала, – сказал Эш.
– За деньги?
– За деньги. За секс. И ради развлечения.
– Она занималась любовью в этой комнате?
– Вон на том диване. Это было ее место. Все происходило здесь.
– А где был ты? Что делал? Я о том, где ты был, когда она занималась здесь сексом?
– Тоже здесь. Ей нравилось, когда я при этом присутствовал. Нравилось, чтобы я был рядом. Разве мать тебе не рассказывала? Она знала. На процессе об этом говорилось.
По голосу Эша нельзя было судить о его чувствах. Октавия поежилась. Ей хотелось спросить: «Тебе это нравилось? Почему ты не ушел? Ты любил ее?» Но это слово она не могла произнести. Любить… До сих пор она не понимала, что это значит, но одно знала точно: любовь не имела отношения к этой комнате.
– Это случилось здесь? Здесь ее убили? – спросила она почти шепотом.
– На этом диване.
Октавия в страхе посмотрела на диван и произнесла с некоторым удивлением:
– Но он такой чистый – словно ничего и не было.
– Диван был весь залит кровью, наматрасник унесли вместе с телом. Однако если поднимешь одеяло, увидишь пятна.
– Нет уж, спасибо. – Она старалась, чтобы голос не выдал ее волнение. – Это ты застелил его одеялом?
Эш не ответил, но смотрел на нее – она это чувствовала. Ей хотелось прижаться к нему, обнять, однако это был бы опрометчивый поступок, и не просто опрометчивый – он мог вызвать у него отвращение. От страха, волнения и чего-то еще – возбуждающего и постыдного – дыхание ее участилось. Ей хотелось, чтобы Эш отнес ее на диван и занялся бы с ней любовью. «Мне страшно, – думала Октавия, – зато я испытываю сильные чувства. Я живая».
Юноша все еще смотрел на нее.
– Мне хочется показать тебе еще кое-что. Это наверху, в темной комнате. Хочешь посмотреть?
Октавия вдруг почувствовала необходимость покинуть гостиную. Красный цвет бил в глаза.
– Конечно. Почему нет? – проговорила она небрежно. Но сразу добавила: – Тут был твой дом, ты здесь жил. Мне хочется увидеть все.
Эш стал подниматься по лестнице, Октавия следовала за ним. Ступени покрывал ковер со стертым рисунком, грязь глубоко въелась в его ворс, а местами он был до того изношен, что нога девушки раз попала в прореху, и, чтобы не упасть, ей пришлось вцепиться в перила. Эш не оглянулся. Октавия последовала за ним в глубину дома, в комнату, которая была настолько мала, что годилась разве что для кладовки, хотя, возможно, ей предназначалась роль спальни. К деревянной раме единственного, высоко расположенного окна была прибита полностью закрывающая стекло плотная черная ткань. Ниже располагались три полки. Справа на скамье стоял большой прибор, похожий на громадный микроскоп. Еще на скамье находились три прямоугольных пластиковых лотка с жидкостью. В комнате пахло чем-то сродни смеси аммиака и уксуса.
– Видела такую комнату раньше, – спросил Эш.
– Нет. Это и есть темная комната? А для чего она нужна?
– Ты что, ничего не знаешь о фотографии? У тебя разве нет фотоаппарата? У таких, как ты, обычно есть.
– У других девочек в школе фотоаппараты были. А я не хотела. Чего там снимать?
Октавия терпеть не могла так называемые особые дни – вручение аттестатов, праздник лета, рождественские службы, ежегодные игры. Она представила монастырский сад летом – мать-настоятельница смеется в обществе двух родительниц, бывших выпускниц, чьи дочери теперь учатся в той же школе, а вокруг толпятся и прыгают дети с фотоаппаратами в руках. «Посмотрите сюда, мать-настоятельница! Ну, пожалуйста! Мамочка, ты не смотришь в камеру!» Венис среди них не было. Она никогда не приезжала. Вечно – судебное заседание, собрание в «Чемберс», дела, которые нельзя отменить. Мать даже не приехала на представление «Зимней сказки», где Октавия играла Паулину.
– У нас в школе не было темной комнаты. Пленки проявляли в разных лабораториях, у «Бутса» например. А это все тебе подарила тетя?
– Да. Тетя купила фотоаппарат и все оборудование. Она хотела, чтобы я делал снимки.
– Какие снимки?
– Ее и партнера во время секса. Она любила их рассматривать.
– А где сейчас эти фотографии? – спросила Ок-тавия.
– Забрал стряпчий. Снимки требовались защите. Не знаю, где они сейчас. Снимки доказывали, что у тети были мужчины. Полиция их видела. Мужчин пытались найти, чтобы исключить из числа подозреваемых. Но нашли только одного, и у того было алиби. Не думаю, что других усердно искали. Ведь у них был я. Про-тив меня состряпали дело. Так зачем тратить время на сбор информации, которая не нужна? Вот так работает наша полиция. Найдут козла отпущения и под него ищут доказательства.
Неожиданно перед глазами Октавии предстала яркая, неприличная и бесстыдно волнующая картина: два голых тела, сплетясь, стонут на диване в красной гос-ти-ной, а Эш, стоя над ними, ищет нужный кадр – крутится вокруг, присаживается на корточки. У нее чуть не вырвалось: «Зачем ты это делал? Как она могла тебя заставить?», но она знала, что эти вопросы задавать нельзя. Октавия видела, как пристально он смотрит на нее внимательным, строгим взглядом.
– Знаешь, что это такое? – спросил Эш, положив руку на прибор.
– Нет, конечно. Говорю тебе, я совсем не разбираюсь в фотографии.
– Это увеличитель. Показать, как он работает?
– Если хочешь.
– Придется некоторое время побыть в темноте.
– Я не возражаю.
Он подошел к двери, выключил свет, затем вернулся к ней и поднял руку. Загорелась красная лампочка, окрасив мерцающим светом его пальцы. Одновременно в увеличителе зажегся маленький, белый огонек. Эш вынул из кармана конверт и вытащил из него маленький кусочек пленки – отдельный негатив.
– Тридцать пять миллиметров. Вставляю кадр в увеличитель, – объяснил он.
На белой доске, пересеченной рейками из черного металла, появилось изображение, которое Октавия не смогла разглядеть. Эш тем временем рассматривал его сквозь то, что напоминало небольшой телескоп.
– Что это? Ничего не могу разглядеть, – сказала Октавия.
– Со временем разглядишь.
Эш выключил свет в увеличителе, и теперь они оказались в полной темноте, если не считать красноватого мерцающего огонька. Эш вынул из коробки на нижней полке лист бумаги и положил его на доску, закрепив черными рейками.
– Ну, теперь скажи, что ты делаешь, – попросила Октавия. – Мне хочется знать.
– Прикидываю, какого размера сделать фото-графию.
Примерно на шесть-семь секунд он включил свет в увеличителе. Затем быстро натянул резиновые перчатки, приподнял рамку и окунул лист в первый лоток, слегка его качнув. Лист заколыхался и задвигался, словно живой. Октавия не могла отвести глаз от этого зрелища.
– А теперь смотри. – Его слова звучали как приказ.
И почти сразу на бумаге проявились черно-белые очертания. Все тот же диван, только теперь с постельным бельем в квадратиках и кружках. На диване лежало тело женщины. На ней не было ничего, кроме прозрачного неглиже, которое, распахнувшись, открыло темные волосы на лобке и белые, тяжелые, желеобразные груди. Спутанные кудри разметались на белой подушке. Рот приоткрыт, язык слегка высунут, словно женщину задушили. Черные глаза открыты, но взгляд мертвый. Ножевые раны в груди и животе зияли, как ротовые отверстия, из которых кровь сочилась, подобно черной слюне. Глубокий разрез проходил по горлу – и отсюда кровь изливалась потоком. Октавии казалось, что кровь и сейчас продолжает литься, а бьющий из раны фонтан стекает по груди на диван, а оттуда на пол. Фотография покачивалась в лотке, и девушка почти верила, что льющаяся кровь может окрасить жидкость в красный цвет.
Октавия прямо слышала ритмическое биение своего сердца. Наверняка он тоже его слышит. Казалось, в этой крохотной комнате работает динамо-машина.
– Кто это снял? – спросила она шепотом.
Эш ответил не сразу – изучал фотографию, словно проверял ее качество. Потом, мягко покачивая лоток, тихо произнес:
– Я снял. Когда вернулся домой и нашел ее.
– Еще до того, как позвонил в полицию?
– Конечно.
– Но зачем?
– Я всегда фотографировал тетю на этом диване. Она это любила.
– А ты не боялся, что полиция может найти пленку?
– Клочок пленки легко спрятать, а у них были нужные фотографии. Другого они не искали – только нож.
– Нашли его?
Эш молчал. Октавия переспросила:
– Так нашли они нож?
– Да, нашли. Его закинули в живую изгородь за четыре дома отсюда. Столовый нож из нашей кухни.
Руками в резиновых перчатках он вынул фотографию из раствора, макнул в жидкость второго лотка и тут же опустил в третий. Затем включил свет, окончательно извлек фотографию из последнего лотка, дал стечь раствору и, не выпуская ее из рук, почти бегом покинул комнату. Октавия последовала за ним в ванную рядом. Там, в ванне, стоял еще один лоток, в него по резиновой трубке из крана медленно стекала холодная вода.
– Приходится пользоваться ванной. В соседнюю комнату вода не проходит.
– А почему на тебе перчатки? Раствор что, ядо-витый?
– Во всяком случае, для рук не полезный.
Они стояли рядом, глядя, как фотография с кошмарным изображением покачивается и переворачивается под очищающей струей. «Эш все подготовил для сегодняшней встречи со мной, – подумала Октавия. – Он должен был это сделать. Хотел, чтобы я увидела. Это была проверка».
Она отвела взгляд от фотографии, пытаясь сосредоточиться на узком, неуютном помещении, на замызганной ванне с грязными, сальными краями, окошке из непрозрачного стекла, коричневом коврике у основания унитаза. «Она была старая, – думала Октавия. – Старая, уродливая, мерзкая. Как только он мог с ней жить?» Девушка вспомнила слова матери: «Его тетя была неприятной женщиной, но что-то их связывало. Почти наверняка они были любовниками. Он был одним из многих, но ему не приходилось платить». «Нет, не может быть», – думала Октавия. Мать просто хотела настроить ее против Эша. Но теперь она уже не сможет ничего сделать. Он открылся, он мне доверяет, мы принадлежим друг другу.
Неожиданно раздались голоса, крики, задняя дверь затрещала, словно кто-то ломился в дом. Не говоря ни слова, Эш бросился бежать вниз. Охваченная паникой, Октавия схватила фотографию и бросила ее в унитаз. Прямо в воде она сложила снимок вдвое и разорвала пополам, потом еще раз, и дернула ручку спуска. В бачке забулькало, из него вытекла тонкая струйка, и все кончилось. С подступившим к горлу рыданием Октавия второй раз дернула ручку. На этот раз вода с шумом хлынула вниз и унесла с собой глянцевое изображение. Задыхаясь от волнения, Октавия побежала вниз по лестнице.
На кухне Эш, прижав к стене юношу, держал у его горла кухонный нож. Глаза юнца со страхом и мольбой метнулись к ней.
– Если ты или твои кореша еще раз заберетесь сюда, я сразу узнаю, – говорил Эш. – И тогда держись. Я знаю одно местечко, где твой труп никогда не найдут. Понял?
Он провел ножом по шее парня. Тот в ужасе кивнул. Эш отпустил его, и юнец, хоть и налетел на дверной косяк, не остановился ни на секунду и скрылся в мгновение ока.
Эш хладнокровно положил нож в ящик.
– Один из местных, – сказал он. – Все они здесь варвары. – И заметив выражение лица Октавии: – Какая ты бледная. Что ты подумала?
– Что это полиция. Я разорвала фотографию и спустила ее в унитаз. Боялась, что увидят. Прости.
Ей вдруг стало страшно: что, если он будет недоволен, разозлится? Но он только пожал плечами и издал короткий, невеселый смешок.
– Да пусть видят. Могу даже продать это фото в воскресную газету, мне ничего не будет. За одно преступление дважды не судят. Ты разве не знаешь?
– Знаю. Просто не подумала. Прости.