Избранное. Теология культуры Тиллих Пауль
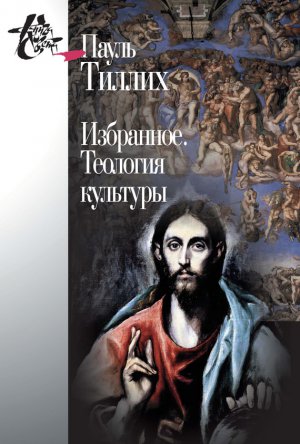
4. Время и иудаизм
Еврейский народ — народ времени в том смысле, в каком этого нельзя сказать ни об одном другом народе. Он представляет собой постоянную борьбу времени и пространства на протяжении всех эпох. Он способен существовать, несмотря на потери своего пространства, со времен великих пророков и до наших дней. Его судьба трагична, если смотреть на него как на народ пространства, подобный любому другому народу, но в своем качестве народа времени он вне трагедии. Он вне трагедии, потому что он вне круга жизни и смерти. Народ времени в Синагоге и церкви не может избежать преследований, ибо самим своим существованием он разбивает притязания богов пространства, которые выражают себя через волю к власти, империализм, несправедливость, демонический энтузиазм и трагическое саморазрушение. Боги пространства, которые сильны в каждой человеческой душе, в каждой расе и народе, боятся Господина времени, истории, справедливости, боятся Его пророков и последователей, стремятся лишить их власти и дома. Но именно таким образом эти боги вопреки собственной воле способствуют осуществлению целей истории и смысла времени.
Христианство отделилось от иудаизма, потому что, когда исполнилось время, иудаизм сделал выбор в пользу пространства, т. е. своего закона, который никогда не мог стать законом всех народов. Собрание Божье — Церковь, которая собирает все народы, — это конец религиозного национализма и трибализма, хотя бы даже и выраженного в терминах пророческой традиции. С другой стороны, Церкви всегда грозит опасность отождествления с национальной церковью, т. е. опасность оставить без ответа несправедливость, волю к власти, национальное и расовое высокомерие. Церкви всегда грозит опасность утратить профетический дух. Следовательно, этот дух, который сохраняется в традиции Синагоги, необходим до тех пор, пока имеют власть боги пространства, а это значит — до конца истории, что, вероятно, имел в виду Павел, первый христианский интерпретатор исторической судьбы иудаизма, в Послании к римлянам (главы 9-11).
Синагога и Церковь должны объединиться в наше время в борьбе на стороне Бога времени против богов пространства. Ведь сейчас более чем когда-либо с тех пор, как христианство преодолело язычество, боги пространства проявляют свою власть на душами и народами. Если это произойдет, если все, кто борется на стороне Господина истории, за Его истину и справедливость, объединятся даже под страхом преследований и мученичества, то вечная победа в борьбе пространства и времени вновь станет зримой как победа времени и единого Бога, который есть Господин истории.
IV. Аспекты религиозного
1. Анализ культуры
Если абстрагировать понятие религии от великих заповедей, то можно сказать, что религия — это состояние предельной заинтересованности тем, что есть и должно быть нашим предельным интересом. Это значит, что вера есть состояние захваченности предельным интересом, а Бог — имя, обозначающее содержание этого интереса. Такое понятие религии имеет мало общего с ее описанием как веры в существование высшего бытия, именуемого Богом, а также с теоретическими и практическими последствиями подобной веры. Вместо этого мы указываем на экзистенциальное, а не теоретическое понимание религии.
Христианство утверждает, что Бог, явивший Себя в Иисусе Христе, есть истинный Бог, истинный субъект предельного и безусловного интереса. Рядом с Ним все другие боги не могут считаться подлинными объектами предельного интереса, и если их таковыми делаются, они становятся идолами. Христианство имеет право претендовать на такое экстраординарное положение в силу экстраординарности событий, на которых оно основано: творения новой реальности в условиях трагического положения человека. Иисус, принесший новую реальность, подчиняется этим условиям конечности и тревоги, закону и трагедии, конфликтам и смерти. Но он победоносно сохраняет единство с Богом, принося себя как Иисуса в жертву — себе как Христу. Таким образом он творит новую реальность, которую в виде сообщества в истории воплощает Церковь.
Отсюда следует, что безусловное притязание христианства соотносится не с христианской Церковью, а с тем событием, на котором Церковь основана. Если она не подчиняется суждению, провозглашенному Церковью, то становится идолопоклоннической по отношению к себе самой. Такое идолопоклонство — ее постоянное искушение именно потому, что она носитель Нового Бытия в истории. В этом качестве она судит мир самим фактом своего присутствия. Но Церковь тоже принадлежит к миру и подлежит суду, которым она судит мир. Церковь, которая пытается исключить себя из такого суда, теряет право судить мир и справедливо осуждается миром. В этом трагедия католической церкви. Ее обращение с культурой основано на нежелании подчиниться суду, ею самой провозглашенному. Протестантизм, по крайней мере теоретически, противится этому искушению, хотя реально вновь и вновь по-разному в него впадает.
Второе следствие экзистенциальной концепции религии — исчезновение разделения между сферой сакрального и секулярного. Если религия — это состояние захваченности предельным интересом, то это состояние не может быть ограничено какой-либо особой сферой. Безусловный характер этого интереса подразумевает, что он затрагивает каждый момент нашей жизни, всякое пространство и все области. Вселенная — святилище Бога. Каждый трудовой день — день Господа, каждый ужин — Господня вечеря, каждый труд — исполнение божественной задачи, каждая радость — радость в Боге. В любом предварительном интересе присутствует, освящая его, предельный интерес. По существу религиозное и секулярное — области не разделенные. Точнее было бы сказать, что они располагаются одна в другой.
Но в действительности все обстоит иначе; в действительности секулярный элемент стремится стать независимым и создать собственную область. А в противовес этому религиозный элемент также стремиться утвердить себя как особую область. Эта ситуация и создает трагическое положение человека, так как возникает отчуждение человека от его истинного бытия. Можно справедливо утверждать, что существование религии как особой области — наиболее очевидное свидетельство падшести человека. Это не означает, что в условиях отчуждения, которое определяет нашу судьбу, религиозное должно быть поглощено секулярным, как того желает секуляризм, или же что секулярное должно быть поглощено религиозным, как того желает церковный империализм. Но это означает, что такое неразрывное разделение свидетельствует о трагическом положении человека.
Третье следствие, вытекающее из экзистенциальной концепции религии, касается отношения религии и культуры. Религия как предельный интерес есть субстанция, наделяющая смыслом культуру, а культура — это сумма форм, в которых выражается основополагающий интерес религии. Коротко говоря, религия — субстанция культуры, культура — форма религии. Такое понимание полностью препятствует возникновению дуализма религии и культуры. Всякое религиозное действие, не только в ситуации организованной религии, но также и в сокровеннейшем движении души, сформировано культурой.
Тот факт, что любое действие духовной жизни человека выражается посредством языка, вслух или мысленно — достаточное доказательство справедливости этого утверждения, ибо язык — основополагающее творение культуры. С другой стороны, нет такого творения культуры, в котором не выражался бы предельный интерес. Это относится и к теоретическим функциям духовной жизни человека, например, к художественной интуиции и когнитивному восприятию реальности, и к практическим функциям духовной жизни человека, например, к личной и общественной трансформации реальности. Предельный интерес присутствует в каждой из этих функций, во всем культурном творчестве человека. Непосредственное выражение предельного интереса — это стиль культуры. Тот, кто способен увидеть стиль культуры, может обнаружить ее предельный интерес, ее религиозную субстанцию. Это мы сейчас и попытаемся сделать на материале нашей современной культуры.
2. Особый характер современной культуры
Наша сегодняшняя культура должна быть описана в терминах одного преобладающего движения и все более мощного протеста против этого движения. Дух господствующего движения — это дух индустриального общества. Дух протеста — это дух экзистенциалистского анализа сегодняшнего трагического положения человека. Сформированный в XVII–XIX в и существующий поныне стиль нашей жизни выражает все еще не сломленную силу духа индустриального общества. Этот стиль мышления, жизни и художественного выражения не раз бывал предметом анализа. Одна из трудностей, возникающих при анализе этого стиля, — его динамический характер, постоянная изменчивость и то воздействие, которое уже оказало на него движение протеста. Тем не менее мы можем подробно разобрать две важнейшие характеристики человека в индустриальном обществе.
Первая из них — концентрация деятельности человека на методичном исследовании и техническом переустройстве своего мира, включая его самого, а также последовавшая за этим утрата глубины при встрече с реальностью. Реальность утратила свою внутреннюю трансцендентность, или, если применить другую метафору, свою прозрачность для вечного. Система конечных взаимосвязей, которую мы называем миром, стала самодостаточной. Она доступна расчетам и управлению и может быть улучшена ради нужд и желаний человека. С начала XVIII в. Бог был устранен из силового поля человеческой деятельности. Он был помещен рядом с миром без права вмешиваться в его жизнь, потому что всякое вмешательство могло бы нарушить технические и деловые расчеты человека. В результате Бог стал излишним, а мир был предоставлен человеку как его господину. Эта ситуация привела ко второй характеристике индустриального общества.
Чтобы осуществить свое предназначение, человек должен владеть творческими силами, аналогичными тем, что прежде приписывались Богу: следовательно, способность творить должна стать человеческим качеством. При этом не учитывается конфликт между тем, что определяет человека сущностно, и тем, каков он в действительности, т. е. его отчуждение, или, выражаясь традиционно, состояние падшести. В эпоху раннего индустриального общества смерть и вина исчезают даже из проповедей. Их признание было бы помехой для поступательного покорения природы человеком, как вне, так и внутри него. У человека есть изъяны, но нет греха, и, конечно же, не существует общечеловеческой греховности. Рабство воли, о котором говорит Реформация, демонические силы, вопрос о которых является центральным для Нового Завета, структуры разрушения в личной и общинной жизни — все это игнорируется или отрицается. Образование может приспособить большинство людей к требованиям системы производства и потребления, поэтому действительное положение человека ошибочно принимается за его сущностное состояние, и его изображают в процессе поступательного осуществления своих возможностей.
И это считается верным не только относительно человека как индивидуальности, личности, но и относительно людей как общности. Научное и техническое покорение пространства и времени рассматривается как путь к объединению человечества. Демонические структуры истории, конфликты власти в каждом реальном проявлении жизни рассматриваются как всего лишь временные помехи. Отрицается их трагический и неустранимый характер. Как Вселенная замещает собой Бога, как человек в центре Вселенной замещает Христа, также и ожидание Царства Божьего замещается ожиданием мира и справедливости в истории. Видение глубины в божественном и демоническом исчезает. Таков дух индустриального общества, запечатленный в стиле его творений.
Отношение церквей к этой ситуации было противоречивым. В какой-то мере они защищали себя, утверждая традиции прошлого в учении, культе и жизни. Однако при этом они использовали категории, созданные индустриальным духом, против которого сами боролись. Символы, в которых выражается глубина бытия, они снизили до уровня обыденного, двухмерного опыта. Они истолковывали их буквально и отстаивали их значимость, помещая сферу сверхъестественного над сферой естественного. Однако супранатурализм — всего лишь перевернутый натурализм, и наоборот. Они создают друг друга в бесконечной борьбе друг с другом. Они не могут существовать без своей противоположности.
Невозможность такой защиты традиции подтверждается другим способом, которым церкви реагировали и на дух индустриального общества. Они приняли новую ситуацию и попытались приспособиться к ней с помощью новой интерпретации традиционных символов в современных категориях. В этом определении есть даже заслуга того, что мы сейчас называем либеральной теологией. Но необходимо заметить, что в своем теологическом понимании Бога и человека либеральная теология за приспособление к современным условиям заплатила утратой вести о новой реальности, которую сохранили ее защитники — супранатуралисты. Оба способа реакции церквей на дух индустриального общества оказались неудовлетворительными.
В то время как натурализм и супранатурализм, либерализм и ортодоксия вели свою нерешительную борьбу, промысел истории приготовил другой способ соотношения религии с современной культурой. Эта подготовка совершалась в глубинах индустриальной цивилизации, подчас людьми, представлявшими ее крайние антирелигиозные проявления. Я имею в виду широкое движение, известное как экзистенциализм, которое началось с Паскаля, было продолжено несколькими профетическими умами в XIX в. и достигло полной победы в XX в Экзистенциализм в самом широком смысле — это протест против духа индустриального общества в рамках этого общества. Этот протест направлен против положения человека в системе производства и потребления в нашем обществе. Человек считается господином своего мира и самого себя. Но в действительности он стал частью созданной им реальности, объектом среди других объектов, вещью среди других вещей, винтиком во вселенской машине, к которой он должен приспособиться, чтобы она его не уничтожила. Но это приспособление превращает его в средство для достижения целей, которые и сами оказываются средствами, не имеющими предельной цели. Результатом этого трагического положения человека в индустриальном обществе стал опыт пустоты и отсутствия смысла, дегуманизация и отчуждение. Реальность утратила для человека смысл. Реальность в ее обыденных формах и структурах больше ничего ему не говорит.
Один из выводов отсюда состоит в том, что человек ограничивает себя частью реальности и защищается от вторжения мира в свою крепость. Это невротический способ, который становится психотическим, если реальность полностью исчезает. При этом происходит подчинение требованиям культуры и подавление вопроса о смысле. Однако у некоторых хватает сил, чтобы мужественно принять на себя тревогу и отсутствие смысла и жить творчески, выражая в произведениях культуры трагическое положение наиболее чутких людей нашего времени. Именно этот путь дал нам художественные и философские произведения первой половины XX в., которые творчески выражают деструктивные тенденции в современной культуре. Великие произведения изобразительного искусства, музыки, поэзии, литературы, архитектуры, балета, философии с помощью своего стиля обнаруживают и встречу с небытием, и силу, которая способна выдержать такую встречу и творчески ее выразить. Без такого ключа современная культура остается закрытой дверью. С помощью этого ключа она может быть понята как откровение о трагическом положении человека и в современном мире, и в мире вообще. Это делает элемент протеста в современной культуре теологически значимым.
3. Формы культуры, в которых реализуется религия
Форма религии есть культура. Это особенно ясно видно в языке, используемом религией. Каждый язык, в том числе язык Библии, — результат бесчисленных актов культурного творчества. Все функции духовной жизни человека основаны на его способности говорить — вслух или про себя. Язык — выражение свободы человека от заданной ситуации и ее конкретных требований. Он дает человеку универсалии, с помощью которых он может творить миры над заданным миром технической цивилизации, а также духовное содержание.
И наоборот, развитие этих миров определяет развитие языка. Не существует священного языка, упавшего со сверхъестественных небес и вложенного в переплет книги. Но существует человеческий язык, основанный на встрече человека с реальностью, меняющейся на протяжении тысячелетий, применяемый для нужд обыденной жизни, для выражения и общения, для литературы и поэзии, а также используемый для выражения и передачи нашего предельного интереса. Во всех этих случаях язык не остается тем же самым. Религиозный язык — это обычный язык, измененный под влиянием того, что он выражает, т. е. предельности бытия и смысла. Его выражение может быть повествовательным (мифологическим, эпическим, историческим) либо профетическим, поэтическим, литургическим. Этот язык становится священным для тех людей, для которых он из поколения в поколение выражает предельный интерес. Но не существует священного языка как такового, что доказывают переводы, новые переводы и исправления текстов.
Это подводит нас ко второму примеру использования в религии творений культуры — к религиозному искусству. Единственный принцип, о котором необходимо говорить вновь и вновь, когда речь идет о религиозном искусстве, — это принцип художественной честности. Не существует священного художественного стиля в протестантизме в отличие, например, от греко-православного учения. Художественный стиль честен только тогда, когда он выражает реальную ситуацию художника и культурного периода, к которому художник принадлежит. Мы можем участвовать в художественных стилях прошлого настолько, насколько честно они выражают свою встречу с Богом, человеком и миром. Но мы не можем правдиво подражать им и создавать для культа Церкви произведения, которые не возникли в результате творческого экстаза, а представляют собой всего лишь заученное воспроизведение творческого экстаза прошлого. Религиозно значимым достижением современной архитектуры стало ее освобождение от традиционных форм, которые в контексте нашей эпохи были всего лишь бессмысленными украшениями, не имеющими поэтому ни эстетической ценности, ни религиозной выразительности.
Третий пример я беру из области познания. Вопрос в том, какие элементы современного философского сознания могут быть использованы для теологической интерпретации христианских символов. Если принять всерьез экзистенциалистский протест против духа индустриального общества, следует отвергнуть и натурализм, и идеализм как орудия теологического самовыражения. Оба они порождены тем духом, против которого направлен протест нашего столетия. Оба были использованы не совместимыми друг с другом теологическими методами, но ни один из них не выражает современной культуры.
Вместо этого теология должна использовать обширный и глубокий материал экзистенциального анализа во всех сферах культуры, включая терапевтическую психологию. Но теология не может использовать его путем простого приятия. Теология должна сопоставить его с тем ответом, который заключен в христианской вести. Сопоставление экзистенциального анализа с символом, в котором христианство выразило свой предельный интерес, и есть метод, соответствующий вести Иисуса как Христа, и трагическому положению человека как оно открывается современной культуре. Ответ не может быть выведен из вопроса. Тому, кто спрашивает, дают ответы, а не получают их от него. Экзистенциализм не способен дать ответ. Он может определить форму ответа, но всякий раз, когда экзистенциалистский художник или философ отвечает, он делает это, пользуясь другой традицией, источник которой — откровение. Давать такие ответы — функция Церкви, и не только самой себе, но также и тем, кто вне ее.
4. Влияние Церкви на современную культуру
Одна из функций Церкви — отвечать на вопрос, заложенный в самом существовании человека, вопрос о смысле этого существования. Один из ответов на этот вопрос — христианское провозвестие. Принцип этого провозвестия — показать людям вне Церкви, что символы, в которых самовыражается жизнь Церкви, представляют собой ответы на вопросы, заложенные в их собственном существовании как людей. Так как христианская весть — это весть о спасении, и так как спасение означает исцеление, весть об исцелении во всех смыслах этого слова очень подходит для нашей ситуации. Этим объясняется столь большой успех маргинальных движений — сектантских и евангельских, в высшей степени примитивных и неглубоких по характеру. Тревога и отчаяние по поводу самого существования толкают миллионы людей на поиски исцеления любого рода, которое обещает успех.
Церковь не может пойти таким путем. Но она должна понять, что проповедь среднего качества не способна достичь людей нашего времени. Им необходимо ощутить, что христианство — не набор доктринальных, ритуальных или моральных законов, а добрая весть о победе закона через явление новой исцеляющей реальности. Они должны почувствовать, что христианские символы — не нелепости, неприемлемые для вопрошающего ума современного человека, а что они указывают на то единственное, что составляет предельный интерес, на основание и смысл нашего существования и существования вообще.
Остается последний вопрос: вопрос о том, как Церковь должна относиться к духу нашего общества, который определяет многое из того, что должно быть исцелено христианской вестью. Стоит ли перед Церковью задача и имеет ли она власть критиковать и преобразовывать дух индустриального общества? Безусловно, она не может пытаться заменить нынешнюю социальную реальность другой, т. е. ускорять осуществление Царства Божьего. Церковь не может наметить план совершенных социальных структур или предложить конкретные преобразования. Культурные изменения происходят вследствие внутренней динамики самой культуры. Церковь участвует в них, иногда играет ведущую роль, но тогда она становится одной из культурных сил наряду с другими, а не представляет новую реальность в истории.
В своей профетической роли Церковь — страж, обнаруживающий динамические структуры в обществе и подрывающий их демоническую власть, выявляя их даже внутри самой Церкви. Действуя таким образом, Церковь прислушивается к профетическим голосам за своими пределами, оценивая и культуру, и Церковь в той мере, в какой она составляет часть культуры. Мы упоминали о таких профетических голосах в нашей культуре. Большинство из них принадлежит не активным членам видимой Церкви. Но, вероятно, их можно назвать участниками «скрытой Церкви», Церкви, в которой предельный интерес, движущий видимой Церковью, скрыт под культурными формами и искажениями.
Иногда эта скрытая Церковь выходит на поверхность. Тогда видимая Церковь должна распознавать в этих голосах то, чем должен был бы быть ее собственный дух, и принимать их, даже если они кажутся ей враждебными. Однако Церковь должна также стоять на страже против демонических искажений и подвергать их критике, если они не захвачены должным предметом нашего предельного интереса. Такой была судьба коммунистического движения. Церковь не достаточно осознавала свою функцию стража, когда это движение было еще в нерешительности относительного своего пути. Церковь не расслышала профетический голос в коммунизме и потому не распознала его демонических возможностей.
Судить — значит видеть обе стороны. Церковь судит культуру, включая собственные церковные формы жизни. Ведь эти формы созданы культурой, а ее религиозная субстанция делает возможной культуру. Церковь и культура находятся друг в друге, а не рядом. А Царство Божье включает их обе, трансцендируя их.
Часть вторая. Конкретные приложения
V. Природа религиозного языка
Тот факт, что в Америке и Европе уделяется столько внимания обсуждению смысла символов, — симптом чего-то более глубокого, чего-то одновременно и негативного, и позитивного по своему значению. Это симптом того, что мы имеем дело с путаницей в языке теологии философии и родственных дисциплин, причем эту ситуацию никогда в истории не удавалось разрешить. Слова больше не передают нам того, что они передавали первоначально и для чего были предназначены. Это связано с тем, что в современной культуре не существует центра для собирания и переработки смыслов, которым была средневековая схоластика, пыталась быть протестантская схоластика в XVII в. и который стремились возобновить философы, например Кант. У нас нет такого центра, и это единственный пункт, по которому мы можем симпатизировать современным так называемым логическим позитивистам, приверженцам символической логики или логикам вообще. По крайней мере они пытаются создать подобный центр. Единственное возражение состоит в том, что их «центр» — весьма небольшой, это всего лишь уголок, жизнь в основном остается за его пределами. Однако он мог бы стать полезным, если бы диапазон рассматриваемой реальности вышел за пределы чисто логических построений.
Позитивный момент состоит в том, что мы переживаем процесс, в ходе которого вновь обнаруживается чрезвычайно важная вещь: существуют совершенно отличные друг от друга уровни реальности, и эти разные уровни требуют разных подходов и разных языков; не все в реальности может быть постигнуто с помощью языка, уместного в точных науках. Понимание этой ситуации — позитивная сторона того обстоятельства, что проблема символов вновь рассматривается серьезно.
Теперь мы попытаемся по возможности прояснить понятия, выделив при этом пять этапов, первым из которых будет обсуждение «символов и знаков». Символы подобны знакам в одном, решающем отношении; и символы, и знаки указывают на нечто, лежащее вне их самих. Примером типичного знака может служить красный свет светофора на углу улицы, который указывает не на себя, а на необходимость автомобилям остановиться. И каждый символ указывает на нечто, лежащее за его пределами — на реальность, которую он представляет. В этом символ и знак сущностно тождественны: они указывают за свои пределы. Здесь причина того, что упомянутая выше беспорядочность в словоупотреблении вызывала на протяжении столетий дискуссию о символах и порождала путаницу между знаками и символами.
Первый шаг во всяком прояснении смысла символов состоит в том, чтобы отделить его от смысла знаков. Фундаментальное различие между ними заключается в том, что знаки никоим образом не участвуют в реальности и силе того, на что они указывают. Символы, хотя и отличны от того, что символизируют, участвуют в его смысле и силе. Различие между символом и знаком — это различие между участием в символизируемой реальности, характерным для символа, и неучастием в реальности, на которую указывается, характерным для знака. Например, буквы алфавита А или Т не участвуют в звуке, на который они указывают; напротив того, флаг участвует в силе и власти короля или страны, которые он представляет и символизирует. По этой причине со времен Вильгельма Телля ведутся споры о том, как следует вести себя в присутствии флага, что было бы бессмысленно, если бы флаг не участвовал как символ в силе и власти того, что он символизирует. Сама идея монархии совершенно непостижима без понимания того, что король всегда есть и то, и другое: с одной стороны, символ власти определенной группы людей, а с другой стороны, он тот, кто осуществляет частично (и никогда, разумеется, полностью) эту власть.
Но случилось нечто, опасное для всех наших попыток создать центр, в котором собираются понятия символов и знаков.
Математики использовали термин «символ», называя так математический знак, так что теперь путаница стала почти непреодолимой. Единственное, что мы можем сделать, — это выделить две разные группы знаков: знаки, которые называются символами, и подлинные символы. Математические знаки — это знаки, которые неверно именуются символами.
Язык — очень хороший пример различия между знаками и символами. Слова в языке — это знаки смысла, который они выражают. Слово «стол» — знак, указывающий на нечто совершенно отличное от самого этого знака: на предмет, на котором лежит бумага и на который мы можем смотреть. Это не имеет ничего общего со словом «стол», состоящим из четырех букв. Но в каждом языке есть слова, которые суть нечто большее, чем просто знаки; и в тот момент, когда они получают коннотацию, дополнительное значение, выходящее за пределы того, на что они указывают как знаки, они становятся символами. И это очень важное для всякого говорящего. Человек может говорить, используя фактически одни только знаки, сводя смысл своих слов почти исключительно к математическим знакам: таков абсолютный идеал логического позитивиста. Другой полюс — литургический или поэтический язык, слова которого имеют власть над людьми на протяжении многих столетий. Они обладают коннотациями в тех ситуациях, где имеют место, поэтому их невозможно ничем заменить. Они становятся не только знаками, указывающими на смысл того, что они определяют, но также и символами реальности, в силе которой они участвуют.
Перейдем ко второму пункту наших рассуждений о функциях символов. Первая их функция заключается в том, о чем уже говорилось выше, это репрезентативная функция. Символ представляет нечто, что не есть он сам, но в силе и смысле чего он участвует. Это основополагающая функция каждого символа, и потому, если бы это слово не использовалось столь многообразно, можно было бы даже перевести «символическое» как «репрезентативное», но по некоторым причинам это невозможно. Если символы представляют нечто, что не есть они сами, тогда возникает вопрос: «Почему мы не имеем дело непосредственно с тем, на что они указывают? Зачем вообще нужды символы?» И тут мы подходим к тому, что, возможно, составляет главную функцию символа, — к раскрытию тех уровней реальности, которые скрыты и не могут быть поняты иным образом. Каждый символ раскрывает уровень реальности, для которого несимволический язык не подходит. Можно объяснить это на примере художественных символов. Чем больше мы пытаемся проникнуть в смысл символов, тем очевиднее, что функция искусства — раскрывать уровни реальности; поэзия, изобразительное искусство и музыка раскрывают уровни реальности, которые не могут быть раскрыты каким-либо иным способом. Поэтому, если функция искусства такова, то несомненно, художественные творения имеют символический характер. Возьмем, к примеру то, что мы воспринимаем через пейзаж Рубенса. Невозможно получить этот опыт иначе, чем через картину, написанную великим художником. Этот пейзаж в определенном смысле имеет героический характер: характер равновесия, цветов, форм и так далее. Все это сугубо внешнее. Но то, что передает нам пейзаж, не может быть выражено никаким иным способом, кроме самой картины. То же относится к поэзии и философии. Иногда возникает соблазн все испортить, желание привнести в стихотворение слишком много философского содержания. Но этого никак нельзя делать. Тут в самом деле существует проблема. Использование философского или научного языка не передает того, что передает подлинно поэтический язык без примеси какого-либо иного.
Этот пример проясняет, что означают слова «раскрытие уровней реальности». Но чтобы совершить это раскрытие, нужно раскрыть еще нечто: уровни души, уровни нашей внутренней реальности. И они должны соответствовать уровням внешней реальности, которые раскрываются посредством символа. Таким образом, каждый символ имеет двойную направленность: он раскрывает реальность и раскрывает душу. Существуют, конечно, люди, души которых не могут быть раскрыты музыкой или поэзией, а еще большая часть (особенно в протестантской Америке) не может быть раскрыта никаким вообще изобразительным искусством. «Раскрывание» — двоякая функция, так как на более глубоких уровнях раскрывается реальность и на особых уровнях — человеческая душа.
Если в этом состоит функция символов, то очевидно, что одни символы нельзя заменить другими, ибо каждый из них имеет особую функцию, которая такова, как она есть и соответствует именно данному символу. В этом отличие символов от знаков, потому что одни знаки всегда могут быть заменены другими. Если кто-нибудь сочтет, что зеленый свет не столь подходит для светофора, как синий (это неверно, но могло бы быть так), то мы просто заменим зеленый свет синим и ничего не изменится. Но символическое слово (например, «Бог») нельзя заменить. Никакой символ не может быть заменен, если он используется в своей особой функции. Поэтому вполне обоснован вопрос: «Как возникают символы и как они умирают?» Ведь в отличие от знаков символы рождаются и умирают. А знаки люди сознательно вводят в обиход и отменяют. Таково фундаментальное различие между ними.
Какое лоно рождает на свет символы? То, которое сегодня называют «коллективным бессознательным», или «групповым бессознательным», или как угодно еще, — та группа, которая признает собственное бытие в этом предмете, в этом слове, в этом флаге или в чем-то еще. Ни один символ не изобретается намеренно; если же и бывает так, что его пытаются изобрести, то он может стать символом лишь при условии, что бессознательное определенной группы его одобрит. Это означает, что через него нечто раскрылось в том смысле, который я только что описал. Но это подразумевает также, что в момент, когда прекращает свое существование определенная внутренняя ситуация той группы, которая связывает свое бытие с этим символом, символ умирает. Он больше ничего не «говорит». Таким образом умерли все боги политеизма: ситуация, в которой они родились, либо изменилась, либо перестала существовать, и поэтому символы умерли. Но подобные события не могут быть описаны в категориях намерения и придумывания.
Теперь перейдем к третьему пункту наших рассуждений и рассмотрим природу религиозных символов. Религиозные символы действуют так же, как прочие: они раскрывают уровень реальности, который не раскрывается никаким иным путем. Можно назвать это глубинным измерением самой реальности, которое служит основанием всякого другого измерения и всякой иной глубины и которое поэтому представляет собой не просто еще один уровень наряду с другими, но есть основополагающий уровень, лежащий глубже всех остальных, уровень самого-бытия, или предельной силы бытия. Религиозные символы раскрывают опыт измерения глубины в человеческой душе. Если религиозный символ перестает выполнять эту функцию, то он умирает. И если рождаются новые символы, они возникают в силу того, что изменились отношения с у предельным основанием бытия, т. е. со Священным.
Измерение предельной реальности есть измерение Священного. Поэтому можно сказать, что религиозные символы — это символы Священного. В этом качестве они участвуют в святости Священного в соответствии с нашим главным определением символа. Но участие не есть тождество; сами символы не то же, что Священное. Абсолютно трансцендентное трансцендирует всякий символ Священного. Религиозные символы возникают из безграничного материала, который дает нам познаваемая из опыта реальность. Все происходившее во времени и пространстве становилось в какой-то период истории религии символом Священного. И это естественно, так как все, с чем мы встречаемся в мире, зиждется на предельном основании бытия. Это ключ к чрезвычайно запутанной истории религии. Те, кто всматривался в кажущийся хаос истории религии, во все периоды истории, начиная с древних времен и вплоть до современного этапа, вероятно, были крайне смущены хаотическим характером этого процесса. Но с помощью сравнительно простого ключа этот хаос можно привести в порядок. Дело в том, что все в реальности может выразить себя в качестве символа особого отношения человеческого разума к его собственному предельному основанию и смыслу. Поэтому, чтобы открыть эту, казалось бы, закрытую дверь в хаос религиозных символов, надо просто ответить на вопрос: «Какое отношение к предельному выражается в этих символах?» И тогда они перестанут быть бессмысленными и окажутся, напротив, в высшей степени проясняющими смысл созданиями человеческого разума, в высшей степени подлинными, могущественными, управляющими человеческим сознанием (и, возможно, еще больше — подсознанием). Вероятно, поэтому они обладают той колоссальной живучестью, которая характеризует все религиозные символы в истории религии.
Религия, как и все в жизни, подчиняется закону двусмысленности, где «двусмысленность» означает, что все имеет одновременно и разрушительный, и созидательный характер. Религия обладает как святостью, так и несвятостью, и причина этого очевидна из того, что уже было сказано о религиозных символах. Религиозные символы указывают на то, что все их трансцендирует. Но ввиду того, что в качестве символов они участвуют в том, на что указывают, они всегда обнаруживают тенденцию, разумеется, в человеческом сознании, подменять собой то, на что они должны только указывать, и становиться в себе предельными. И в этот момент они делаются идолами. Все идолопоклонство есть просто абсолютизация символов Священного, отождествление их с самим Священным. Таким образом, например, священные ипостаси могут превратиться в богов. Ритуальные действия могут приобрести безусловную значимость, хотя они всего лишь выражают конкретную ситуацию. Во всех сакраментальных действиях религии, во всех священных предметах, священных книгах, священных учениях, священных ритуалах можно обнаружить опасность, которую я называю демонизацией. Они становятся демоническими в тот момент, когда возвышаются на уровень безусловного и предельного характера самого Священного.
Теперь обратимся к четвертому пункту наших рассуждений, который касается уровней религиозных символов. Для всех религиозных символов существует два основополагающих уровня: трансцендентный уровень, находящийся за пределами эмпирической реальности, с которой мы встречаемся, и имманентный уровень, который мы обнаруживаем в пределах встречи с реальностью. Рассмотрим сначала трансцендентный уровень. Главным символом трансцендентного уровня должен был бы быть Сам Бог. Но мы не можем просто сказать, что Бог — это символ. Мы должны всегда говорить о Нем две вещи: во-первых, что в нашем образе Бога существует несимволический элемент, т. е. Он для нас — предельная реальность, самобытие, основание бытия, сила бытия. Во-вторых, что Он — высшее бытие, в котором в наиболее совершенном виде существует все, что мы имеем. Говоря это, мы представляем себе высшее бытие, обладающее характеристиками высшего совершенства. Это означает, что у нас есть символ того, что является не символическим в идее Бога, т. е. «Самого-Бытия»
Важно различать эти два элемента в идее Бога. Таким образом, всех дискуссий по поводу того, является Бог личностью или нет, подобен ли Он другим бытиям или нет, всех дискуссий, значительно способствовавших разрушению религиозного опыта из-за его ложной интерпретации, можно было бы избежать, если бы мы сказали: «Конечно, осознание чего-то безусловного есть то, что оно есть само по себе, и оно не символично». Мы можем назвать его «Самим-Бытием», esse gua esse, esse ipsum, как это делали схоласты. Но в своем отношении к этому предельному мы создаем и должны создавать символы. Мы не могли бы общаться с Богом, будь Он просто «предельным бытием». Но в своем отношении к Нему мы встречаем Его своим высшим — личностью. И поэтому, в символической форме говоря о Нем, мы одновременно имеем то, что бесконечно трансцендирует наш опыт самих себя как личностей, и то, что настолько соответствует нашему бытию как личностей, что мы можем сказать Богу «Ты» и обратиться к Нему с молитвой И должны сохраняться оба эти элемента. Если мы сохраняем лишь элемент безусловного, то никакое отношение к Богу невозможно; если же мы сохраняем лишь элемент отношений «Я — Ты», как его сейчас называют, то утратим элемент божественного, т. е. безусловного, который трансцендирует субъект и объект, и все другие оппозиции. Это первый элемент трансцендентного уровня.
Второй элемент — это качества, атрибуты Бога, все то, что мы о Нем говорим: что Он — любовь, милосердие, сила; что Он всеведущ, вездесущ, всемогущ. Эти атрибуты Бога заимствованы из тех известных нам качеств, которые присущи нам самим. Их нельзя приписать Богу в буквальном смысле. Если так происходит, это приводит к бесчисленным нелепостям. Это одна из причин разрушения религии в результате неправильного понимания ее языка. И необходимо постоянно подчеркивать символический характер этих качеств. Иначе всякий разговор о божественном становится абсурдным.
Третий элемент трансцендентного уровня связан с действиями Бога, о которых мы говорим, например: «Он создал мир», «Он послал Своего сына», «Он исполнит слово». В этих временных, каузальных и других фразах мы говорим о Боге символически. В качестве примера рассмотрим одно короткое предложение: «Бог послал Своего сына». Здесь словом «послал» мы передаем временную характеристику. Но Бог — вне пределов нашего времени, хотя и не вне пределов всякого времени. Здесь есть и указание на пространство: «посылать кого-либо» означает перемещать его с одного места на другое. Это, безусловно, символическое выражение, хотя пространственность присутствует в Боге как элемент Его созидательного основания. Когда мы говорим: «Он послал», то подразумеваем, что Он нечто каузировал. При этом Бог становится субъектом каузальности. Говоря о Нем и Его сыне, мы подразумеваем две разные субстанции и применяем к Нему категорию субстанции. Если же принять все это буквально, возникает абсурд. А если принимать это высказывание символически, тогда оно глубокое, предельное выражение отношений между Богом и человеком в христианском опыте. Но различать эти два способа говорить — несимволический и символический — в данном пункте настолько важно, что, если мы не сможем дать понять нашим современникам, что мы выражаемся символически, когда употребляем такой язык, они с полным основанием отвернутся от нас как от людей, все еще живущих во власти нелепостей и суеверий.
Теперь рассмотрим имманентный уровень, уровень явления божественного во времени и пространстве. Здесь мы имеем дело прежде всего с воплощениями божественного, с различными существами, пребывающими во времени и пространстве; это божественные сущности, превратившиеся в животных, людей или любые другие существа, как они являются во времени и пространстве. Это часто забывают те христиане, которые любят употреблять слово «воплощение» чуть не в каждом теологическом утверждении. Они забывают, что это не есть специфическая особенность христианства: воплощение — это событие, которое постоянно происходит в язычестве. Божественные сущности всегда воплощаются в разных формах. Это довольно часто имеет место в язычестве и не может служить отличительным признаком христианства от других религий
Здесь следует сказать кое-что об отношениях трансцендентного и имманентного уровней как раз в связи с идеей воплощения. Исторически обоим уровням предшествовала ситуация, когда трансцендентное и имманентное еще не различались. В представлении индонезийцев о «Мана» — божественной мистической силе, которая пронизывает всю реальность, перед нами божественное присутствие, которое одновременно и имманентно всему, как скрытая сила, и трансцендентно, и его можно воспринять лишь посредством весьма сложных ритуальных действий, известных жрецам.
Из этого тождества имманентного и трансцендентного возникли боги Греции, Ближнего Востока и Индии, которые известны нам из мифологии. Воплощение выступает здесь как имманентный элемент божественного. Чем в большей степени боги приближаются к трансцендентному, тем больше требуется воплощений, имеющих личный или сакраментальный характер, чтобы преодолеть удаленность божественного, которая увеличивается по мере усиления трансцендентного элемента.
Отсюда вытекает второй элемент имманентного религиозного символизма — сакраментальный элемент. Сакраментальное — это некая реальность, становящаяся носителем Священного особым образом и при особых обстоятельствах. В этом смысле символическими можно считать Тайную Вечерю, а также использованные для нее предметы и пищу. Возможно, теперь кто-нибудь спросит: «Только символическими?» Это звучит так, точно есть нечто большее, нежели символическое, — «буквальное». Но «буквальное» не больше, а меньше, чем символическое. Если мы говорим о тех измерениях реальности, к которым мы можем приблизиться только через символы, то символы используются не в качестве «только», а в качестве того, что необходимо, того, что мы вынуждены применять. Иногда, просто из-за неразличения знаков и символов, слова «только символ» означают «только знак». И тогда оправдан вопрос: «Только знак? — Нет». Таинство — не только знак. Именно это было предметом спора между Лютером и Цвингли в Марбурге в 1529 году. Лютер настаивал на подлинно символическом характере даров, приносимых в Евхаристии, Цвингли же говорил, что хлеб и вино — «только символы». Этим Цвингли хотел сказать, что они — всего лишь знаки, указывающие на события прошлого. Даже в тот период существовала семантическая путаница. Но это не должно нас смущать. В реальном понимании символа дары, приносимые в Евхаристии, — символы. Но если символ понимается только как символ, т. е. как знак, тогда, конечно, Святые Дары больше, чем символ.
Существует и третий элемент имманентного уровня. Многие предметы — такие как особые части церковных зданий, свечи, вода у входа в католический храм, крест во всех церквах, особенно протестантских, — изначально были лишь знаками, но в процессе использования сделались символами. Их можно назвать знаками-символами, знаками, которые стали символами.
А теперь последний пункт наших рассуждений: об истинности религиозных символов. Здесь следует различать отрицательные, положительные и безоценочные высказывания. Сначала — об отрицательных. Символы неподвластны эмпирической критике. Нельзя убить символ, подвергнув его критике с точки зрения естественных наук или исторического исследования. Как уже было сказано, символы умирают лишь тогда, когда изменяется ситуация, в которой они были созданы. Они находятся не на том уровне, на котором эмпирическая критика могла бы их упразднить. Вот два примера; оба связаны с Марией, матерью Иисуса, которую почитают как Святую Деву. Прежде всего, здесь перед нами символ, который умер в протестантизме, из-за того что изменилось отношение человека к Богу. Особое, прямое, непосредственное отношение к Богу делает невозможной любую опосредующую силу. Другой причиной, заставившей этот символ исчезнуть, стало отрицание аскетического элемента, который подразумевается в прославлении девственности. До тех пор, пока протестантская религиозная ситуация не изменится, этот символ не может возродиться в протестантизме. Он умер не потому, что протестантские теологи сказали: «Нет эмпирических оснований говорить все это о Святой Деве». Их, конечно, нет, но об этом известно и католической церкви. Однако католическая церковь держится за этот символ, потому что он обладает колоссальной символической силой, которая постепенно приближает Марию к самой Троице, особенно это заметно в последнее десятилетие. Если этот процесс когда-нибудь завершится, как об этом говорят сейчас в некоторых католических кругах, Мария может стать «со-Спасительницей» наряду с Иисусом. Тогда — независимо от того, признается это или нет — она реально будет включена в само божественное.
Другой пример — рассказ о рождении Иисуса девственницей. С исторической точки зрения, вполне очевидно, что это легенда, неизвестная Павлу и Иоанну. Она была создана гораздо позже, чтобы разъяснить, почему Иисус из Назарета во всей полноте обладает божественным Духом. Но и легендарный характер символа — недостаточное основание для того, чтобы он должен был умереть или уже умер для многих, даже в весьма консервативных кругах внутри протестантских церквей. Для этого существует другое основание. Дело в том, что этот символ с точки зрения теологии — квазиеретический. Он упраздняет одно из фундаментальных положений Халкидонского собора: классическое христианское учение о том, что наряду с вполне божественной природой Иисус обладает и вполне человеческой. Человек, у которого нет отца-человека, не обладает полнотой человечности. Вот почему эту историю следует подвергнуть критике не с исторической точки зрения, а исходя из внутренней структуры самого символа. Это отрицательное суждение об истинности религиозных символов. Их истинность определяется их соответствием религиозной ситуации, в которой они создаются, а их несоответствие другой ситуации определяет их неистинность. В последнем высказывании содержится как положительное, так и отрицательное утверждение о символах.
Религия двусмысленна; всякий религиозный символ может приобрести характер идола, может демонизироваться, может возвыситься до уровня предельной значимости, хотя нет ничего предельного, кроме самого предельного, т. е. ни религиозного учения, ни религиозного ритуала. Если христианство претендует на то, что в своих символах оно выражает высшую истину, то это выражает символ креста Христова. Тот, кто сам воплощает полноту божественного присутствия, жертвует собой, чтобы не стать идолом, еще одним богом, рядом с Богом, — богом, которым его хотели сделать ученики. И поэтому ключевой рассказ — это рассказ о том, как он принимает титул «Христос», когда Петр предлагает ему этот титул. Он принимает его при условии, что ему надлежит идти в Иерусалим, чтобы страдать и умереть; это означает противодействие идолопоклонству, даже когда речь идет о нем самом. Это одновременно критерий и для всех других символов, критерий, которому должна подчиниться каждая христианская церковь.
VI. Протестантизм и художественный стиль
«Герника» Пикассо — это великое произведение искусства, проникнутое духом протестантизма. Такое заявление, безусловно, следует смягчить, сказав, что в шедевре Пикассо можно обнаружить не протестантский ответ, но скорее радикализм протестантского вопроса. Обоснованию этого утверждения и посвящена настоящая глава.
Во-первых, необходимо сказать несколько слов об особом характере понимания человека и его удела в протестантизме. Принцип протестантизма (не всегда действенный в проповеди и учении протестантских церквей) делает ударение на бесконечной дистанции, разделяющей Бога и человека. Он подчеркивает конечность человеческого существования, его подвластность смерти, но прежде всего — отчуждение человека от его подлинного бытия и рабская зависимость от демонических сил — сил саморазрушения. Неспособность человека освободиться от этой зависимости побудила деятелей Реформации создать учение о воссоединении человека с Богом, когда действует один только Бог, человек же только принимает. Такое принятие, конечно, невозможно, если человек усваивает пассивную позицию; оно требует высочайшего мужества, мужества признать парадокс, состоящий в том, что «грешник оправдан», что как раз человека, обремененного виной, пребывающего в состоянии тревоги и отчаяния, Бог принимает безусловно.
Если мы будем рассматривать «Гернику» Пикассо как выдающийся пример художественного выражения человеческого удела в нашу эпоху, станет очевидным негативный пафос этого произведения, его протестантский характер. Вопрос о человеке в мире, полном вины, тревоги и отчаяния, встает перед нами с потрясающей силой. Но не содержание картины, написанной в связи с намеренным и жестоким разрушением фашистской авиацией небольшого городка, придает ей такую выразительность, скорее, это — ее стиль. Несмотря на глубокие различия, существующие между отдельными художниками, а также между разными периодами в творчестве самого Пикассо, стиль этот характерен для XX столетия, и в этом смысле он — стиль современности. Сравнение любого значительного произведения искусства нашего времени со столь же значительными творениями прошлого показывает стилистическое единство изобразительных искусств XX в. И этот стиль, как никакой другой на протяжении всей истории Протестантизма, способен выразить человеческую ситуацию так, как видит ее христианство.
Чтобы проверить это утверждение, следует обсудить отношение художественных стилей к религии вообще. Каждое произведение искусства представляет собой сочетание трех элементов: это содержание, форма и стиль. Потенциально содержание тождественно всему, что может воспринять человеческое сознание посредством чувственных образов. Оно никоим образом не ограничивается такими качествами, как доброе или злое, прекрасное или безобразное, цельное или фрагментарное, человеческое или нечеловеческое, божественное или демоническое. Но далеко не все, что может воспринять человеческое сознание, используется в творчестве каждого художника или в изобразительном искусстве того или иного периода. Существуют принципы отбора, зависящие от формы и стиля — второго и третьего элементов произведения искусства.
Второй элемент — исключительно важное понятие. Форма принадлежит к структурным элементам самого бытия и под ней понимают только то, что делает вещь тем, что она есть. Она придает вещи уникальный и универсальный характер и выразительность, благодаря ей вещь занимает особое место в целокупности бытия. Художественное творение детерминировано формой, которая привлекает тот или иной материал (звуки, слова, камни, краски) и возвышает его до произведения, обладающего самодостаточностью. В силу этого форма является онтологически решающим элементом в любом художественном творении — как и во всяком другом. Но сама форма определяется третьим элементом, который мы называем стилем. Этот термин, первоначально означавший изменения моды в одежде, интерьере, декоративном садоводстве и прочем, позднее нашел универсальное применение в сфере художественной продукции и его стали использовать даже в философии, политике и других областях. Совокупность произведений искусства данного периода стиль характеризует какой-то особенностью. Своей форме произведения искусства обязаны тем, что они — произведения. Своему стилю обязаны они тем, что имеют нечто общее между собой.
Проблема стиля — это проблема обнаружения того, что является общим для различных произведений искусства, принадлежащих к одному и тому же стилю. О чем все они свидетельствуют? Строя свой ответ на анализе всевозможных стилей как в искусстве, так и в философии, я бы сказал, что каждый стиль свидетельствует об истолковании человеком самого себя, отвечая тем самым на вопрос о последнем смысле жизни Что бы ни выбрал художник в качестве предмета изображения, совершенна или несовершенна художественная форма его произведения, он не может не выдать посредством стиля предельный личный интерес, а также интерес своего времени и той группы людей, представителем которой он является. Он не может уйти от религии, даже если он отрицает ее, поскольку религия — это предельная заинтересованность. И в каждом стиле проявляется предельный интерес определенной группы людей и определенной эпохи. Одна из наиболее захватывающих задач — расшифровать религиозный смысл стилей прошлого (архаический, классический, натуралистический) и продемонстрировать, что те же самые характерные черты, которые обнаруживаются в художественном творении, можно найти также в литературе, философии и этике этой эпохи.
Расшифровка стиля — само по себе искусство и, как всякое искусство, она сопряжена с отвагой и риском. Стили сопоставимы друг с другом с разных точек зрения. Рассматривая в хронологическом порядке стили западного изобразительного искусства, начиная с христианского искусства, которое возникло в катакомбах и базиликах, нельзя не поразиться их богатству и разнообразию: византийский, романский, ранний и поздний готический стили предшествуют ренессансу, в котором следует различать ранний и высокий ренессанс. Маньеризм, барокко, рококо, классицизм, романтизм, натурализм, импрессионизм, экспрессионизм, кубизм, сюрреализм ведут к современному нерепрезентативному стилю. Каждый из них сообщает нам что-то об эпохе своего расцвета. В каждом из них содержится свидетельство об истолковании человеком самого себя, хотя в большинстве случаев сами художники этого не сознавали. Иногда они знали, что именно они выражали в своих произведениях. Иногда же философы и художественные критики объясняли им это. Какие же ключи помогут нам расшифровать смысл этих стилей?
В своем знаменитом исследовании философских стилей немецкий философ Дильтей различает субъективный идеализм, объективный идеализм и реализм. Таким образом, он дает четыре стилистических ключа, которые можно непосредственно приложить к изобразительному искусству: идеалистический, реалистический, субъективный, объективный. Каждое произведение искусства содержит элементы всех четырех, однако влияние одного из них (или более чем одного) преобладает. Когда в начале нашего столетия пришел конец господству стиля классицизма и стала очевидной эстетическая ценность стиля готического, были открыты и другие ключи. С возникновением экспрессионизма основной контраст между имитационным и экспрессивным элементами стал решающим для анализа всевозможных стилей прошлого и настоящего, особенно для понимания первобытного искусства. Далее, можно различать монументальный и идиллический, абстрагирующий и детализирующий, органический и неорганический стилистические элементы. Наконец, можно указать на непрекращающуюся борьбу между академической и революционной тенденциями в художественном творчестве.
Попытка упорядочить эти элементы в некую всеохватывающую систему грешила бесплодным матизмом. Однако необходимо сказать следующее: эти элементы никогда не отсутствуют полностью в том или ином произведении искусства. Это невозможно, потому что структура произведения искусства как произведения искусства требует присутствия всех элементов, что обеспечивает нас ключами для расшифровки стиля. Поскольку художественное творение — это творение художника, в нем всегда присутствует субъективный элемент. В силу того, что он использует материалы, которые находит в окружающей действительности, неизбежен имитационный элемент. Так как художник отталкивается от определенной традиции и не в состоянии расстаться с ней, даже если он восстает против нее, то в его творчестве всегда присутствует элемент академизма. Коль скоро художник трансформирует действительность самим фактом созидания художественного произведения, оказывается действенным идеалистический элемент. Если же он жаждет отобразить неординарную встречу с действительностью, претендуя на то, что он ушел с ее поверхности и проник в глубину, то он использует экспрессивные элементы. Но в процессе создания произведения искусства некоторые элементы до такой степени подавляются, что их наличие трудно распознать. С этой трудностью мы обычно сталкиваемся по той причине, что в произведении стилистические элементы наличествуют в сочетании друг с другом, а это делает анализ стилей плодотворным и захватывающим.
Теперь нам следует задать следующий вопрос: какое отношение эти определяющие стиль элементы имеют к религии вообще и в особенности к протестантизму? Могут ли одни стили больше подходить для выражения религиозной тематики, чем другие? Будут ли одни стили по существу религиозными, а другие — светскими? Ответим на первый вопрос так: не существует стиля, исключающего возможность художественного выражения предельного интереса человека, поскольку предельное не привязано к какой-то особенной форме вещей или переживаний. Оно может присутствовать или отсутствовать — в любой ситуации. Но многообразны пути, которыми оно являет свое присутствие. Оно может присутствовать неявно как скрытая основа ситуации. Оно просвечивает сквозь ландшафт, портрет или жанровую сцену, наделяя их глубиной смысла. Стиль, в котором преобладает имитационный элемент, является религиозным по существу. Предельное присутствует в переживаниях таких ситуаций, когда переживается не только реальность, но и сама встреча с реальностью. Оно скрыто присутствует в состоянии захваченности силой бытия и смыслом реальности. Это придает религиозную значимость субъективному элементу стиля и тем стилям, в которых этот элемент преобладает. Предельное присутствует также в таких столкновениях с реальностью, когда предвосхищается и обретает художественное выражение потенциальное совершенство реальности. Это показывает, что стиль, в котором преобладает идеалистический элемент, по сути своей является религиозным. Предельное присутствует также в таких переживаниях реальности, когда мы сталкиваемся с ее негативной, безобразной и саморазрушительной стороной. Оно присутствует как божественно-демоническая и вершащая суд подоплека всего существующего. Это придает религиозную значимость реалистическому элементу в художественных стилях.
Примеры можно было бы продолжить, указывая на религиозную значимость других элементов художественных стилей. Но вместо этого рассмотрим экспрессивный элемент стиля, поскольку он имеет особое отношение к религии.
Во-первых, следует отметить, что существуют определенные соответствия и несоответствия между стилем и содержанием. Вследствие этого выбор той или иной тематики влияет на преобладание в художественном произведении одного из элементов стиля (или сочетания нескольких элементов), в силу чего важную роль при анализе значения стилей играет иконография. Так, например, соответствие между содержанием и элементами стиля можно обнаружить в искусстве портрета, натюрморта, а также в пейзаже, жанровых сценах, изображениях обнаженной натуры, исторических полотнах и т. п. Однако мы ограничимся рассмотрением экспрессивного стиля и его близости к религии. Экспрессивный стиль обладает общей со всеми другими стилистическими элементами религиозной значимостью. Но если последние выражают предельное лишь косвенно, экспрессивный элемент выражает его прямо. Разумеется, созерцая произведение искусства, вы не встретите только один экспрессивный элемент, но обнаружите в нем и другие, которые служат своего рода противовесом скрытым в нем возможностям прямого выражения религиозного смысла. Но экспрессивный элемент сам по себе сущностно соответствует тому, чтобы прямо выражать религиозный смысл как посредством светской, так и традиционной религиозной тематики.
Причину такой ситуации отыскать нетрудно. Экспрессивный элемент стиля подразумевает радикальную трансформацию действительности, с которой мы обычно встречаемся, поскольку он использует ее элементы способом, который не совместим с характером этой действительности. Экспрессия разрушает естественно данный внешний облик вещей. Разумеется, они вновь восстанавливаются в рамках художественной формы, но не тем способом, который потребовался бы для имитационного, идеалистического или даже реалистического элемента. С другой стороны, то, что здесь выражено, — это не субъективизм художника в смысле субъективного элемента, преобладающего в импрессионизме и романтизме Здесь выражено «измерение глубины» той действительности, с которой мы встречаемся, основание и бездна, в которых все укоренено.
Этим объясняются два важных факта: влияние экспрессивного элемента в стилях всех периодов, в которые создавалось великое религиозное искусство, и прямое религиозное воздействие стиля, в котором преобладает экспрессивный элемент даже в том случае, если не используется материал, взятый из какой-либо религиозной традиции. Сравнивая эту ситуацию с теми периодами, в которые действенность экспрессивного элемента подавлялась, мы обнаружим определенное различие. В стилях, в которых доминировали неэкспрессивные элементы, религиозное искусство вырождалось (как, например, в последний период западной истории), светская тематика до такой степени маскировала свой религиозный фон, что он становился неразличимым. Поэтому новое открытие экспрессивного элемента в искусстве, которое имело место около 1900 г. — это решающее событие в отношениях между религией и изобразительным искусством Оно вновь делает возможным развитие религиозного искусства.
Это не означает, что у нас уже есть великое религиозное искусство. У нас нет его ни в смысле религиозного искусства вообще, ни в смысле художественных творений, предназначенных для культа. Исключение составляет новейшая церковная архитектура, новые начинания которой рождают большие надежды на ее будущее развитие. Архитектуре присущ особый характер воздействия на человека в силу того, что она является не только искусством, но и служит практическим целям. Весьма вероятно, что началом возрождения религиозного искусства станет его взаимодействие с архитектурой.
Обратившись к живописи и скульптуре, мы обнаружим, что за последние 50 лет их развития при господствующем влиянии экспрессивного стиля попытки воссоздать религиозное искусство в основном привели к новому открытию символов, выражающих негативный аспект человеческого удела: темой многих произведений искусства стал символ Креста, часто в стиле «Герники» Пикассо. Другие символы, как, например, Воскресение, не нашли еще адекватного художественного воплощения; это относится также и к другим традиционным «символам славы». Протестантский элемент в современной ситуации выражается в следующем: следует избегать поспешных необдуманных решений, напротив, та ситуация, в которой находится человек, должна быть мужественно отображена со всеми ее конфликтами. Если она получила выражение, то тем самым она уже и трансцендирована: тот, кто способен вынести и выразить вину, показывает, что он уже знает о «принятии-вопреки». Тот, кто способен вынести и выразить бессмысленность, показывает, что он уже переживает встречу со смыслом в своей пустыне бессмысленности.
Преобладание экспрессивного стиля в современном искусстве — это шанс для возрождения религиозного искусства. Далеко не все разновидности этого стиля в равной мере способны выразить религиозные символы. Но большая их часть, несомненно, подходит для этой цели. Воспользуются ли — и до какой степени — художники (и церкви) этой благоприятной ситуацией, предсказать невозможно. Это отчасти зависит от того, какая судьба уготована самим традиционным религиозным символам, как они будут развиваться на протяжении последующих десятилетий. Единственное, что мы можем сделать, — это оставаться открытыми для возрождения религиозного искусства посредством экспрессивного стиля в искусстве современности.
VII. Экзистенциальная философия: ее историческое значение
Своеобразный способ философствования, который в наши дни именует себя «Existenzphilosophie», или «экзистенциальной философией», возник и стал одним из ведущих течений немецкой мысли во времена Веймарской республики; среди лидеров этого направления были такие мыслители, как Хайдеггер и Ясперс. Однако начало этого философского направления следует искать в минувшем столетии, в 1840-х гг., когда основные его положения были сформулированы такими мыслителями, как Шеллинг, Кьеркегор и Маркс, в острой полемике с господствовавшим «рационализмом» или панлогизмом гегельянцев; в следующем поколении в рядах его защитников были Ницше и Дильтей. Однако корни этого способа философствования уходят еще в докартезианскую германскую традицию сверхрационализма и доктрины «Innerlichkeit» (внутреннего) в том виде, как она представлена у Беме.
Экзистенциальная философия, таким образом, представляется специфически немецким творением. Изначально она возникла из внутренних напряжений интеллектуальной ситуации в Германии начала XIX столетия. На нее оказала сильное влияние политическая и духовная катастрофа, пережитая немцами нашего поколения. Своей терминологией она в значительной степени обязана гению — а порой и демону — немецкого языка, что крайне затрудняет перевод работы Хайдеггера «Бытие и время» («Sein und Zeit»).
Но когда мы задумываемся, в чем смысл наименования и основной критической тенденции экзистенциальной философии, мы приходим к пониманию того факта, что она представляет собой часть более общего философского движения, которое имеет последователей также во Франции, Англии и Америке. Ибо призывая человека вернуться к «существованию» («экзистенции»), эти немецкие мыслители подвергают критике отождествление Реальности или Бытия с реальностью в качестве познанной, с объектом Рассудка или мышления.
Начиная с традиционного различения «сущности» и «существования», они утверждают, что Реальность, или Бытие, в своей конкретности и полноте не есть «сущность». Это не объект познавательного опыта; но скорее «существование» есть Реальность как то, что мы переживаем непосредственно, причем здесь делается акцент на внутреннем и личном характере непосредственного переживания человека. Подобно Бергсону, Джемсу, Брэдли и Дьюи, философы-экзистенциалисты призывают перейти от заключений рационализма, уравнивающего Реальность с объектом мышления, с отношениями или «сущностью», к той Реальности, которую человек переживает непосредственно в своей действительной жизни. Соответственно они занимают место рядом со всеми теми, кто рассматривает «непосредственное переживание» как то, что раскрывает природу и свойства Реальности полнее, чем познавательный опыт человека. Философия Существования, таким образом, — одна из версий широко распространенного обращения к непосредственному опыту, которое стало характерной особенностью современного мышления. Интернациональный характер этого движения проявляется в том, что оно оказывает заметное влияние не только в сфере идей, но и на исторические события; об этом свидетельствуют имена Маркса, Ницше и Бергсона.
Это обращение к «существованию» имело место сто лет назад между 1840 и 1850 гг. Зимой 1841–1842 гг. Шеллинг читал лекции на тему: «Философия мифологии и Откровения» («Die Philosophie der Mythologie und der Offenbarung») в Берлинском университете перед замечательной аудиторией (эти лекции посещали Энгельс, Кьеркегор, Бакунин и Буркхардт). В 1840 году вышло в свет сочинение Тренделенбурга «Логические исследования» («Logische Untersuchungen»). В 1843 г. Людвиг Фейербах опубликовал «Основные положения философии будущего» («Grundsetze der Philosophie der Zukunft»). В 1844 г. Маркс закончил работу над рукописью «Национальная экономика и философия» («Nationalekonomie und Philosophie»), которая была издана несколько лет спустя. В этом же году были напечатаны «Единственный и его достояние» («Der Einzige und sein Eigentum») Макса Штирнера и «Философские фрагменты» Кьеркегора; также вышло в свет второе издание работы Шопенгауэра «Мир как воля и представление», которая впоследствии оказала огромное влияние на экзистенциальную философию. В 1845–1846 гг. Маркс написал «Немецкую идеологию» («Die Deutsche Ideologic»), которая включала «Тезисы о Фейербахе» («Thesen uber Feurbach»), а в 1846 г. Кьеркегор издал классический труд по экзистенциальной философии в более узком смысле слова, — «Заключительный ненаучный постскриптум». Берлинские лекции Шеллинга были основаны на развитии им позиции, которую он отстаивал в 1809 г. в сочинении «Философия свободы» и «Weltalter» в 1811 г.1 В своих Мюнхенских лекциях в конце 20-х годов он стремился показать, что «позитивная философия» (как он называл свою разновидность экзистенциальной философии) имеет предшественников среди таких мыслителей, как Паскаль, Якоби и Гаман, а также в теософской традиции, идущей от Беме. Кант, согласно Шеллингу, также внес вклад в этот тип философии. Даже в диалогах Платона можно обнаружить «экзистенциальные» элементы, особенно в недиалектическом методе «Тимея», поскольку, с точки зрения Шеллинга, проблема «позитивной философии» возникла вместе с философией. И в этом с ним полностью согласны Кьеркегор и Хайдеггер, судя по тому, что Кьеркегор ссылается на авторитет Сократа, Хайдеггер обращается к Аристотелю и Канту, а Лессинга почитают все философы-экзистенциалисты.
После появления экзистенциальной философии в 50-х годах XIX столетия импульс этого движения пошел на убыль; его вытеснил неокантианский идеализм и натуралистический эмпиризм. В Фейербахе и Марксе видели догматических материалистов, Кьеркегор оставался полностью неизвестным, а творчество позднего Шеллинга вместе с несколькими немногословными, но язвительными замечаниями было похоронено в хрестоматиях по истории философии. Новый импульс «экзистенциальная» мысль получила от «философии жизни» («Lebensphilosophie») в 80-е годы. В это десятилетие вышли в свет важнейшие сочинения Ницше. В 1883 г. Дильтей опубликовал свое «Введение в науки о Духе» («Einleitung In die Geisteswissenschaften»), а «Очерк о непосредственных данных сознания» («Essai sur les donnes immediates de la conscience») Бергсона был издан в 1889 г. «Философия жизни» не тождественна экзистенциальной философии. Но если рассматривать последнюю в более широком смысле, что мы и должны будем сделать ввиду исторических и систематических соображений, то мы увидим, что «философия жизни» включает большинство характерных мотивов экзистенциальной философии. Нам не следует также забывать о том, что философии существования как непосредственно переживаемой присущи и некоторые черты прагматизма, особенно идей Уильяма Джемса.
Третья, современная форма экзистенциальной философии возникла в результате объединения «философии жизни» с новым направлением, которое связывается с именем Гуссерля и переносом акцента с существующих объектов на разум, делающий их своими объектами; сюда же следует отнести вновь открытых Кьеркегора и раннего Маркса. Хайдеггер2, Ясперс3, а также экзистенциальная интерпретация истории в немецком «религиозном социализме»4 — вот основные представители третьего периода философии переживаемого существования.
Здесь не предполагается изложение истории экзистенциальной философии. Это уже сделано, хотя довольно фрагментарно Карлом Левитом5, Гербертом Маркузе6 и другими представителями более молодого поколения, которые ощутили активное воздействие на их жизнь проблем, подчеркиваемых экзистенциальной философией. Мы же предложим сравнительное изучение тех идей, которые характерны для большинства экзистенциальных философов, оставив в стороне отличительные черты их систем. При изложении этих идей их оценка и истолкование их смысла будут иметь неявный характер, а эксплицитно мы сделаем это лишь в кратком заключении.
1. Методологические основания экзистенциальной философии
Философия экзистенциализма заимствовала свое наименование и тот способ, при помощи которого она критикует рационалистические взгляды на Реальность, из традиционного различения между «сущностью» и «существованием». «Существование» («existence») — от глагола «Existere», означающего «возникать» — указывает на свое корневое значение («бытие») внутри тотальности Бытия, в отличие от «небытия». «Dasein» — слово, которое Хайдеггер в книге «Бытие и время» («Sein und Zeit») наделил особым смыслом, вводит конкретный элемент «быть в определенном месте», быть здесь («da»7) или «там». Различение между «essentia» и «existentia» у схоластов было первой ступенью в придании слову «существование» существенно важного значения. Согласно этому различению, «сущность» означает «что» « »8 или «quid est» вещи; «существование» означает «это», « »9 или «quod est». Таким образом, Essentia есть то, благодаря чему мы познаем вещь, essentia обозначает вневременной объект знания во временной и изменчивой вещи, «»10 этой вещи. На вопрос, реальна вещь или нет, ее сущность ничего не отвечает: мы можем знать сущность вещи, но при этом не знать, существует ли она. Это должно быть решено посредством экзистенциального суждения.
Утверждение схоластов о том, что у Бога сущность и существование тождественны, — это вторая ступень в развитии значения слова «существование». Безусловное не может быть обусловлено различием между его сущностью и его существованием. В абсолютном Бытии нет возможности, которая не была бы актуальностью: оно есть чистая актуальность. Во всяком же конечном бытии это различие присутствует: в них существование как нечто отделенное от сущности является знаком конечности.
Третья ступень в развитии термина «существование» имела место в ходе дискусии по поводу онтологического доказательства бытия Бога, его критики Кантом, а также его восстановления в измененном и расширенном виде Гегелем. Эта дискуссия выявила существенную ошибку, которая была заключена в онтологическом доказательстве. Последнее опирается на принцип тождества Бытия и мышления, который выступает предпосылкой всякого мышления: это тождество есть Непредставляемое, «Unvordenkliche»11 (т. е. принцип, прежде которого не может возникнуть никакая мысль, prius12 всякого мышления), как называл его Шеллинг. Но онтологическое доказательство незаметно трансформирует этот принцип в Высшее Существо, в пользу существования или несуществования которого могут быть выдвинуты те или иные аргументы. Кант убедительно критикует такую интерпретацию, хотя его критика не затрагивает сам принцип. Напротив, в известном пассаже философ описывает «Unvordenklichkeit» Бытия-как-такового с точки зрения воображаемого высшего Существа, которое спрашивает себя: «Откуда я взялось?». Гегель не только восстановил онтологическое доказательство в очищенной форме, он распространил принцип тождества бытия и мышления на все Бытие в целом, так что оно стало «самоактуализацией Абсолюта». Таким путем он пытался преодолеть отделенность существования от сущности в конечных существах: для него конечное — это бесконечное как в своей сущности, так и в своем существовании.
Постгегелевские нападки на диалектическую систему Гегеля направлены против его попытки включить в диалектическое движение «чистого мышления» реальность в целом не только в ее сущностном, но также и в экзистенциальном, и особенно в историческом аспекте. Логическое выражение этой попытки можно найти в утверждениях Гегеля по поводу сущности и существования, подобных следующему: «Сущность должна являться». Она трансформирует себя в существование. Существование — это бытие сущности, и, таким образом, существование можно назвать «сущностным бытием». Сущность есть существование, она неотличима от своего существования13).
Именно в свете этих определений следует понимать хорошо известные положения в гегелевской «Философии права». Если существование — сущностное бытие, то разумное действительно, и действительность разумна. И следовательно: «Задача философии — постичь то, что есть, ибо то, что есть, есть разум… Если же он (человек. — Перев.) строит мир таким, каким он должен быть, то этот мир, правда, существует, но только в его мнении, в этом податливом материале, позволяющем строить что угодно»14. Задача философии — не наброски идеального мира; напротив, мы должны заявить: задача философии — «примирение с действительностью». В противовес этому утверждению можно сказать: задачей экзистенциальной философии было прежде всего разрушить то гегелевское «примирение», которое было всего лишь умозрительным, и оставить существование само по себе непримиренным.
«Логические исследования» («Logische Untersuchungen») Тренделенбурга, вероятно, произвели на постгегелианских философов то же впечатление, что и «Логические исследования» («Logische Untersuchungen») Гуссерля на постнеокантианцев. Тренделенбург критикует диалектическое движение в гегелевской «Логике» следующим образом: «Из чистого Бытия, которое представляет собой явную абстракцию, и из Ничто — столь же явной абстракции — не может внезапно возникнуть Становление, эта конкретная интуиция, которая управляет жизнью и смертью»15. Две вещи требуются — и в неявной форме предполагаются Гегелем — для того, чтобы «помыслить» движение: мыслящий субъект и интуиция времени и пространства. Более того, принцип отрицания — движущая сила диалектического процесса — не способен привести ни к чему новому, без предположения опыта мыслящего субъекта и интуиции времени и пространства. Это положение, которое разграничивает область существования и область сущности.
Кьеркегор, который иногда ссылается на Тренделенбурга, выражает свое проникновение в различие между диалектическим и реальным становлением более живым образом: «Чистая мысль — это недавнее изобретение и „бредовый постулат“. Отрицание предшествующего синтеза требует времени. Но время не может найти себе место в чистой мысли»16.
Шеллинг называет «иллюзией» претензию гегелевской рациональной системы охватить не только реальное, «Что», но и его реальность, «То». Не может «чисто логический процесс быть также процессом реального становления»17. Когда Гегель употребляет такие фразы, как: «Идея решает стать Природой» или «Природа — это падение Идеи», то либо он описывает реальные, недиалектические события, либо его терминология не имеет смысла.
Маркс в подобной же манере атакует гегелевский переход от логики к Природе, называя его «Фантастическим описанием перехода от абстрактного мыслителя к чувственному восприятию»18. Но его критика более фундаментальна. Она направлена против гегелевской категории «Снятие» («Aufheben»), означающей одновременно отрицание и сохранение в высшем синтезе. «Поскольку мышление подразумевает в тоже время свою „противоположность“, чувственное существование, и поскольку оно претендует на то, что его движение — это реальное и чувственное воспринимаемое действие, то оно верит, что процесс „снятия“ („Aufheben“) в мысли, фактически оставляющий объект таким, каков он есть, в действительности преодолевает его»19. Это смешивание диалектического отрицания, которое ничего не устраняет, но лишь навешивает ярлык на те вещи, которые «сняты», и действительного революционного «отрицания». осуществляющегося посредством практической деятельности, — это смешивание ответственно за реакционный характер гегелевской диалектической системы, несмотря на ее принцип отрицания. Очевидно, что эта критика затрагивает не только Гегеля, но и любую рационалистическую теорию поступательной эволюции, как идеалистическую, так и натуралистическую, включая возникший позднее так называемый «научный марксизм».
Неспособность «философии сущности» объяснить существование проявляется в том факте, что разум может иметь дело лишь с возможностями: Essentia est possibilitas20. Шеллинг писал: «Разум достигает того, что может быть или будет, но лишь в качестве идеи, и, следовательно, в сравнении с реальным Бытием лишь в качестве возможности»21. Кьеркегор, который, вероятно, усвоил это из Шеллинга, писал: «Абстрактное мышление может постигать реальность, лишь разрушая ее, и это разрушение реальности состоит в том, что мышление трансформирует ее в простую возможность»22. Это особенно верно в применении к истории: мы неспособны познать историческую реальность до тех пор, пока не сведем ее к простой возможности. «Единственная реальность, к которой существующий индивид может иметь отношение большее, чем просто познавательное, — это его собственная реальность, тот факт, что он существует»23. Лишь усвоив эстетическую позицию — в философии Кьеркегора это позиция отделенности, — мы можем соотнести себя с «сущностью», со сферой возможного. В эстетической позиции, включающей чисто познавательную, всегда имеется много возможностей, и она не требует принятия решения; этическая же позиция всегда предполагает принятие личного решения.
У Маркса есть по этому поводу очень интересное высказывание. Он отмечает, что, согласно Гегелю, «мое реальное человеческое существование — это мое философское существование». Следовательно, если наше экзистенциальное бытие достигает совершенной реализации лишь посредством мышления, то мое реальное природное «существование» — это мое существование в качестве философа природы; мое реальное религиозное «существование» — это мое существование в качестве философа религии. Но это — отрицание и религии, и человечества. Эта критика касается не только Гегеля, но и тех, кто стремится растворить человеческое существование в чисто научной «возможности».
Поскольку к существованию нельзя подойти рационально, поскольку для всякого мышления оно — «внешнее», как подчеркивают это Фейербах и Шеллинг, — к нему следует подходить эмпирически. Шеллинг подробно обсуждает эмпиризм и столь явно симпатизирует ему, что говорит о своем предпочтении английского эмпиризма диалектической системе Гегеля. Шеллинг повторяет фразу (которую впоследствии часто и неверно цитировали) о том, что истинными философами среди англичан и французов являются их великие ученые. С другой стороны, он проводит различие между разными формами «эмпиризма». Шеллинг отрицает то, что называет «чувственным эмпиризмом», но признает «эмпиризм a priori». О последнем Шеллинг говорит: «Рациональная философия есть также и эмпирическая по отношению к своему материалу»24. Ее истинность, однако, не зависит от какого-либо существования. «Она была бы истинной даже в том случае, если бы не существовало ничего»25. Ибо объектом этой философии выступает сфера интеллигибельных отношений («Sachverhalte», как позднее назовет ее Гуссерль).
В отличие от «эмпиризма a priori» экзистенциальная философия подходит к «существованию» полностью a posteriori. Мы воспринимаем «существование» тем же способом, что и какого-либо человека — через его действия. Мы не строим умозаключений, двигаясь от наблюдаемых следствий к их причинам, но встречаем личность непосредственно в ее высказываниях. Таким же образом, настаивает Шеллинг, следует рассматривать всемирный процесс как непрерывное самооткровение Непредставляемого (Unvordenkliche), т. е. того, что должно быть предпосылкой всякого мышления. Это Непредставляемое — не Бог, но оно открывается как Бог тем, кто получает откровение непосредственно в критический момент уникального переживания. Это откровение требует свободы обеих сторон; оно не есть необходимость мышления наподобие идеи «Абсолюта», взятой в качестве высшего понятия рациональной философии. Таким образом, Шеллинг возвращается к критической позиции Канта: Бог как Бог есть объект веры, и не существует рационального понимания идеи Бога. Для чистого мышления Бог остается просто возможностью, в этом Кант и Шеллинг согласны. Но Шеллинг пошел дальше: в попытке приблизиться к Богу откровения он исходил из третьего типа эмпиризма — «метафизического эмпиризма», который привел его к новой спекулятивной интерпретации истории религии. Этот спекулятивный порыв победил в его сознании экзистенциальное ограничение и покорность, которые он сам постулировал.
Несмотря на то что философы существования отрицали «метафизический эмпиризм» Шеллинга, многих из них разочаровали его Берлинские лекции, они требовали «эмпирического» или опытно переживаемого приближения к существованию. И так как они полагали, что существование дано непосредственно во внутреннем личном опыте или конкретном «существовании» человека, то все они начали с непосредственного личного опыта существующего носителя переживания. Как это выразил Хайдегтер, они обратились не к мыслящему субъекту, как Декарт, но к существующему субъекту — к элементу «sum» (есть, существую) в известной фразе «cogrto ergo sum». Это «sum», указывающее на опыт непосредственного личного переживания, каждый представитель экзистенциальной философии описывает по-своему. Однако на основе этого личного опыта каждый из них в рациональных терминах развивает некую теорию: все они стараются «помыслить существование», развить его скрытый смысл, а не просто жить в «экзистенциальном» непосредственном опыте.
Таким образом, для Шеллинга подход к существованию реализуется через непосредственный личный опыт христианина, традиционную веру, хотя и рационально истолкованную. Для Кьеркегора это — непосредственный личный опыт переживания индивида перед лицом вечности, его личная вера, хотя и истолкованная с помощью утонченных диалектических рассуждений. Для Фейербаха это — опыт человека как такового в его чувственном существовании, хотя и развитый в учение о Человеке. Для Маркса это — опыт социально детерминированного человека, — хотя и истолкованный в терминах универсальной социально-экономической теории. Для Ницше это — опыт биологически детерминированного существа, его существования как воплощения воли к Власти, хотя и выраженный в форме метафизики Жизни. Для Бергсона это — опыт динамической витальности, человеческого существования как длительности и созидательной силы, хотя и выраженный с помощью понятий, взятых из неэкзистенциальной сферы. Для Дильтея это — опыт интеллектуальной жизни, человеческого существования в специфической культурной ситуации, хотя он и объясняет его в рамках универсальной философии Духа (Geistesphilosophie). Для Ясперса это опыт внутренней активности «Я», человеческого Существования как «само-трансценденции», хотя он описывает его в терминах имманентной психологии. Для Хайдеггера это — опыт существа, которое «озабочено» Бытием, ощущает свое существование как заботу, тревогу и решимость, хотя Хайдеггер и претендует на то, что описывает структуру самого Бытия. Для религиозного социалиста это — непосредственный личный опыт исторического существования человека, чреватого смыслом исторического момента, хотя этот опыт выражен в общей интерпретации истории.
Приближение к существованию или реальности через непосредственный личный опыт порождает представление об «экзистенциальном мыслителе» (этот термин Кьеркегора характеризует всех экзистенциальных философов26). «Способ объективной рефлексии придает субъекту акцидентальный характер и тем самым превращает его существование в нечто безличное: истина также становится безличной; и этот безличный характер и составляет ее объективную действительность, ибо всякий интерес, как и всякое решение, коренятся в личном опыте»27.
Экзистенциальный мыслитель — это заинтересованный или страстный мыслитель. Для Гегеля, хотя он и применяет слова «интерес» и «страсть» к тем движущим силам в истории, которые «хитрая идея» использует в своих целях, не существует проблемы экзистенциального мышления, поскольку индивиды — всего лишь факторы объективного диалектического процесса. Главным образом именно Маркс применял здесь термин «интерес», хотя этот термин есть и у Кьеркегора. Согласно Марксу, идея всегда терпит поражение, когда она отделена от интереса28. Будучи объединенной с интересом, идея может стать как идеологией, так и истиной. Она становится «идеологией», если, претендуя на то, что она представляет общество в целом, выражает всего лишь интересы определенной группы. Идея становится «истиной», если та группа, интересы которой она выражает, представляет в соответствии со своей природой интересы целого общества. Для Маркса такой группой в эпоху капитализма является пролетариат. Таким образом, Маркс пытается объединить универсальную действительность с конкретной ситуацией экзистенциального мыслителя.
Фейербах и Кьеркегор предпочитают использовать термин «страсть» для позиции экзистенциального мыслителя. В своей прекрасно написанной работе «Основные положения философии будущего» («Grundsetze der Philosophie der Zukunft») Фейербах рекомендовал: «He желай быть философом в ущерб тому, чтобы быть человеком… не мысли как мыслитель… мысли как живое, реальное существо… мысли в существовании»29. «Любовь есть страсть, и лишь страсть — признак существования»30. Чтобы объединить этот подход с требованием объективности, он утверждает: «Лишь то, что существует как объект страсти, — существует реально»31. Живущий страстно человек знает истинную природу человека и жизни.
В знаменитом кьеркегоровском определении истины утверждается: «Объективная неуверенность, которая остается в самом страстном личном переживании, — это истина, высочайшая истина, доступная для существующего индивидуума»32. Таково, продолжает он, определение веры. Подобный взгляд, по-видимому, исключает какую бы то ни было объективную действительность и едва ли может считаться основанием экзистенциальной философии. Однако Кьеркегор пытается на примере Сократа показать, что экзистенциальный мыслитель может быть философом. «Сократовское неведение, которого он стойко придерживался со всей страстью своего личного опыта, было на самом деле выражением принципа, согласно которому вечная истина соотносима с существующим индивидом»33. Обоснованность истины, проявляющаяся в страстном личном переживании, укоренена в отношении Вечного к существующему индивиду.
Экзистенциальный мыслитель не может иметь учеников в обычном смысле слова. Он не может передавать какие бы то ни было идеи, поскольку они не есть та истина, к которой он хочет кого-то приобщить. Он может лишь вызвать у своего ученика посредством косвенной передачи «экзистенциальное состояние», или опыт личного переживания, исходя из которого ученик будет мыслить и действовать. Кьеркегор возводит такое истолкование к Сократу. Но все экзистенциальные философы делали подобные заявления — и это естественно, поскольку, если подход к существованию реализуется через личный опыт, то единственная возможность обучения — вызвать у ученика посредством косвенных методов передачи опыт личного переживания своего существования.
Интерес, страсть, косвенная передача — все эти качества экзистенциального мыслителя сильно выражены в философии Ницше. Нигде он не показывает себя столь явно философом переживаемого существования, как в его описании экзистенциального мышления. Никто из поздних философов-экзистенциалистов не смог с ним в этом сравниться, хотя всем им был свойствен тот же подход. В то время как у Маркса объективная действительность соединена с «экзистенциальным» личным опытом в силу особого положения пролетариата, у Ницше — привилегированное место, где действительность совпадает с существованием, занимает человек-Господин и пророк.
Экзистенциальному мыслителю нужны особые формы выражения, поскольку личное существование не может быть выражено в терминах объективного опыта. Ницше выступает в роли оракула, Шеллинг пользуется языком традиционных религиозных символов, Кьеркегор — парадоксом, иронией, псевдонимами, Бергсон — образами и интуицией, Хайдеггер смешивает терминологию психологии и онтологии; Ясперс пользуется так называемыми «шифрами», а религиозный социалист прибегает к помощи понятий, содержание которых колеблется между имманентным и трансцендентным. Все они бьются над проблемой личного или «необъективного» мышления и его выражения — и это тяжкое бремя экзистенциального мыслителя.
2. Онтологические проблемы экзистенциальной философии
Мышление экзистенциального мыслителя зиждется на его непосредственном личном и внутреннем опыте. Оно укоренено в истолковании Бытия или Реальности, которое не отождествляет реальность с «объективным бытием». Но было бы в такой же мере ошибочным утверждать, что оно отождествляет Реальность с субъективным бытием, с «сознанием» или чувством. При таком взгляде значение «субъективного» определялось бы его противопоставлением «объективному», а экзистенциальная философия ставит перед собой прямо противоположную задачу. Апеллируя к опыту непосредственного переживания, она пытается найти такой уровень, на котором не возникает противопоставления «субъекта» и «объекта». Она стремится отсечь «субъект-объектное различение» и достичь слоя Бытия, который Ясперс называет «Ursprung», т. е. «Исток». Но для этого необходимо оставить сферу «объективных» вещей и пройти через соответствующий «субъективный» внутренний опыт пока мы не обретем опыт непосредственного творческого переживания или «Истока». «„Существование“ есть то, что никогда не становится просто объектом; оно — „Исток“, из которого проистекают мое мышление и действие»34. Шеллинг вслед за Гегелем делает акцент на «субъекте» и его свободе в противовес субстанции с ее необходимостью. Но если у Гегеля «субъект» непосредственно отождествляется с мыслящим субъектом, то у Шеллинга он — «существующий» или непосредственно испытывающий переживание.
Все экзистенциальные философы отвергают всякое отождествление Бытия или Реальности с объектами мышления, которое они считают величайшей угрозой личному человеческому существованию в нашу эпоху. Ницше пишет в третьей книге «Воли к власти»: «Знание и становление исключают друг друга. Следовательно, знание должно обозначать нечто другое. Ему должна предшествовать „воля к знанию“; человек, становление особого рода, создал иллюзию Бытия»35, т. е. объективно существующего Бытия. Все категории, обосновывающие реальность внешнего мира, — всего лишь полезные иллюзии, необходимые для сохранения рода человеческого. Но «Исток», саму Жизнь нельзя сделать объектом мышления посредством этих категорий.
По Бергсону, мы утрачиваем подлинное существование, свою реальную природу, если мыслим себя в «пространственных» терминах, соответствующих объективным вещам. «Моменты, в которые мы постигаем себя, редки, и, следовательно, мы редко бываем свободны. Наше существование больше протекает в пространстве, нежели во времени»36. Реальное существование, наша подлинная природа — это жизнь в самообладании и длительности
Согласно Марксу, по отношению к людям «овеществление» («Verdinglichung»), т. е. положение, когда они становятся «объектами», вещами или товаром, является характеристикой современной эпохи. Но быть существом сущностно человеческим — нечто совершенно противоположное. Природные силы и их преобразование посредством техники — это в действительности человеческие природные силы; они суть объекты человека, утверждающие его индивидуальность. Производство — это тайное выявление сил человеческой природы37.
Ясперс утверждает, что личное существование («экзистенциальная субъективность») — центр и цель реальности. Существо, которому недостает такого личного опыта переживания, не способно даже понять существование. Те же существа, которые имеют этот опыт, способны осознать, сколь ущербными и недочеловеческими созданиями они могут стать в результате трагической утраты личного существования. Хайдеггер отрицает возможность приближения к Бытию через объективную реальность и настаивает на том, что «экзистенциальное Бытие», Dasein, самосоотнесенность — единственный вход в само Бытие. Объективный мир («Das Vorhandene»)38 — позднейший продукт непосредственного личного опыта.
Смысл этого безнадежного отказа от отождествления реальности с миром объектов объясняет Ницше: «Когда мы достигнем неизбежного всеобщего экономического правления на Земле, человечество, подобно машине, сможет найти свое предназначение в служении этому чудовищному механизму в качестве все более мелких деталей, приспособленных к Целому»39.
Никто уже не понимает значения этого гигантского процесса. Человечеству требуется новая цель, новый смысл жизни. В этих словах тревога по поводу социального характера «объективного мира» выявляет себя в качестве мотива борьбы философов личного существования против «объективации», против превращения человека в безличный объект.
Принцип личного существования, или «экзистенциальной субъективности», требует особого рода понятий, в которых описывался бы этот непосредственный личный опыт. Эти понятия должны быть «необъекивирующими»; они не должны превращать человека в вещь, но в то же время они не должны быть и чисто «субъективными». В свете этого двойного требования нам следует понимать выбор психологических понятий с непсихслогической коннотацией.
Если философия личного существования права в своем утверждении о том, что опыт непосредственного переживания — путь к созидательному «Истоку» бытия, то необходимо, чтобы понятия, описывающие опыт непосредственного переживания, в то же время описывали структуру самого Бытия. Тогда так называемые «аффекты» суть не просто субъективные эмоции, не имеющие онтологического смысла; они представляют собой полусимволические, полуреалистические указания на структуру самой реальности. Именно так следует понимать Хайдеггера и многих других философов личного существования. Книга Хайдеггера «Бытие и время» («Sein und Zeit») делает акцент не на определениях Бытия как такового или Времени как такового, но содержит описания того, что он называет «Здесь-бытие» («Dasein») и «Временность» («Zeitlichkeit»), темпорального и конечного существования. Он говорит о заботе («Sorge») как общей характеристике Существования, или о тревоге («Angst») как отношении человека к Ничто либо о страхе смерти, совести, вине, отчаянии, обыденной жизни, одиночестве и т. д. Однако он вновь и вновь настаивает на том, что эти характеристики — не «онтические», ибо они описывают лишь Человека, но скорее «онтологические», так как описывают подлинную структуру самого Бытия.
Хайдеггер отрицает то, что их негативный характер, их, казалось бы, очевидные пессимистические коннотации как-то связаны с явным пессимизмом. Все эти характеристики указывают на конечность человека, подлинную тему философии личного существования. Безусловно, остается открытым вопрос, как следует отличать психологическое значение этих понятий от их онтологического смысла. В основном критика, направленная против Хайдеггера, связана с этой проблемой; весьма вероятно, что сам Хайдеггер понимал, что он не в состоянии ясно объяснить это различие, и поэтому все больше делал акцент на человеческой природе как исходном пункте экзистенциальной онтологии.
Это, однако, не разрешает проблемы. Очевидно то что все экзистенциальные философы, а также их предшественники развивали онтологию в терминах психологии. У Я. Беме, Ф. Баадера, в шеллинговской «Человеческой свободе» и многих других работах мы находим веру в сущностную взаимосвязь человеческой природы и бытия, веру в то, что сокровенное средоточие природы кроется в человеческом сердце. Важным примером подобного онтологического применения психологического термина является понятие «Воли» как высшего принципа Бытия. Мы находим его у Беме и у тех, на кого он повлиял, а до Беме — у Августина, Дуиса Скота и Лютера. Взгляд раннего Шеллинга на Волю как на «Изначальное Бытие» («Ur-Sein») и его поздний волюнтаризм, развитый в учении о Свободе; ницшевский символ Воли к Власти; «жизненный порыв» (elan vital) Бергсона; онтология Воли Шопенгауэра, «бессознательное» Эдуарда фон Гартмана и Фрейда — все эти понятия нерационального суть психологические понятия с онтологическим значением. Экзистенциальные философы использовали их, также как и другие психологические понятия, чтобы защитить нас от уничтожения «созидательного Истока» «объективным миром», который сам возник из этого «Истока», но ныне, словно чудовищный механизм, пожирает его.
Гегель объясняет весь мировой процесс в терминах диалектического тождества конечного и бесконечного. Экзистенциальное отъединение конечного от бесконечного отрицается полностью, а не только преодолевается в случайном экстатическом переживании (как в мистицизме). Полностью игнорируется критика Канта, предостерегающего против такого чрезмерного расширения границ конечного разума.
Философия переживаемого Существования восстанавливает осознание разъединения конечного и бесконечного. Все экзистенциальные философы делают на этом особое ударение. Шеллинг, более чем кто-либо ответственный за победу принципа тождества и интеллектуальной интуиции как средства его достижения, признал позднее, что принцип этот действителен лишь в сфере сущности, а не в сфере существования. Кьеркегор вторит Шеллингу: «Рационалистическая идея — это тождество субъекта и объекта, единство мышления и Бытия. Тогда как существование — это их разделение»40. (…) «Существование это синтез бесконечного и конечного»41. Но этот синтез противоположность тождества, основа экзистенциального отчаяния, воли к освобождению от самого себя. Отчаяние выражает отношения разделения в этом синтезе; оно скрывает динамическую негарантированность духа. Ясперсовское описание «пограничных ситуаций», нашей исторической относительности, смерти, страдания, борьбы, вины указывают на то же самое. С особенной силой идея конечности выражена в его учении о неизбежности крушения конечного по отношению к бесконечному. «Поскольку в процессе становления личное существование стремится преодолеть меру своей конечности, конечное бытие… всегда в конце концов разрушается»42.
Фейербах отмечал: «Субъект, который ничего не имеет вне себя и, таким образом, не имеет границ внутри себя, перестает быть конечным субъектом»43. У Маркса человек связан с объектами внешнего мира через желание, чувственность, деятельность, страдание и страсть. Ницшеанская прагматическая трактовка познания, так же как его жажда вечности, указывают на то, что нашу конечность он видит в мышлении и бытии.
Но наиболее важной в этой связи является попытка Хайдеггера истолковать критическую философию Канта в терминах философии экзистенциальной, главным образом в терминах человеческой конечности. В своей работе «Кант и проблемы метафизики» (1929) он делает предметом своего исследования попытку Канта обосновать метафизику в человеческом, т. е. конечном, характере разума44.
Конечность — сама структура человеческого разума, и ее следует отличать от обычного несовершенства, ошибки или случайных ограничений. Если для Канта Бог — в качестве идеала обладает неограниченной «интуицией», человек имеет ограниченную интуицию и поэтому нуждается в дискурсивном мышлении. «Конечный характер интуиции — это ее восприимчивость»45. Следовательно, конечное знание имеет «объекты». Таково определение конечности у Фейербаха и Маркса, с которым можно сравнить сделанную Дильтеем интерпретацию реальности как сопротивления. По мысли Хайдеггера, эпистемологический вопрос Канта звучит так: «Чем должно быть наделено конечное существо, которое мы называем человеком, для того чтобы сознавать такого рода бытие, которое не есть то же, что и он?»46. Несколько глав «Критики» отвечают шаг за шагом на этот вопрос. «Раскрытие структуры „чистого синтеза“ раскрывает саму природу конечности разума»47.
В то время как онтология, которая претендует на знание о Бытии a priori, чересчур самонадеянна, возможна онтология, ограничивающая себя структурой конечности. Такую онтологию можно назвать учением о человеческой природе, но не в том смысле, что она будет давать какое-то особое знание о роде человеческом. Онтологическое учение о человеке развивает структуру конечности так, как человек находит ее в себе как в центре своего личного Существования. Он один из всех конечных существ сознает свою конечность; поэтому путь к онтологии проходит через учение о человеке. Но, разумеется, следуя этим путем, он не сможет избежать своей конечности. Путь к конечности сам конечен и не может претендовать на завершенность: таковы ограничения, наложенные на экзистенциального мыслителя. Хайдеггер завершает свой анализ заявлением, что борьба против кантовского учения о «вещи-в-себе» — это борьба с признанием конечности нашего человеческого опыта в познании.
Для всей экзистенциальной философии анализ конечности достигает кульминации в анализе Времени. Понимание того, что существование отличается от сущности своим временным характером, столь же старо, как и сама экзистенциальная философия. Рассмотреть учения о Времени у различных философов-экзистенциалистов, их аргументы, существующие между ними сходства и различия — задача, достойная исследования. Но мы ограничимся лишь несколькими замечаниями.
Общая тенденция — отличать «экзистенциальное», или непосредственно переживаемое, Время от диалектической вне-временности — с одной стороны, и от бесконечного, количественного, измеряемого Времени объективного мира — с другой. То, что количественное Время есть характеристика личностного существования — основная тема экзистенциальной философии. В своей книге «Weltalter» Шеллинг различает три качественно различных рода Времени: довременное, временное и поствременное; он стремится разрешить проблему бесконечного прогресса и регресса, допуская начало и конец. Кьеркегор пытается уйти от измеряемого объективного Времени с помощью представления о насыщенном Мгновении (Augenblick), когда Вечность касается Времени и требует личного решения. Кроме того, он стремится избежать объективности прошлого. обращаясь к идее «одновременности» (Gleichzeitlichkeit), в силу чего вся история становится современной по отношению к насыщенному мгновению, и утверждает, что повторение прошлого — это возможность, присутствующая в настоящем. Ницше устранял бесконечное количественное Время с помощью учения о «вечном возвращении», которое каждое мгновение наделяет весомостью вечности, а также эсхатологическим членением Времени в символе «Великого Полдня».
Маркс, различая предысторию и историю, пытался ввести определенный качественный момент в течение количественного Времени. Религиозный социализм в учении о «центре истории», который определяет начало и конец «исторического» времени, с помощью понятия «исполнившегося времени» (Kairos)48 пытался пойти в том же направлении трансцендирования количественного Времени посредством качественного. К той же линии развития принадлежит и борьба Бергсона против количественного и объективного Времени.
Наиболее радикальная из этих попыток — принятое Хайдеггером различение между «экзистенциальным» и объективным Временем. Никто до него не делал столь сильного акцента на тождестве переживаемого существования и темпоральности: «Темпоральность — подлинный смысл Заботы»49, а забота есть конечное существование. Хайдеггер проводит эту идею с учетом целостной структуры переживаемого Существования, особенно в связи с предчувствием неизбежности нашей смерти, которое дает нам в руки ключ к постижению себя как целого. Разбирая учение Канта, он указывает, что для него самого Время определяется «самоустремленностью», схватыванием себя или своего личного существования. Темпоральность — это экзистенциальность. В отличие от этого качественного Времени объективное время — это время бегства из нашего личностного существования в универсальное «один», в универсальное «каждый», в обычное человеческое существование, в котором количественное измерение необходимо и оправдано. Но это универсальное Время — не подлинное (eigentlich), не настоящее; это — время объективированное, и его следует истолковывать в свете экзистенциального Времени, Времени как непосредственно переживаемого, а не наоборот.
3. Этический подход экзистенциальной философии
Все экзистенциальные философы согласны с тем, что опыт непосредственного личного переживания носит исторический характер. Но тот факт, что человек располагает фундаментальным «историческим существованием», вовсе не означает, что у него есть теоретический интерес к прошлому; его существование вовсе не ориентировано на прошлое. Это — отношение не отстраненного наблюдателя, но активного участника, который должен лицом к лицу сталкиваться с будущим и принимать личные решения.
Шеллинг назвал свою позитивную философию «исторической философией», потому что для него быть «исторической» означало быть открытой для будущего. Поскольку раскрытие Непредставляемого (Unvordenkliche) никогда не будет завершено, никогда не кончится и позитивная философия. Мы уже касались учения Кьеркегора о «насыщенном мгновении», о современности и повторении и о том, как эти идеи были применены в немецком религиозном социализме для истолкования истории. Для Маркса человеческий опыт строго обусловлен историческими и культурными обстоятельствами жизни. Человеческая природа исторична сама по себе и не может быть понята без осознания ее современной стадии дегуманизации, а также без требования «действительного гуманизма» в будущем. Философские учения о человеческой природе и онтологии зависят от того, насколько в будущем революционным путем будут достигнуты изменения в положении человека, те изменения, которые он в силах осуществить.
Во втором из своих «Несвоевременных размышлений» («Unzeitgemasse Betrachtungen») Ницше эмоционально подчеркивал исторический характер человеческого опыта: «Слово прошлого всегда изрекается как прорицание. Лишь как строители будущего, как познающие настоящее сможете вы понять его»50. Здесь Хайдеггер следует за Ницше: исторический характер человеческого опыта заключается в его ориентации на будущее. Сугубо историческое познание — не есть подлинная задача человека как исторического существа. Погруженность в прошлое — это отчуждение от нашей задачи как творцов истории51.
Описание человеческой «экзистенциальной ситуации» или современного состояния как конечного обычно связано с контрастом между современным состоянием человека и тем, что он есть «сущностно» и, соответственно, чем он должен быть. Со времени выхода в свет книги Шеллинга «О человеческой свободе» мир, в котором мы живем, включая и природу, описывался как нарушенное единство, как разрозненные фрагменты. В соответствии с кантовской полумифологической, подлинно «экзистенциальной» доктриной изначального зла Шеллинг говорил о трансцендентном Падении Человека как о «предпосылке трагической природы Существования».
Знаменитое сочинение Кьеркегора «Страх и трепет», в котором он говорит о переходе от сущности к существованию, — его психологический шедевр: страх перед конечностью побуждает человека к действию и в то же время к отчуждению от его сущностного бытия, а тем самым к еще более глубокому страху вины и отчаяния.
И Шеллинг и Кьеркегор пытались различать между «конечностью» и «отчуждением» или «отстранением», но их попытки не увенчиваются успехом; конечный характер опыта непосредственного личного переживания делает «Падение» практически неотвратимым. Ницше, Хайдеггер, Ясперс и Бергсон даже не стараются установить это различение. Они описывают опыт непосредственного переживания в терминах конечности и одновременно вины, т. е. в терминах трагического. Падшесть («Verfallenheit») и потерянность существа, которое становится жертвой необходимости существования, создают основу для вины. Как писал Хайдеггер, «виновность не есть результат определяющего вину действия, наоборот, такое действие возможно лишь в силу изначальной „виновности“»52. Следует отметить, что трагическое жизнеощущение, преобладающее в последние десятилетия среди европейской интеллигенции, связано с влиянием экзистенциальной философии.
Маркс в своих произведениях постоянно обращался к теме дегуманизации и самоотчуждения. В одном из самых интересных фрагментов на эту тему он дает блестящее описание функции денег как основного символа самоотчуждения в современном обществе. Но отчуждение не является для него неизбежной трагической необходимостью. Оно — продукт особой исторической ситуации и может быть преодолено человеком. Именно в этом подходе коренятся утопические элементы позднейших марксистских движений. Но последующая история этих движений показала, что описание Марксом человека как существа страдающего и подверженного страстям истинно даже после победоносной революции. Отношение между конечностью и отчуждением является основополагающим для экзистенциальной философии.
Каждое личное существование уникально, говорит Ясперс: «Мы совершенно незаменимы. Мы — не просто фрагменты всеобщего Бытия». Хайдеггер говорит о «Jemeinnigkeit» личного существования, о его принадлежности мне и никому более. Люди пребывают, как правило, в обычных переживаниях каждодневной жизни, скрывая за разговорами и действиями свои подлинные внутренние личностные переживания. Но совесть, вина, подверженность смерти находят место в нашей душе лишь в ситуации внутреннего одиночества. Смерть другого человека как объективное событие ничего не имеет общего с нашим глубоко личным отношением к собственной смерти. Ницше восхваляет как высший тип человека того, кто одинок и обособлен не только от массы, но и от других людей, подобных ему. Оценка среднего человека у Ницше точно такая же, как у Хайдеггера и Ясперса. Кьергегор заходит еще дальше, делая акцент на опыте внутреннего переживания одиночества человека перед Богом. Ничто объективное и универсальное не имеет для него иного значения, кроме бегства от того морального решения, которое должен принять каждый индивидуум.
Фейербах и Маркс отличаются в этом вопросе от других философов существования. Фейербах делает очень глубокое замечание по поводу одиночества: «Истинная диалектика не есть монолог одинокого мыслителя с самим собой, это диалог между Я и Ты»53. Философия «Я-Ты» оказала колоссальное влияние на современную немецкую теологию, начиная с Бубера и Гризебаха. Но возникает вопрос: чем заменить это внутреннее одиночество? Без такой альтернативы взаимоотношения «Я-Ты» остаются лишь формой. Это подразумевается в критике Фейербаха Марксом за то, что тот знает лишь человека как абстракцию и человека как индивидуума, но не человека как социальное существо. Сам Маркс видел только этого социального человека. Но он открыл здесь отчуждение человека, которое есть отчуждение не только от самого себя, но и от любого другого человека. Для него одиночество возникает из современных исторических условий, которые необходимо изменить. Но борьба во имя того, чтобы воссоздать в пролетариате истинную гуманность, привела в действительности не к «общности», но к «солидарности» — отношению, которое все еще является внешним и остается символом человеческого отчуждения. У всех экзистенциальных философов налицо эта утрата общности, которая провоцирует к бегству от объективного мира. Лишь в этом мире, который Гераклит назвал «общим миром, в котором мы проживаем наши жизни», возможна подлинная общность между людьми. Если этот мир исчезает или становится нестерпимым, индивидуум обращается копыту своего уединенного внутреннего переживания и уходит во внутренний мир, где он вынужден предаваться мечтаниям, что еще больше изолирует его от действительного мира, пусть даже его объективные знания, касающиеся внешнего мира — весьма обширны. В этом проявляются многие моменты социального фона философии человеческого Существования.
Заключение. Значение экзистенциальной философии
Мы рассмотрели большую группу экзистенциальных философов, охватив период примерно в 100 лет. Эти мыслители являются представителями множества различных и противоположных тенденций в философской мысли, их влияние на религию и политику многообразно и противоречиво. Есть ли у них какие-либо общие черты, которые оправдали бы общее их наименование — «экзистенциальные философы»? Если анализ их творчества, проведенный выше, корректен, тогда не должно быть сомнений в том, что они являют собой в высшей степени строгое единство. Это единство может быть описано в терминах как негативных, так и позитивных: у всех философов существования общий враг и общая цель, хотя они и стремятся достичь ее различными путями.
Все философы существования находятся в оппозиции к «рациональной» системе мышления и жизни, развитой западным индустриальным обществом и его философами. На протяжении последних 100 лет становилась все более очевидной причастность этой системы к негативным факторам современности. Это: логический или натуралистический механизм, разрушающий индивидуальную свободу, личное решение и органическую общность; аналитический рационализм, иссушающий жизненные силы и превращающий все, включая самого человека, в объект расчетов и управления; секуляризованный гуманизм, отторгающий человека и мир от творческого истока и предельной тайны существования. Экзистенциальные философы, поддерживаемые поэтами и художниками во всех европейских странах, сознательно или подсознательно чувствовали наступление этой самоотчужденной формы жизни. Они пытались противодействовать ей в отчаянной борьбе, которая часто приводила их к психическому саморазрушению и придавала их высказываниям крайне агрессивный, пророческий, парадоксальный, фрагментарный, революционный, страстный и экстатический характер. Но это не мешало им достигать фундаментального проникновения в социологическую структуру существующего общества и психологическую динамику современного человека, в подлинность и спонтанность жизни, в парадоксальный характер религии и экзистенциальных корней знания. Они неизмеримо обогатили философию, если понимать ее как истолкование человеком своего существования; они создали интеллектуальные орудия и духовные символы для европейской революции XX в.
Чтобы понять фундаментальные устремления и функции экзистенциальной философии, необходимо рассмотреть ее на фоне того, что происходило в XIX в. в религиозной жизни Европы, особенно Германии, ибо все социальные группы, которые появились после 1830 г., столкнулись с общей проблемой, порожденной падением религиозной традиции под напором просвещения, социальной революции и буржуазного либерализма. Вначале среди образованных классов, затем все в большей мере в массе промышленных рабочих религия утрачивает свою «значимость», она уже не дает человеческой жизни неоспоримого чувства направленности и релевантности. То, что было утрачено в непосредственности, Гегель стремился восстановить путем нового истолкования действительности. Но его умозрительная интерпретация подверглась нападкам и была разрушена, с одной стороны, теологией, а с другой философским позитивизмом. Экзистенциальные философы старались открыть предельный смысл жизни за пределами всевозможных интерпретаций, теологии или устремлений позитивизма. В своих поисках они страстно отвергали отчужденный «объективный» мир с его религиозными радикалами, реакционерами и посредниками. Они обратились к опыту непосредственного человеческого переживания, к «субъективности», но не к той, что противоположна «объективности», а к тому живому опыту, в котором укоренены и объективность, и субъективность. Они обратились к реальности как к тому, что люди непосредственно переживают в своей действительной жизни, к своему глубоко внутреннему (Innerlichkeit), — к опыту внутреннего переживания. Они пытались открыть творческую область бытия, которая предшествует различению на объективность и субъективность и выходит за его пределы.
Если переживание этого уровня жизни «мистично», тогда экзистенциальную философию можно назвать попыткой вновь завоевать смысл жизни в «мистическом» понимании, после того как он было утрачен как в экклезиастических, так и в позитивистских понятиях. Необходимо, следовательно, вновь определить «мистическое», если мы хотим применить его к экзистенциальной философии. В этом контексте применяемый термин не означает мистического союза с трансцендентным Абсолютом, он означает скорее порыв веры к единению с глубиной жизни, охвачен ли этим порывом индивид или какая-либо социальная группа. В таком «мистицизме» больше протестантского, нежели католического наследия; но это именно мистицизм в попытке выйти за пределы и отчужденной «объективности», и пустой «субъективности» современной эпохи. С исторической точки зрения можно сказать, что экзистенциальная философия стремится вернуться к докартезианскому подходу, когда еще не была создана ужасающая бездна между «сферами» объективного и субъективного, и сущность объективного может быть обнаружена в глубине субъективности, в которой Бог наиболее близок душе.
Эта проблема и такое ее решение в некоторых аспектах специфична для немецкой культуры, в других же аспектах — является общей и для всей европейской. Это — отчаянная борьба за обретение нового смысла жизни в реальности, от которой человек был отчужден, в культурной ситуации, в которой две великие традиции — христианская и гуманистическая — утратили всеобъемлющий характер и убеждающую силу. Поворот к внутреннему (Innerlichkeit), или, точнее, к созидательным истокам жизни в глубине человеческого опыта совершился во всей Европе. По причинам социологического характера в Германии он был более философским и более радикальным, нежели в иных странах. Он превратился в ту квазирелигиозную силу, которая на протяжении первой половины XX в. трансформировала общество — сначала в России, а затем в других частях Европы.
Для понимания экзистенциальной философии может быть полезно сравнение с той ситуацией, которая имела место в Англии. Англия — единственная европейская страна, в которой экзистенциальная проблема обретения нового смысла жизни не имела значимости, поскольку там уживались бок о бок позитивизм и религиозная традиция, объединенные социальным конформизмом, не позволяющим ставить радикальные вопросы о смысле человеческого Существования. Важно отметить, что в этой стране, в которой не было экзистенциальной философии, в период с 1830 по 1930 г. религиозная традиция оставалась довольно сильной. Это еще раз показывает, насколько развитие экзистенциальной философии зависит от факторов, связанных с разрушением религиозной традиции на Европейском континенте.
В своей борьбе против бессмысленности современной технологической цивилизации философы существования применяли различные методы и имели различные цели. Для всех них подчеркивание экзистенциального было лишь одним из факторов, более или менее контролируемым. Шеллинг разделял веру немецких романтиков в то, что новая философия, и в особенности новый подход к объяснению феномена религии, способна создать новую реальность. Но эти надежды не осуществились, и его непосредственное влияние осталось чрезвычайно слабым и ограничилось теологией периода Реставрации. Значение Фейербаха для экзистенциального мышления состоит главным образом в его критике гегелевского примирения христианства с современной философией, нежели в его метафизическом материализме, который, безусловно, существенно усилил позиции буржуазно-механистического истолкования природы и человека.
Кьеркегор представляет религиозное крыло экзистенциальной философии. Сам он не претендовал на звание философа, а те, кто считает его воплощением классического типа экзистенциального мыслителя, часто утверждают, что подлинный экзистенциальный мыслитель не может быть философом. Но произведения Кьеркегора отчетливо показывают скрытую связь с философией. Как религиозный мыслитель он столкнулся с противодействием церкви, которая сделалась «буржуазной» и в теории, и на практике; он утверждал свою радикальную христианскую веру лишь в терминах абсолютного парадокса и страстной личной преданности. Как философский мыслитель он создал «диалектическую» психологию, которая внесла огромный вклад в антирационалистический и антимеханистический подходы к истолкованию человеческой природы.
Называя Маркса экзистенциальным мыслителем, мы имеем в виду лишь некоторые направления его мысли: его борьбу против самоотчуждения человека при капитализме, борьбу против любой теории, лишь объясняющей мир, но не изменяющей его; против утверждения о том, что знание совершенно не зависит от той социальной ситуации, в которой его добиваются. Подобно Кьеркегору, Маркс не стремился быть философом: он провозглашал конец всякой философии и ее трансформацию в революционную социологию. Но толчок, который он дал интерпретации истории, его доктрина «идеологии», социологический анализ, который он применил в экономике, — все это сделало его теоретическую мысль могучей силой в философской дискуссии конца XIX в. и начала XX, а задолго до этого он стал величайшей политической силой в борьбе XX столетия против традиций века XIX.
Подобно Марксу, Ницше и других представителей «Философии жизни» можно считать экзистенциальными философами лишь в некоторых аспектах их воззрений. Нападки Ницше на «европейский нигилизм», его биологическая интерпретация категорий знания, его фрагментарный и пророческий стиль, эсхатологическая страстность; дильтеевская проблема экзистенциальных корней различных истолкований жизни; нападки Бергсона на пространственную рациональность во имя творческой витальности; первичность жизни по отношению ко всему, чему она дала начало у Зиммеля и Шелера — все эти идеи обнаруживают свой экзистенциальный характер. Но подобно тому как Маркс никогда не ставил под сомнение естественные науки, экономическую теорию и диалектический разум, так Ницше и «Философы жизни» всегда опирались на научные методы и онтологию жизни. Хайдеггер и — в менее явной форме — Ясперс вернулись к кьеркегоровскому типу экзистенциальной философии, и в особенности к его диалектической психологии. Они возродили термин «экзистенциальный» для обозначения той философии, которая апеллирует к опыту непосредственного личного переживания, и вступили в союз с теологией, в чем также сказалось глубокое влияние Кьеркегора, который страстно нападал на секуляризованные буржуазные церкви. Однако Хайдеггер с помощью Аристотеля и «философии жизни» трансформировал диалектическую психологию в новую онтологию, радикально отвергающую религиозные импликации экзистенциального подхода, заменяя их безудержной решимостью трагической и героической личности.
Экзистенциальная философия являет собой драматическую картину: над движением экзистенциализма довлеет полярная противоположность экзистенциального подхода и его философского выражения. Даже у одних и тех же мыслителей доминирует то экзистенциальный элемент, то философский. И у всех преобладает критический интерес. Все они лишь демонстрируют свою реакцию в теории и практике — на историческую судьбу, осуществлению которой они содействовали самой этой реакцией. Они — выражение великой революции, происходящей внутри западного индустриального общества и направленной против него, революции, которая была подготовлена в XIX столетии и осуществляется в XX.
VIII. Теологическое значение экзистенциализма и психоанализа
Мы должны будем использовать два слова: «психоанализ» и «теология», которые по самой своей природе ставят перед нами семантические проблемы. «Психоанализ» — специальный термин, им широко пользуется фрейдистская школа, настаивающая на том, что никакая другая школа не имеет права его применять. Недавно мне пришлось участвовать во встрече с одним из представителей этой школы. Беседа протекала сердечно, пока таких ученых, как Хорни, Фромм, Юнг и Ранк, не назвали психоаналитиками. Фрейдист тотчас же заявил: «Они поступают нечестно, именуя себя психоаналитиками. Они делают это лишь из соображения выгоды».
Эта ситуация показывает, что нам следует разобраться с этим термином. Его применяют здесь не так, как это делал бы психоаналитик, но скорее в более широком смысле, который приобрел этот термин на протяжении последнего полувека. Это развитие, конечно, опирается на фундаментальное открытие Фрейда, а именно на роль бессознательного. Существуют, однако, два других понятия, обозначающие нечто аналогичное данному предмету, которые могут и должны быть использованы здесь: «терапевтическая психология» и «глубинная психология».
Что касается термина «теология», возможно, многим из вас известно, что на наших теологических семинарах и в религиозных школах слово «теология» часто используется исключительно в смысле систематической теологии, а теология историческая и практическая вообще теологией не считается. Мы расширим понятие теологии в рамках обсуждения ее взаимосвязи с глубинной психологией и включим в него религиозные движения прошлого, фигуры великих религиозных деятелей, а также тексты Нового Завета. Мы намерены также включить в него практическую теологию, где взаимосвязь с психоанализом становится особенно заметной, а именно в функции советчика, дающего рекомендации одновременно в терминах религиозных и психоаналитических.
Теперь мы должны также обсудить проблему той пропасти, которая образовалась в отношении экзистенциализма к психоанализу. Это — настоящая пропасть, поскольку экзистенциализм понимают сейчас в более широком смысле, чем в период после окончания второй мировой войны. В то время экзистенциализм отождествляли с философией Сартра. Но экзистенциализм возник и выразил себя в определенных формах давно, в XVIII и XIX столетиях; он воплощен почти во всех великих творениях, во всех сферах жизни в XX в. Если понимать экзистенциализм в этом более широком смысле, можно отчетливо увидеть взаимосвязь между экзистенциализмом и психоанализом. Следует сделать основополагающее суждение по поводу взаимосвязи теологии и психоанализа: психоанализ по сути своей принадлежит к экзистенциалистскому движению XX в., и поскольку он есть часть этого движения, его следует понимать во взаимосвязи с теологией, также как следует понимать взаимосвязь теологии и экзистенциализма.
Это указывает на связь глубинной психологии с философскими течениями, а также на взаимное влияние между этим движением и экзистенциалистским движением XIX и XX вв. Психоанализ и экзистенциализм были связаны друг с другом с самого возникновения; они влияли друг на друга, и довольно радикальным образом. Всякий, кто обратит внимание на сочинения экзистенциалистских авторов, начиная с Достоевского и кончая современными писателями, согласится, что проблематика их романов, драм и поэм прямо соотносится с основными темами глубинной психологии. Это справедливо и в отношении произведений изобразительного искусства, ибо современное искусство — это по существу экзистенциалистская форма искусства. Однако мы сможем понять это лишь в том случае, если мы увидим общий корень и общую интенцию в экзистенциализме и психоанализе.
Если эти общие корни найдены, то вопрос о взаимосвязи психоанализа и теологии можно поставить более широко. Тогда можно отвергнуть попытки некоторых теологов и психологов разделить обе сферы, и точно так же можно не слушать тех, кто предлагает нам оставаться в пределах либо той, либо другой области: здесь — система теологических доктрин, там — психологические прозрения. Взаимосвязь не означает, что одно просто существует рядом с другим; это — отношение обоюдного взаимопроникновения.
Общий корень экзистенциализма и психоанализа — протест против растущей власти философии сознательного в современном индустриальном обществе. Этот конфликт между философией сознательного и протестом против нее значительно старше, чем современное индустриальное общество. Он проявляется в XIII в. в знаменитом споре между последователями Фомы Аквинского, утверждавшего примат интеллекта над волей, и последователями Дунса Скота, считавшего, что «воля выше интеллекта». И тот и другой были теологами, и я упоминаю о них главным образом для того, чтобы показать, сколь несостоятельны теологические позиции тех, кто стремится исключить из теологии философские и психологические проблемы. Борьба между этими двумя основными подходами не только к природе человека, но и к природе Бога и мира продолжается доныне.
В эпоху Ренессанса мы также встречаемся с философами сознательного, это гуманисты, как Эразм Роттердамский, либо ученые, как Галилей. Но им противостоят такие мыслители, каю Парацельс в области медицинской философии, который боролся с механистическим подходом в медицине и анатомии и выступал против разделения души и тела; Якоб Беме, оказавший сильное влияние на философию более позднего периода главным образом описаниями в мифологических терминах элементов бессознательного в глубине божественной жизни и, следовательно, и во всей жизни. Мы обнаруживаем тот же конфликт в эпоху Реформации: с одной стороны, победа сознания, отраженная в трудах Меланхтона, Цвингли и Кальвина, находившихся под влиянием гуманистов из круга Эразма Роттердамского, в то время как акцент на иррациональной воле присутствует у Лютера, который в значительной мере повлиял на Якоба Беме.
История индустриального общества, конец которой мы сейчас переживаем, представляет собой историю победы философии сознательного над философией бессознательного, философией иррациональной воли. Символом полной победы философии сознательного стало имя Рене Декарта; победа эта стала полной даже в религии, когда протестантская теология восприняла картезианское представление о человеке как о чистом сознании, с одной сторон, и о механическом процессе, именуемом телом, с другой. В лютеранстве главным образом познавательная сторона человеческого сознания возобладала над ранним лютеровским пониманием иррациональной воли. У Кальвина главную роль стало играть моральное сознание, моральный центр сознания, способный к самоконтролю. Мы видим в Америке, религиозная философия которой в значительной степени зависит от кальвинизма и родственных ему взглядов, моралистический и деспотический тип протестантизма, свидетельствующий о полной победе философии сознательного в современном протестантизме. Но, несмотря на эту победу, протест не был заглушен.
В XVII столетии Паскаль осознанно противостоял Декарту. Он дал первый экзистенциалистский анализ человеческой ситуации и описал ее способом, сходным с тем, как ее описывали позднейшие экзистенциальные и неэкзистенциальные философы, т. е. в терминах тревоги, конечности, вины, сомнения, бессмысленности мира, в котором ньютоновские атомы и космические тела движутся в соответствии с механическими законами; и, как мы знаем из многих высказываний Паскаля, человек, утративший ощущение центра, лишенный Земли как центра, ощущает себя полностью потерянным в механической Вселеной, испытывая в своей жизни тревогу и отсутствие смысла. В XVIII в. были и другие мыслители, например Гаман, которого мало знают за пределами Германии, человек с пророческой силой духа, предвосхитивший многие экзистенциалистские идеи. Но самый радикальный протест приходится как раз на тот момент, когда развитие философии сознательного достигло своего пика в философии Гегеля. Против этой победы сознательного восстал Шеллинг и передал Кьеркегору и многим другим основные понятия экзистенциализма. Ему на смену пришли: Шопенгауэр с понятием иррациональной воли, философия бессознательного Эдуарда фон Гартмаиа, Ницше, который предвосхитил многие результаты позднейших исследований глубинной психологии. Этот протест проявился в описании человеческого удела, его конечности, отчуждения и утраты субъективности у Кьеркегора и Маркса. И у Достоевского находим мы страницы, посвященные демоническому подсознательному в человеке; аналогичные темы мы находим во французской поэзии у таких поэтов, как Рембо, Бодлер и другие. Так подготавливалась почва для того, что должно было свершиться в XX в.
Все, что открыли эти мыслители на путях онтологической интуиции или теологического анализа, теперь благодаря Фрейду приобрело статус методологической научной терминологии. Фрейд своим открытием бессознательного открыл заново многое из того, что было известно задолго до него и использовалось на протяжении многих десятилетий (и даже столетий) для борьбы с победоносной философией сознательного. Фрейд придал этому протесту научный методологический фундамент. В его концепции мы видим старый протест против философии сознательного. Особенно у таких мыслителей, как Хайдеггер и Сартр, а также во всей литературе и искусстве XX в. экзистенциалистской точкой зрения становится осознание себя. И теперь она была выражена не только как подавляемый элемент протеста, но прямо, намеренно и сознательно.
Этот краткий обзор показывает неотделимость глубинной психологии от философии, а также их обеих — от теологии. И если мы теперь сравним глубинную психологию и экзистенциальную философию во всех их различиях и сходствах, будет ясно, что они не могут быть разделены. Основным моментом здесь является то, что и экзистенциализм, и глубинная психология заинтересованы в описании экзистенциального удела человека — его пребывания во времени и пространстве, в ситуации конечности и отчужденности — по контрасту с его сущностной природой, поскольку обсуждению экзистенциального удела человека как чего-то противоположного его сущностной природе следует так или иначе предпослать рассмотрение его сущностной природы. Но это отнюдь не является целью, к которой стремится литература экзистенциализма. В фокусе интересов как экзистенциализма, так и глубинной психологии — отчужденное существование человека, симптомы и характеристики этого отчуждения, а также условия существования во времени и пространстве. Само название — «терапевтическая психология» ясно указывает, что эта наука ориентирована на то, что противоречит норме и подлежит излечению. Этот термин указывает на взаимосвязь между болезнью — умственной, телесной или психосоматической — и экзистенциальным уделом человека.
Ясно также и то, что все экзистенциальные высказывания имеют место в ситуации, которая находится на границе между здоровьем и болезнью, и содержат один-единственный вопрос (все можно свести к нему): как возможно, что бытие обладает структурой, порождающей психосоматические заболевания? Чтобы ответить на этот вопрос, экзистенциализм указывает на возможный для человека опыт переживания бессмысленности, на постоянное переживание одиночества, на широко распространенное ощущение пустоты. Он выводит переживания человеком этих состояний из его конечности, из осознания конечности, которое проявляется в тревоге; из отчуждения от самого себя и своего мира. Экзистенциализм указывает на возможность свободы и ее опасность, на угрозу небытия во всех ее аспектах — от смерти до вины. Все это характеристики экзистенциального удела человека, и в этом глубинная психология и экзистенциализм согласны друг с другом.
Существует, однако, и важное различив между ними. Экзистенциализм как философия говорит об универсальной человеческой ситуации, которая имеет отношение к любому человеку, независимо от того, здоров он или болен. Глубинная психология указывает на способы, посредством которых человек, пытаясь избежать этой ситуации, ускользает в невроз и психоз. В экзистенциалистской литературе — не только в романах, поэмах и драмах, но даже в философии — трудно провести пограничную линию между универсальной экзистенциальной ситуацией человека, основанной на конечности и отчуждении, и его психосоматическим заболеванием, которое рассматривается как попытка избежать этой ситуации и ее тревог, укрывшись в мнимую крепость своей несовершенной психики.
Каковы же теологические утверждения, применимые к глубинной психологии и экзистенциализму, которые в действительности — суть одно? Отношения между сущностной природой человека и его экзистенциальным уделом — первый и основной вопрос, который должна поставить теология, когда бы она ни сталкивалась с экзистенциалистским анализом или психоаналитическим материалом. В христианской традиции существуют три фундаментальных концепции. Первая: Esse qua esse bonum est Эта латинская фра-за заключает в себе основной догмат христианства. Она означает: «Бытие как бытие есть благо»; или в форме библейской мифологии: «Бог посмотрел на все, что он создал, и увидел, что это хорошо». Вторая концепция — универсальная ситуация падения, где падение означает переход от этого сущностного блага к экзистенциальному отчуждению от самого себя, который происходит в любом живом существе и в любое время. Третья концепция говорит о возможности спасения. Следует помнить, что этимология слова «спасение» восходит к «Salus» или «Salvus», что на латыни означает «исцеленный» или «целый» в противоположность состоянию разорванности.
Эти три суждения о человеческой природе присутствуют во всяком подлинном теологическом мышлении: сущностное благо, экзистенциальное отчуждение и возможность чего-то иного, «третьего», запредельного сущности и существованию, посредством чего разрыв может быть преодолен и исцелен. В философских терминах это означает, что сущностная и экзистенциальная природа человека указывают на его телеологическую природу (от греческого слова «telos» — цель), ради которой протекает и по направлению к которой устремляется его жизнь.
Не установив различения между тремя этими элементами, всегда присутствующими в человеке, можно впасть в бесчисленные заблуждения. Всякая критика экзистенциализма и психоанализа на основе такого тройственного видения человеческой природы направлена против смешивания этих трех фундаментальных элементов, которые всегда необходимо различать, несмотря на то что все они вместе постоянно присутствуют в каждом из нас. Концепция Фрейда в этом отношении грешит неясностью, поскольку он не в состоянии был различить между сущностной и экзистенциальной природой человека. Этот главный момент теологической критики Фрейда относится не к каким-либо конкретным следствиям, которые можно извлечь из его теоретических построений, но касается его концепции человека и того представления о нем, которое является центральным для всех его воззрений. Его рассуждения о либидо (1) делают этот недостаток особенно очевидным.
Согласно Фрейду, человек наделен бесконечным либидо, которое никогда не может быть удовлетворено и в силу этого порождает в нем желание освободиться от самого себя, желание, которое Фрейд называет инстинктом смерти. И это справедливо не только по отношению к индивиду, но касается также отношения человека к культуре как к целому. Критическая «неудовлетворенность культурой» указывает на то, что Фрейд был весьма последователен в негативных суждениях о человеке как существе, экзистенциально искаженном. Действительно, если рассматривать человека лишь с точки зрения его существования, но не его сущности, лишь с точки зрения отчуждения, а не сущностной его добродетели, то такой вывод неизбежен.
Попробуем прояснить это с помощью теологического понятия — древнего, классического понятия вожделения. Оно применяется в христианской теологии точно в том же смысле, в каком Фрейд применяет понятие либидо, но используется оно применительно к человеку в определенных обстоятельствах его существования; это — неограниченное устремление за пределы всякого удовлетворения, побуждение к получению удовлетворения сверх уже полученного. Но согласно теологической доктрине, человеку в его сущностной добродетели несвойственно пребывать в состоянии вожделения или иметь неограниченное либидо. Он скорее ориентирован на определенный конкретный субъект, на некое содержание, будь то человек или нечто, с чем он связан любовью, которая носит характер eros либо agape, неважно, на что направлено это чувство любви. Если это так, то ситуация становится совершенно иной. Тогда индивид может иметь либидо, но осуществленное либидо — это реальное осуществление, и у индивида нет побуждения неограниченно устремляться за его пределы. Это означает, что описание либидо, сделанное Фрейдом, следует рассматривать теологически, как описание человека в его экзистенциальном самоотчуждении. Но Фрейд и не знал никакого иного человека, и в этом состоит существо той критики, которую теология может направить против него в данном вопросе.
Однако, к счастью, Фрейд, подобно большинству великих людей, не был последовательным, то касается процесса лечения, то он знал кое-что об исцеленном человеке, человеке в понимании третьей фундаментальной концепции — человеке телеологическом. И поскольку он был убежден в возможности излечения, это глубоко противоречило его основному подходу к человеку, ибо в теории и практике Фрейд ограничивался рассмотрением человека экзистенциального. Говоря более доступным языком, пессимизм во взглядах на природу человека и оптимизм относительно возможности излечения никогда не были примирены ни у Фрейда, ни у его последователей.
Но некоторые из его последователей поступили следующим образом: они отвергли глубокое проникновение Фрейда в природу экзистенциального либидо и инстинкта смерти и. в сущности, сократили или выбросили из концепции Фрейда то, благодаря чему он был (и остается до сих пор) наиболее глубоким из всех глубинных психологов. Этот упрек справедлив даже в отношении Юнга, который гораздо больше интересовался религией, чем Фрейд. Но Фрейд, с теологической точки зрения, видел в человеческой природе больше, чем все его последователи, которые, отказавшись от экзистенциального элемента в учении Фрейда, стали ориентироваться на эссенциалистскую и оптимистическую точку зрения на человека.
Такого же рода критику можно направить и в адрес Сартра с его чистым экзистенциализмом и тонким психологическим анализом. Величие этого человека в том, что он является психологическим интерпретатором Хайдеггера. Во многих моментах Сартр, возможно, дает ложную интерпретацию но тем не менее его психологические прозрения глубоки. Однако здесь мы сталкиваемся с тем же самым, о чем уже говорилось раньше: Сартр заявляет, что сущность человека есть его существование. Но это утверждение делает невозможным для человека спасение или исцеление. Сартр в каждой своей пьесе показывает нам, что он это сознает. Однако и в его случае перед нами пример счастливой непоследовательности. Он называет свой экзистенциализм гуманизмом. Но это означает, что у него есть определенное представление о сущности человека и он должен учитывать возможность того, что может быть утрачено сущностное бытие человека, его свобода. А если есть возможность такой утраты, то получается, что Сартр, сам того не желая, делает различие между человеком, каков он есть сущностно, и человеком, который может утратить себя: человек должен быть свободным и творить самого себя.
С той же проблемой мы встречаемся у Хайдеггера. С одной стороны, если исходить из того, что утверждает Хайдеггер, то получается, что не существует никаких норм, никакого сущностного человека, и человек творит сам себя. С другой стороны, он говорит о различии между подлинным существованием и неподлинным, впадающим в усредненное существование конвенционального мышления и в бессмысленность — в такое существование, в котором человек утрачивает себя. И это весьма интересный момент, поскольку показывает, что даже когда наиболее радикальный экзистенциалист желает нечто высказать, то он с необходимостью прибегает к тем или иным эссенциалистским утверждениям, поскольку без них он не смог бы ничего утверждать.
Другие психоаналитики изображали человеческую ситуацию как то, что поддается коррекции и исправлению, т. е. только как то, что является слабым и уязвимым. Нам следует задать вопрос: является ли человек сущностно здоровым? Если да, то следует лишь избавить его от того, что лежит в основе его тревоги; например, если избавить его от дурных влияний, которым он подвергается в обществе, от соперничества и тому подобных вещей, то все будет в порядке. Мыслители, подобные Фромму, рассуждают о возможности преобразования в автономную неавторитарную личность, которая развивается сообразно требованиям разума. И даже Юнг, знаток глубин человеческой души и смысла религиозных символов, считает, что в человеческой душе присутствуют сущностные структуры и возможны искания личности (которые вполне могут увенчаться успехом).
Ни у кого из представителей современной глубинной психологии мы не обнаружим глубины, присущей Фрейду. Мы теряем ощущение присутствия иррационального элемента, который есть у Фрейда и у большинства писателей-экзистенциалистов. Мы уже упоминали Достоевского, но можно упомянуть также Кафку и многих других авторов.
Теперь мы перейдем к третьему элементу, а именно к телеологическому, к элементу осуществления, к вопросу об исцелении. Здесь перед нами налицо различие между излечением острого заболевания и исцелением экзистенциальных предпосылок ко всякому болезненному или здоровому существованию. Это — основа излечения особо острых заболеваний; здесь согласны между собой представители всех школ и направлений. Существуют острые заболевания, которые влекут психосоматические расстройства и нарушения. Есть и принудительные ограничения возможностей человеческих проявлений, которые приводят к неврозам, а в некоторых случаях — к психозам. Но сверх этого есть также и экзистенциальные предпосылки. Ни фрейдизм, ни какие бы то ни было чисто экзистенциальные рассуждения не способны привести к исцелению от этих фундаментальных предпосылок. Многие психоаналитики пытаются с помощью своих методов преодолеть экзистенциальное отрицание, тревогу, отчуждение, бессмысленность или вину. Эти психоаналитики отрицают, что они — универсальны, что они — экзистенциалисты в полном смысле слова. Тревогу, вину, опустошенность они считают заболеванием, которое можно преодолеть как всякую болезнь. Но это невозможно. Экзистенциальные структуры не поддаются излечению, даже с помощью самых рафинированных методов. Они суть объекты спасения. Психоаналитик может стать орудием спасения, как и любой человек: друг, родитель, ребенок могут быть орудием спасения. Но как психоаналитик он не может принести спасение при помощи медицинских методов, ибо для этого необходимо исцелить центр личности.
Как же теология может рассматривать глубинную психологию? Распространение этих двух движений, экзистенциализма и глубинной психологии, имеет безграничную ценность для теологии. Оба движения принесли в теологию то, что она всегда должна была знать, но она это забыла и скрыла от себя.
Во-первых, они помогают заново открыть неизмеримую глубину того психологического материала, который мы обнаруживаем в религиозной литературе на протяжении последних двух тысяч лет и даже еще раньше. Почти каждое глубокое прозрение, связанное с движением души, можно найти в этой литературе; классический пример — «Божественная комедия» Данте, особенно картины Ада и Чистилища, и описания внутреннего саморазрушения человека в его отчуждении от своего сущностного бытия.
Во-вторых, это вновь открытый смысл слова «грех», которое сделалось совершенно невразумительным из-за отождествления «греха» с «грехами», а грехов — с теми или иными действиями, которые нарушают принятые условности или не встречают одобрения в обществе. Грех — нечто совершенно иное. Это — универсальное трагическое отчуждение, основанное на свободе и судьбе всех человеческих существ, и слово это не может быть использовано во множественном числе. Грех — отделение, отчуждение от своего сущностного бытия — вот что это слово означает. И если мы обрели этот изначальный смысл понятия греха в результате работы ученых и исследователей, представителей глубинной психологии, то это, безусловно, великий дар, который сделали теологии глубинная психология и экзистенциализм.
В-третьих, глубинная психология помогла теологии вновь открыть демонические структуры, определяющие наше сознание и наши решения, что опять-таки очень важно. Это означает следующее: если мы уверены в том, что свободны в принятии сознательного решения, мы можем обнаружить, что с нами произошло нечто, придавшее направление этим решениям еще до того, как мы приняли их. В этом заново сделанном открытии и заключается утверждение об иллюзорности свободы в том абсолютном смысле, в котором она использовалась. Это — не детерминизм. Экзистенциализм, безусловно, не детерминизм. Однако экзистенциализм, и в особенности психоанализ, а также философия бессознательного в целом вновь открыли целостность личности, в которой решающими являются отнюдь не только элементы сознательного.
Четвертый момент, связанный с предыдущим, заключается в том, что в христианской теологии в значительной степени может быть преодолен морализм. Требования морали были одной из сильнейших форм самоотчуждения теологии от целостного ее бытия. И, безусловно, важно знать, что теология должна была учиться у психоаналитического метода постижению смысла милости, смысла прощения как принятия неприемлемых людей, а не одних лишь приятных и хороших. Именно нехорошие суть те, кого принимают, или, говоря языком религии, прощают, оправдывают. Слово «милость», которое утратило всякое значение, обрело новый смысл благодаря психоаналитической практике общения врача с пациентом. Он в полном смысле слова «принимает» его, он не говорит: «Вы вполне приемлемы», но он принимает его. Но именно так, согласно религиозной символике, поступает с нами Бог, и именно так каждый священник и каждый христианин должен относиться к другому человеку.
До того, как заново открыли исповедь и консультирование (полностью утраченные в протестантизме), от любого человека требовалось, чтобы он что-то делал, и если он это не делал, его могли упрекнуть. Теперь он может пойти к кому-то, поговорить и в процессе разговора объективировать то, что присутствовало в нем и мешало ему, и избавиться от этого. Если консультант или исповедник обладает пониманием человеческой ситуации, он может быть посредником, проводником милости для того, кто пришел к нему, и благодаря его посредничеству этот человек почувствует, что преодолел разрыв между сущностью и существованием.
Каково же влияние психоанализа на систематическую теологию? Истолкование человеческого удела в психоанализе ставит вопрос, подразумеваемый самим человеческим существованием. Систематическая теология должна показать, что религиозные символы суть ответы на эти вопросы. Если именно так понимать взаимоотношения теологии и глубинной психологии, станет ясно, насколько они важны для теологии. Не существует теистического или нетеистического экзистенциализма и психоанализа. И тот и другой анализируют человеческую ситуацию. Всякий раз, как психоаналитики и философы дают ответ, они делают это не как экзистенциалисты. Они дают ответ, исходя из представлений, присущих иной традиции, какой бы она ни была: католической, протестантской, лютеранской, гуманистической или социалистической. Традиции приходят откуда угодно, но они не исходят от вопроса.
Во время продолжительной беседы в Лондоне с Т. С. Элиотом, которого считают экзистенциалистом, мы обсуждали эту проблему. Я сказал ему: «Уверен, что вы не сможете ответить на вопросы, которые ставите в пьесах и поэмах, на основании пьес и поэм, поскольку они лишь формулируют вопросы, описывают человеческое существование. Но если существует ответ, он приходит откуда-то еще». Он ответил: «Но как раз за это я постоянно борюсь. Я, как вам известно, принадлежу к англиканской церкви». И он действительно верующий англиканец; он отвечает на вопросы как англиканец, а не как экзистенциалист. Это означает, что экзистенциалист ставит вопросы и анализирует человеческую ситуацию, чтобы теолог затем мог дать ответ, вытекающий не из вопроса, но откуда-то еще, и не из человеческой ситуации как таковой.
Теология получила колоссальные дары от экзистенциализма и психоанализа; дары, о которых и не мечтали пятьдесят или даже тридцать лет назад. У нас — они есть. Экзистенциалистам и психоаналитикам не обязательно знать о том, что они подарили теологии столь ценные вещи. Но теологи обязаны знать об этом.
IX. Наука и теология: Дискуссия с Эйнштейном
Несколько лет назад Альберт Эйнштейн выступил с речью на тему «Наука и религия», которая вызвала немало возражений у верующих и теологов из-за отрицания им идеи личного Бога54. Будь это не Эйнштейн, великий преобразователь нашей физической картины мира, его аргументы, вероятно, не вызвали бы никакого волнения, поскольку сами по себе они не новы и не обладают большой силой убеждения. Но изложенные Эйнштейном как выражение его интеллектуального и морального характера, они представляют интерес. Поэтому оправдана такая позиция философской или апологетической теологии, при которой она не только вступает в полемику с Эйнштейном, но и стремится предложить такое решение, в котором его критика была бы принята и в то же время преодолена. Эйнштейн нападает на идею Личного Бога с четырех позиций: идея эта несущественна для религии; она — порождение примитивных предрассудков; она противоречит сама себе; она противоречит научной картине мира.
Первый аргумент предполагает определение природы религии, при этом оставляется в стороне все, что отличает религию от этики: религия — это принятие сверхличностных ценностей и приверженность им. Но нельзя ответить на вопрос о том, адекватно ли это определение религии, пока мы не получим ответ на вопрос, имеет ли какой-либо объективный смысл идея личного Бога. Поэтому нам следует обратиться ко второму аргументу, историческому.
Невозможно объяснить, почему воображение человека на самой ранней стадии его развития создало идею Бога. Нет сомнения в том, что идея эта находила употребление и злоупотребление во всех видах предрассудков и безнравственного поведения. Но чтобы чем-то злоупотреблять, сначала оно должно было быть в употреблении. Злоупотребление идеей ничего не говорит о ее происхождении. Если принять во внимание то колоссальное влияние, которое идея Бога всегда оказывала на человеческое мышление и поведение, крайне неадекватной представляется гипотеза, согласно которой все это было продуктом невежественного произвольного воображения. Мифологическая фантазия может создать истории о богах, однако она не может создать саму идею Бога, поскольку идея эта — за пределами всех элементов опыта, создающего мифологию. Как утверждает Декарт, бесконечное в нашем сознании предполагает само бесконечное.
Третий аргумент Эйнштейна оспаривает идею всемогущего Бога: этот Бог ответствен за моральное и физическое зло, хотя предполагается, что Он добр и справедлив. Эта критика опирается на концепцию всемогущества, которая отождествляет всемогущество с универсально действующей силой в терминах физической причинности. Но существует старая теологическая доктрина, которая всегда делала акцент на том, что Бог действует во всем тварном сообразно его природе: в человеке — сообразно его разумной природе, в растениях и животных — сообразно их органической природе, в камнях — сообразно их неорганической природе. Символ всемогущества выражает опыт религиозного переживания того, что нет такой структуры реальности и такого события в природе и истории, которые могли бы удалить нас от связи с бесконечной и неистощимой основой смысла и бытия. Что означает такое «всемогущество», можно обнаружить в тексте Второ-Исайи (Исайя, 40), когда он, обращаясь к изгнанникам в Вавилоне, описывает ничтожество мировых империй в сравнении с божественным могуществом, которое способно осуществить свои цели в истории с помощью крайне малочисленной группы изгнанников. Это же значение «всемогущества» можно обнаружить в словах Павла (К Римлянам, 8), обращенных к небольшой группе христиан, живущих в трущобах крупных городов. Павел утверждает, что ни природные либо политические силы, ни земные либо небесные власти не могут отлучить нас от «любви Божией». Если идею всемогущества извлечь из такого контекста и преобразовать в описание особой формы причинности, она станет не только противоречивой (как справедливо заявляет Эйнштейн), но абсурдной и утратит религиозный характер.
Это приводит нас к последнему и наиболее важному аргументу Эйнштейна: идея личного Бога противоречит научному объяснению природы. Прежде чем разбирать этот аргумент, следует сделать два методологических замечания.
Во-первых, можно полностью согласиться с Эйнштейном, когда он предостерегает теологов, чтобы они не строили свои концепции, так сказать, в темных местах научных исследований. Этот скверный метод применили некоторые фанатические приверженцы теологии XIX в., но таким никогда не был подход ни одного из великих теологов. Теология должна оставить науке описание объектов в целом и их взаимодействия в природе и истории, в человеке и его мире. Кроме того, теология должна предоставить философии описание структур и категорий бытия и логоса, в которых бытие проявляет себя. Всякое вмешательство теологии в эти задачи философии и науки разрушительно для самой теологии.






