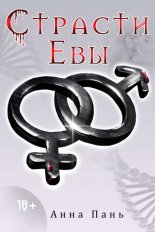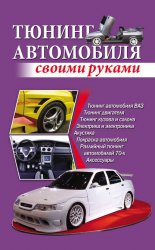Половинный код. Тот, кто убьет Грин Салли

Но теперь асфальт медленно-медленно поднимается к моему лицу, и я еще успеваю подумать, что никогда не видел ничего подобного и как это его, хрен знает…
…теперь мне холодно… а лежу я на чем-то твердом. Это твердое расквасило мне щеку. Я чувствую вкус крови.
Но я в порядке. Ощущение странное, но я в порядке.
Я открываю глаза: все серое и шершавое.
Я фокусирую взгляд. Ага, это ведь школьная площадка… Помню…
Я не двигаюсь. Кирпич лежит рядом со мной на асфальте. Он тоже не двигается. Вид у него такой, будто и ему сегодня досталось.
Я снова закрываю глаза.
А затем я в лесу рядом с домом. Совершенно не помню, как добрался туда. Лежа на спине, я смотрю в небо и чувствую, что у меня ломит все тело. Все так же лежа, я поднимаю руки и ощупываю свое лицо миллиметр за миллиметром, медленно приближаясь к тому месту, где, как я знаю, по-настоящему плохо.
Одну губу раздуло, и она онемела, зуб шатается, почему-то болит язык, нос разбит, глаз заплыл, а из пореза над левым ухом течет кровь и еще какая-то липкая хрень. На макушке — здоровенная шишка.
Бабушка обмывает мне лицо и кладет примочки на синяки, которые появились у меня на руках и спине. Из пореза на голове снова начинает идти кровь, и бабушка сбривает вокруг этого места волосы, прикладывает к нему примочку с каким-то снадобьем. Она молчит с того момента, как я рассказал ей, с кем подрался.
Я смотрю в зеркало и улыбаюсь, несмотря на разбитую губу. Оба глаза у меня подбиты, на лице настоящая радуга из фиолетового, зеленого и даже желтого. Правый глаз совсем закрыт. Нос распух и сильно болит, но не сломан. Волосы над левым ухом выбриты, кожа покрыта густой желтой мазью.
Бабушка разрешает мне не ходить в школу, пока не заживет глаз.
К счастью, когда я иду в школу, пролысина над ухом тоже начинает зарастать.
В первый день Анна-Лиза садится рядом со мной на рисовании.
Она шепчет:
— Они рассказали мне о том, что сделали.
Сидя дома, я много думал о ней и ее братьях. Я знаю, что разумнее всего было бы не обращать на нее внимания, и я почти уверен, что, если я попрошу ее, она больше не станет ко мне подходить. Я даже заготовил на этот случай небольшую речь, что-то вроде: «Пожалуйста, не говори больше со мной, а я не стану говорить с тобой».
Но Анна-Лиза произносит:
— Прости меня. Это я виновата.
Но то, как она это говорит — как будто она и в самом деле виновата, как будто и в самом деле расстроена, — буквально сводит меня с ума. Я-то знаю, что ни в чем она не виновата, как и я не виноват. Я тут же забываю свою дурацкую речь, все свои дурацкие намерения и… касаюсь ее руки кончиками пальцев.
На уроках рисования мы с Анной-Лизой шепчемся и переглядываемся, и мне удается больше двух с половиной секунд выдержать ее взгляд. Но мне очень хочется смотреть на нее, когда никто не видит, и того же хочется ей. И мы начинаем придумывать, как бы нам встретиться где-нибудь наедине.
Мы договариваемся встретиться на Эдж-Хилл, в укромном местечке, мимо которого Анна-Лиза ходит по дороге домой. Но каждый раз, когда я спрашиваю ее, сегодня ли мы встречаемся, она качает головой. Братья стерегут ее, не отходят ни на шаг, когда она не на занятиях и не в школе.
Но стерегут не одну Анну-Лизу. Стоило мне вернуться в школу, как Дебора и Арран завели привычку оставаться со мной у автобуса до начала уроков. Арран провожает меня домой и даже пропускает завтраки, чтобы побыть со мной.
Школа становится невыносимой, даже несмотря на Анну-Лизу. Шумы у меня в голове продолжаются, и, хотя я стараюсь не обращать на них внимания, иногда мне хочется выцарапать их оттуда или открыть рот и визжать, пока они не стихнут.
Через несколько недель после избиения у меня в голове начинает свистеть. Однажды мы сидим в компьютерном классе; зачем и для чего — я не знаю и знать не хочу. Я поднимаю руку и отпрашиваюсь в туалет, учитель не возражает, когда я выхожу из класса.
Тишина в коридоре приносит мне облегчение и от нечего делать я действительно плетусь в туалет.
Я вхожу туда в тот самый момент, когда из кабинки появляется Коннор.
Не проходит и секунды, как я, оценив свои шансы, уже бросаюсь на него, обрушиваю на него ураган ударов, а когда он оседает на пол, добавляю несколько пинков.
Коннор не сопротивляется, только закрывает лицо руками. Он даже ни разу не успевает ударить меня. Мою атаку прерывает мистер Тейлор, учитель истории, зашедший в туалет. Он оттаскивает меня от Коннора и прижимает к своей потной груди; держит, пока Коннор корчится на полу и стонет во всю мочь.
Мистер Тейлор говорит Коннору:
— Если у тебя что-нибудь сломано, лежи. Если нет, то поднимайся, посмотрим на тебя.
Секунду Коннор лежит тихо, потом встает.
Я бы сказал, что вид у него вполне сносный.
— Идите за мной. Оба. — Это не приказ и даже не просьба, а покорность судьбе.
Мистер Тейлор так крепко держит меня за запястье, что у меня немеют пальцы. Мы быстро идем пустыми коридорами по скрипучим половицам и оставляем Коннора в медицинском кабинете, который, оказывается, есть в нашей школе. Потом мистер Тейлор разворачивает меня в направлении директорского кабинета, и мы останавливаемся на ковре перед столом секретарши.
Мистер Тейлор рассказывает ей, что произошло, она кивает, стучит в дверь кабинета директора и исчезает за ней. Не проходит и минуты, как она появляется снова и говорит нам, что мы можем войти.
Только в кабинете директора мистер Тейлор отпускает мое запястье и садится на стул рядом со мной. Стул скрипит.
Мистер Браун барабанит по клавиатуре компьютера и не смотрит на нас.
Мистер Тейлор объясняет, что застал меня во время драки.
За время пересказа истории моей драки мистер Браун продолжает печатать, не перестает и когда рассказ закончен. Кажется, он перечитывает написанное на экране. Потом глубоко вздыхает, поворачивается к мистеру Тейлору и благодарит его за бдительность.
Мистер Браун снова вздыхает и в первый раз за все время глядит на меня. Он объясняет мне, какое поведение называется приемлемым, сообщает, что я отстранен от занятий, и велит мне возвращаться в класс. Подобные процедуры ему явно не впервой, так что на все про все уходит меньше пяти минут.
Придется идти в класс. А компьютерные технологии еще не кончились.
— Нет. — Слово срывается с моего языка раньше, чем я успеваю подумать.
Мистер Браун спрашивает:
— Что?
— Нет. В тот класс я не пойду.
— Мистер Тейлор тебя проводит.
Мистер Браун считает, что все сказал, поэтому поворачивается к компьютеру.
Мистер Тейлор, кряхтя, поднимается со стула.
Я толкаю его обратно.
— Нет.
Я поворачиваюсь и выхватываю клавиатуру из-под рук мистера Брауна, которые остаются висеть над лакировкой стола. Я с размаху въезжаю клавиатурой в бок компьютеру и сбрасываю оба предмета на пол.
— Я же сказал «нет».
Не вставая, мистер Тейлор снова хватает меня за запястье и рывком подтаскивает к себе. Я не сопротивляюсь, но по инерции разворачиваюсь, врезаюсь в него и мы оба валимся на пол. Мистер Тейлор машет руками, как крыльями, точно хочет вернуть нас в исходное положение. Но так не бывает. Зато я теперь свободен, и посадка у меня мягкая, чего не скажешь о мистере Тейлоре.
Я встаю на ноги и выхожу из кабинета директора.
Я не уверен, что сделал достаточно для того, чтобы меня исключили из школы, поэтому в приемной секретарши я хватаю стул и вышвыриваю его в окно, после чего бросаюсь к выходу, включая, по ходу дела, пожарную сигнализацию. Ну а на улице, на всякий случай, хватаю стул, который не разлетелся на части, и высаживаю им лобовое стекло директорской машины.
Когда я прихожу домой, меня уже ждет полиция.
Мне все-таки приходится вернуться в школу, но лишь один раз, чтобы извиниться перед мистером Тейлором и мистером Брауном. Почему-то извиняться перед Коннором мне не нужно. Бабушка ворчит из-за того, сколько теперь надо заполнять бумажек, которые приносят инспектора по надзору за несовершеннолетними. Я должен отработать пятьдесят часов на общественных работах.
Таких, как я, четверо, и мы вместе убираемся в каком-то спортивном центре. Мне кажется, что, когда делаешь что-нибудь — пусть даже убираешься, — время идет быстрее, но Лайам, самый старший из нас и давно поднаторевший в служении обществу, даже слышать об этом не хочет. Первый час рабочего дня мы проводим, делая вид, будто ищем ведра и тряпки; то есть это я делаю вид, а Лайам просто бродит, что-то напевая. Потом мы выходим на улицу отдохнуть и покурить. Я никогда раньше не курил, но вот Джо у нас эксперт: он умеет пускать колечки, и еще колечки через колечки. Он учит меня всему, что умеет.
Периодически мускулистый парень, который работает в спортивном центре на рецепции, выходит во двор и велит нам идти внутрь, убираться. Мы не обращаем на него внимания, и он уходит.
Я почти все время сижу во дворе, курю и слушаю болтовню остальных.
Лайама не раз ловили на краже. Он тащит все: и дорогое, и дешевое, и полезное, и бессмысленное. Суть ведь в самой краже, а не в предмете, который ты воруешь. Джо тоже поймали за кражей в магазине, а Брайан разбил чужую машину, которую взял покататься, так что у него еще даже шея в гипсе.
Если мы не курим, то шляемся по спортивному центру. Я иногда беру с собой швабру. Больше всего народу утром в субботу. Нам с Джо нравится наблюдать за тренировками по карате. Там занимаются как дети, так и профи с черными поясами. Потом мы возвращаемся во двор и снова курим.
Как-то в субботу, когда занятия по карате уже закончились, появляется Брайан в дорогих кроссовках «Найк». И говорит:
— Самое время прибарахлиться. Гипс-то сняли.
Лайам отвечает:
— Верно, парень. Иди и делай, вот мой девиз.
Мы с Джо лежим на невысокой стене и курим «Мальборо-лайт». Я тренируюсь пропускать через серию из трех колец четвертое, самое маленькое. У меня уже почти получается, когда кто-то выходит в дверь черного хода и орет:
— Вы, уроды траханые, кто из вас мои кроссы звезданул?
Я прекращаю выдувать кольца и смотрю на парня. Он из группы ребят с черными поясами, только сейчас — в джинсах и босиком.
Лайам и Брайан куда-то смылись.
— Отдайте или хуже будет! Ну! — Парень с черным поясом наступает на нас с Джо.
Не вставая, я задираю ноги в старых ботинках и говорю:
— У меня их нет.
Джо садится и молча барабанит пятками своих старых серых кроссовок по стене. Он выпускает кольцо дыма, потом пропускает в него струю в форме сигары, нацеленную парню в лицо.
Я тоже сажусь и говорю:
— Мы видели тебя на кунг-фу.
— Карате.
— Ну… карате. У тебя черный пояс, да?
— Да.
— Если завалишь меня, верну тебе кроссовки.
Джо смеется.
— Вот так вызов.
— А если я тебя повалю, они останутся у того, кто их взял.
Парень с черным поясом не раздумывает ни секунды. Он на голову выше меня и на десяток килограммов тяжелее и, кажется, не сомневается, что черного пояса у меня нет. Он тут же принимает боевую стойку и говорит:
— Ну, давай рискни.
Я вынимаю изо рта сигарету и поворачиваюсь, как будто для того, чтобы передать ее Джо, а сам тем временем упираюсь ногами в край стены и прыгаю на того парня, коленями ему на плечи. В следующий миг он уже лежит на земле, а я умудряюсь приземлиться на ноги.
Но я держусь от него подальше, потому что он изрядно взбешен.
Вспомнив, что уронил сигарету, я наклоняюсь за ней, и тут, как в кино про кунг-фу, появляется тренер. Он невысокого роста, лет ему где-то за сорок, и вид у него серьезный. В отличие от большинства детишек в его классе, ему явно случалось не раз давать сдачи желающим подраться.
И тут он говорит тому парню:
— Уговор есть уговор, Том. Он выиграл. А тебе надо было действовать быстрее.
Джо шмыгает носом.
Мистер Карате помогает парню с черным поясом подняться и отправляет его восвояси.
Тем временем я поднимаю сигарету и небрежно затягиваюсь. Мистер Карате говорит мне:
— Эти штуки тебя погубят. — Джо выпускает огромное кольцо, но оно выходит кривое, потому что он никак не может перестать ухмыляться.
Когда каратисты уходят, Джо спрашивает:
— А ты что, собираешься прожить так долго, чтобы умереть от рака легких?
Пятое уведомление
Примерно через неделю после моего исключения бабушка заявляет, что будет учить меня сама. Здорово. Никакой школы. Не надо больше «идти на компромисс» и «приспосабливаться».
Она говорит:
— Та же школа, только дома.
Она берет старые учебники Аррана, ручки, бумагу, и мы садимся за стол в кухне. Выполняем несколько упражнений очень-очень медленно. Я долго читаю задания, бабушка меряет шагами кухню, пока я пишу алфавит. Посмотрев, что я написал, она убирает учебники Аррана.
Днем мы идем гулять в лес, где говорим о растениях, о деревьях и даже рассматриваем лишайники в увеличительное стекло.
Когда Арран возвращается домой, бабушка просит его посидеть со мной, пока я читаю. Арран всегда терпелив, и я его не стесняюсь, но все равно читаю медленно и с трудом. Бабушка стоит рядом и смотрит. Позже она скажет:
— Книги никогда не будут твоими помощниками, Натан. А у меня точно не хватит ни терпения, ни способностей, чтобы научить тебя читать. Если хочешь научиться читать, придется Аррану побыть твоим учителем.
— Мне все равно. — Но я знаю, что Арран будет уговаривать меня не сдаваться.
— Как хочешь. Но тебе еще много чего надо узнать.
На следующий день мы с бабушкой отправляемся в наше первое путешествие в Уэльс. Мы два часа едем на поезде. На улице холодно и ветрено, но дождя нет. Мы бродим по горам, мне нравится наблюдать растения и зверей у них дома — там, где они живут и растут.
В первый теплый апрельский день мы остаемся там ночевать и спим прямо под открытым небом. Теперь мне уже никогда не захочется спать под крышей. Бабушка рассказывает мне о звездах и объясняет, как циклы луны влияют на свойства растений, которые она собирает.
Дома бабушка учит меня готовить снадобья, но по сравнению с ней у меня руки как крюки, и совсем нет чутья на то, как разные травы будут влиять друг на друга, усиливая или ослабляя совместный эффект. И все же я усваиваю азы ее мастерства, узнаю, как простое прикосновение или обычное дыхание добавляет снадобью магические свойства. Я умею делать простые снадобья для заживления порезов, пасту, которая помогает вытянуть из раны яд, и снотворное, но я уверен, что ничего по-настоящему магического у меня не выйдет.
У меня есть карты Уэльса, и я выучиваю их почти наизусть. Я вообще легко читаю карты, ведь это картинки, а пейзаж я помню. Я запоминаю, где находятся разные реки, горы и долины, как они расположены относительно друг друга, как их пересечь, где найти укрытие и воду, где можно купаться, ловить рыбу и ставить капканы на зверя.
Скоро я уже начинаю ездить в Уэльс один, остаюсь там по два-три дня, сплю под открытым небом, ем то, что найду.
Во время первой самостоятельной поездки я сплю прямо на земле. Лежа на склоне горы в Уэльсе, я испытываю странное ощущение. Я пытаюсь разобраться в нем: я счастлив, когда просто сижу рядом с Арраном, наблюдаю его неспешные, мягкие движения, в которых видна его доброта; это лучшее, что я испытывал в жизни. Я также счастлив с Анной-Лизой, по-настоящему счастлив. Когда я вижу, какая она красивая, забываю о себе, и это ни с чем не сравнимо. Но, лежа на горе в Уэльсе, я чувствую себя совсем иначе. Я испытываю гораздо более сильное ощущение. И понимаю, что вот он — настоящий я. Настоящий, как гора, с которой мы дышим, как единое целое. И наши жизни сливаются.
Мой двенадцатый день рождения, на носу новое Освидетельствование. Я ненавижу эти процедуры, но вынужден переносить их, внушая себе, что лучше один день вытерпеть все эти взвешивания, замеры, вопросы и ответы, чтобы быть свободным от Совета и советников на последующий год. Под конец этого Освидетельствования бабушке задают вопрос о моем образовании, хотя ясно как день, что в Совете прекрасно знают о моем исключении из школы. Бабушка отвечает немногословно и ничего не говорит о вылазках в Уэльс. Похоже, Освидетельствование прошло благополучно. Мой код не изменился: я все еще не определен.
Неделю спустя прибывает новое уведомление. Мы все сидим за кухонным столом, а бабушка читает его нам вслух.
Уведомление о решении Совета Белых Ведьм Англии, Шотландии и Уэльса.
С целью обеспечения безопасности всех Белых Ведьм Советом постановлено запретить все передвижения половинных кодов (Б 0.5/Ч 0.5) за пределами мест их проживания без предварительного уведомления Совета и получения от него разрешения на поездку. Половинный код, обнаруженный за пределами территории проживания без письменного разрешения Совета, подвергнется ограничению свободы передвижений.
— Это уже слишком. Осталось только посадить его под домашний арест, — говорит Дебора.
— Думаете, они знают, что Натан ездит в Уэльс? — Арран выглядит встревоженным.
— Понятия не имею. Но приходится предположить, что знают. Я думала, они разрешили нам это потому, что… — Бабушка умолкает.
Я знаю, о чем она думает. Совет, наверное, надеется использовать меня как приманку для Маркуса, чтобы, когда он появится, наброситься на него… на нас и убить. Но теперь они почему-то решили ограничить мою свободу передвижения.
Дебора тоже явно думает о Маркусе. Она говорит:
— Это, наверное, из-за семьи на северо-востоке, на которую напал Маркус. — Мы все смотрим на нее.
— Вы не слышали? Их всех убили.
— Откуда ты знаешь? — спрашивает бабушка.
— Так, держу ушки на макушке. Нам всем не мешало бы. Ради Натана… да и ради самих себя, если на то пошло.
— Ну и как эта новость добралась до тебя? — спрашивает бабушка.
Дебора явно сбита с толку, но быстро берет себя в руки, строптиво поднимает подбородок и говорит:
— Я подружилась с Ниаллом.
Арран качает головой.
— Слушаю его, открыв рот, и все время твержу ему, какой он красивый и умный… а он мне кое-что рассказывает.
Арран наклоняется к Деборе, чтобы предостеречь ее, наверное, но она опережает его:
— Я не сделала ничего плохого. Я разговариваю с ним и слушаю, что он говорит. Что в этом плохого?
— А когда он говорит что-либо гадкое о Натане, ты возражаешь ему или соглашаешься?
Дебора смотрит на меня.
— Я никогда ему не поддакиваю.
— Значит, ты с ним споришь? — Более язвительного тона от добряка Аррана я не слыхал за всю жизнь.
— Арран! По-моему, это хорошая идея, — вмешиваюсь я. — Бабушка ведь говорит, что у Совета повсюду свои шпионы. Так почему бы и нам не воспользоваться их тактикой? К тому же Дебора права, ничего плохого она не делает.
— Но и ничего хорошего тоже.
Я подхожу к Деборе, целую ее в плечо и говорю:
— Спасибо, Дебора.
Она обнимает меня.
— Так что же ты выяснила, Дебора? — спрашивает бабушка.
Дебора переводит дыхание.
— Ниалл сказал, что Маркус на прошлой неделе убил одну семью: мужчину, женщину и их сына-подростка. Отца Ниалла вызывали из-за этого на экстренное совещание Совета.
— Просто не верится, что он взял да и выложил тебе всю эту информацию. — Арран снова качает головой.
— Ниалл любит хвастать своей семьей. Он мне уже все уши прожужжал о своем брате Киеране: тот учится на Охотника и первым сдает все испытания, какие у них там есть, кроме тех случаев, когда его обгоняет Джессика. Похоже, что Киеран прямо спит и видит, чтобы его послали на разведку этого случая в качестве первого самостоятельного задания.
— А что это была за семья? — спрашивает бабушка.
— Ниалл сказал, что их фамилия Грей. Она была Охотницей, а он выполнял какую-то работу для Совета. Ты их знаешь?
Бабушка отвечает:
— Фамилию слышала.
— Ниалл сказал, что Греи были назначены хранителями чего-то под названием Фэйрборн, а за этим охотился Маркус. Что такое Фэйрборн, я не знаю; сомневаюсь, что Ниалл сам это знает. Когда я спросила его об этом, он, наверное, сообразил, что наболтал лишнего, и прикусил язык. С тех пор он со мной почти не разговаривает.
Я ничего не говорю. По какой-то причине мой отец только что убил троих людей, в том числе мальчика всего на пару лет старше меня. Что это было, ошибка? Он пытался объяснить им, что он на самом деле не злой, что он не хочет причинять им боль… Что ему просто нужен Фэйрборн. Наверное, он хотел забрать этот Фэйрборн у них, но они не отдавали, не слушали его… Они набросились на него, он стал защищаться, и вот…
Бабушка говорит:
— Я напишу в Совет и попрошу, чтобы они дали тебе разрешение ездить в Уэльс.
— Что? — Я прослушал.
— В Уведомлении сказано, что тебе нельзя путешествовать без разрешения. Я напишу в Совет, пусть выдадут разрешение.
— Нет. Я не хочу, чтобы они знали, где я бываю. Никакого разрешения мне не нужно.
— Ты собираешься продолжать ездить туда без спросу?
— Бабуля, пожалуйста. Попроси, пусть дадут мне разрешение ходить в соседний лес, в магазины и в другие места, до которых мне дела нет. Куда я вообще не хожу.
— Но, Натан, здесь же сказано… — Бабушка заглядывает в пергамент. — «Половинный код, обнаруженный за пределами территории проживания без письменного разрешения, подвергнется ограничению свободы передвижений».
— Я знаю, что там сказано. И знаю, что мне делать.
— Тебе всего двенадцать, Натан. Ты не понимаешь, на что они…
— Бабушка, я понимаю. Я все понимаю.
Вечером того же дня, когда я уже раздеваюсь перед сном, приходит Арран и пытается вызвать меня на разговор. Надо полагать, бабушка его попросила. Он говорит, что мне следует «подумать еще раз», «и, может быть, попросить разрешения посещать одно какое-то место в Уэльсе» и прочую муру в том же духе. Слова взрослых. Бабушкины слова.
Я отвечаю:
— Можно мне получить разрешение пройти в ванную, пожалуйста?
Он молчит, тогда я бросаю джинсы на пол, встаю перед ним на колени и спрашиваю еще раз:
— Можно мне пойти в ванную, пожалуйста?
Он молча бросается на колени рядом со мной и обхватывает меня руками. Так мы и стоим. Он обнимает меня, а я весь закостенел от обиды, злости и желания сделать больно ему.
Проходит время, и я тоже обнимаю его, слегка.
Мой первый поцелуй
Совет дает мне разрешение посещать места в пределах нескольких миль от дома, то есть местные магазины и наш лес. Проходит год, за ним другой. Мое существование омрачают только мои дни рождения, тринадцатый и четырнадцатый, но я кое-как пробираюсь через Освидетельствования, и мой код по-прежнему остается неопределенным. Бабушка продолжает учить меня всему о зельях и растениях. А я продолжаю один ездить в Уэльс. Я учусь выживать в лесу зимой, читать знаки погоды и укрываться от дождя. Я никогда не отлучаюсь из дома дольше, чем на три дня, и всегда стараюсь передвигаться незаметно. Я уезжаю и возвращаюсь разными маршрутами и всегда осматриваюсь, не шпионят ли за мной.
Я часто думаю об отце, но мои планы сбежать когда-нибудь к нему остаются неопределенными. Куда чаще я думаю об Анне-Лизе. Я всегда помню и ее саму, и ее волосы, и кожу, и улыбку, но после четырнадцатого дня рождения мысли о ней становятся просто неотвязными. Мне надо увидеть ее — живьем, и эти планы скоро обретают определенность.
Я не так глуп, чтобы искать ее в школе или возле ее дома, но между ними есть Эдж-Хилл — место, где мы однажды договаривались встретиться.
Вот я и иду туда.
Холм похож на перевернутую миску, вершина у него плоская, а склоны крутые, и вокруг них протоптана тропа. С южной стороны из холма выступает скала из песчаника, с вершины которой открывается вид на окружающую долину: сплошной зеленый ковер засеянных полей, разделенных дорогами на квадраты, обрамленные живыми изгородями, с редким вкраплением домов. Скала голая, она изборождена глубокими горизонтальными и вертикальными складками. У ее подножия клочок утоптанной, голой земли. Она красно-коричневая и очень сухая, так что я отчаянно пылю ботинками, когда прохожу по ней.
Вскарабкаться на скалу совсем не сложно, трещины достаточно широкие, чтобы в них можно было просунуть руки и ноги. Сидя на вершине песчаной скалы, если ее можно так назвать, я не вижу тропинку у основания холма — ее загораживают склоны, зато я прекрасно слышу голоса редких собачников, которые приходят туда со своими питомцами, и перекличку детей, медленно бредущих домой из школы. Если кто-нибудь другой, не Анна-Лиза, приблизится к моему убежищу, у меня будет время скрыться.
Каждый школьный день я поджидаю ее на вершине. Один раз мне кажется, будто я слышу ее голос, она говорит с кем-то из братьев, и я отправляюсь домой.
Приближается зима, когда на повороте как-то вспыхивает сияющая светлая грива волос Анны-Лизы.
Я сажусь на краю каменного выступа, свешиваю ноги и старательно болтаю ими.
Анна-Лиза идет по холму вверх и не замечает меня, пока не переходит через самую крутую часть подъема. Тогда, подняв голову, она видит меня, оглядывается и, не замедляя шага, продолжает идти, пока не оказывается прямо подо мной. Она смотрит на меня, улыбается, краснеет.
Я так долго ждал встречи с ней, и я знаю, что хочу ей сказать, но сейчас любое первое слово в разговоре кажется мне глупым. Я обратил внимание, что перестал болтать ногами, да и дышу я тоже как-то странно.
Анна-Лиза карабкается вверх по утесу. Она ухитряется делать это элегантно, а через несколько секунд уже садится рядом со мной и тоже начинает болтать ногами.
Через минуту мне удается начать разговор.
— Тебе придется поставить Совет в известность, что у тебя был контакт со мной.
Ее ноги останавливаются.
Я напоминаю:
— Совет Белых Ведьм постановил: «О любом контакте между несовершеннолетними Белыми и носителями половинного кода обе заинтересованные стороны обязаны сообщать Совету».
Анна-Лиза снова начинает болтать ногами.
— Никакого контакта у меня не было.
Я вдруг начинаю ощущать каждый удар своего сердца: еще чуть-чуть — и оно выпрыгнет, разорвав грудную клетку.
— А еще у меня ужасно плохая память. Мама только и делает, что ворчит на меня из-за того, что я вечно все забываю. Я, конечно, постараюсь не забыть сказать ей о нашей встрече, но почему-то мне кажется, что и это вылетит у меня из головы.
— Рад, что не только у меня проблемы с памятью, — бормочу я, не сводя глаз с ее школьных туфель, которые мелькают за краем обрыва.
— Я никогда тебя не забывала. Я помню все твои рисунки, помню каждый твой взгляд на меня в классе.
Я чуть не падаю вниз. Все?
— И сколько же раз я глядел на тебя в классе?
— В первый день два.
— Два? — Я точно знаю, что она оглянулась только раз.
Чувствуя на себе ее взгляд, я продолжаю смотреть на ее туфли.
— Вид у тебя был такой… несчастный.