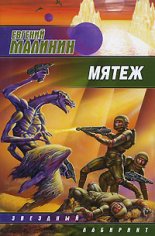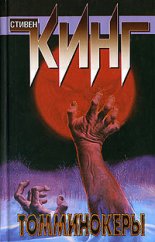Оно Кинг Стивен

В эксклюзивном интервью «Новостям» на прошлой неделе Маклин вновь повторил, что он не имеет понятия, где находится Эдвард Коркоран.
«Я бил их обоих, – сказал он в мучительном монологе, который сопровождался всхлипываниями. – Я любил их, но я бил их. Я не знаю почему, так же как не знаю, почему Моника позволяла мне это или почему она стала покрывать меня после смерти Дорси. Я думаю, я мог бы так же спокойно убить и Эдди, но клянусь перед Богом, перед Иисусом, перед всеми святыми рая, что я этого не сделал. Я знаю, как это нелепо выглядит, но я не убивал его. Я думаю, он просто убежал. Если это действительно так, то я должен поблагодарить за это Бога».
На вопрос, есть ли у него провалы в памяти – мог ли он убить Эдварда, а потом выбросить это из головы, Маклин ответил: "У меня нет никаких провалов памяти.
Я очень хорошо знаю, что я делал. Я отдал свою жизнь Христу и буду пытаться в оставшееся мне время загладить свою вину".
Из «Новостей Дерри» от 27 января 1960 г. (1-я страница):
БОРТОН ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО НАЙДЕН ТРУП, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТРУПОМ ЭДВАРДА КОРКОРАНА
Шеф полиции Ричард Бортон заявил сегодня утром репортерам, что сильно разложившийся труп мальчика в возрасте Эдварда Коркорана, который исчез из Дерри, где он проживал до июня 1958 года, не признан трупом Коркорана. Труп был найден в Эйнесфорде, Массачусетс, закопанным в яму из гравия. Национальная полиция штатов Мэн и Массачусетс решила, что труп принадлежит Коркорану, которого прикончил маньяк после побега с Чертер-стрит, где находился его дом и где до смерти был избит его брат.
Исследования зубов ясно показали, что труп, найденный в Эйнесфорде, не принадлежит Коркорану, которого разыскивают уже девятнадцать месяцев.
Из «Пресс-Геральд» Портленда, 19 июля 1967 г. (3-я страница):
ОСУЖДЕННЫЙ УБИЙЦА СОВЕРШАЕТ САМОУБИЙСТВО В ФЭЛМАУСЕ
Ричард П.Маклин, которого осудили за убийство своего четырехлетнего приемного сына девять лет назад, был найден мертвым вчера днем в своей маленькой квартире на третьем этаже в Фэпмаусе. Выпущенный под честное слово, он тихо жил и работал в Фэпмаусе со времени своего освобождения из национальной тюрьмы Шоушенк в 1964 году. Он несомненно совершил самоубийство.
«Записка, которую он оставил, четко отражает крайне плохое состояние его ума», – сказал помощник начальника полиции Фэлмауса Брандон Кроч. Он отказался разглашать содержание записки, но служащий полицейского управления сказал, что в записке было только две фразы: «Вчера вечером я видел Эдди. Он был мертв».
Эдди – так звали хорошо известного приемного сына Маклина, брата мальчика, за убийство которого Маклин был осужден в 1958 году. Именно из-за исчезновения Эдварда Коркорана открылся факт убийства его младшего брата Дорси. Старшего брата ищут уже девять лет. На коротком судебном процессе в 1966 году мать мальчика объявила своего сына мертвым и поэтому смогла войти во владение страховыми счетами Эдварда. На счетах оказалось шестнадцать долларов.
3
Эдди Коркоран, естественно, был мертв.
Он умер ночью девятнадцатого июня, и его отчим действительно не имел к этому никакого отношения. Он умер, когда Бен Хэнском сидел дома и смотрел телевизор со своей матерью; когда мать Эдди Каспбрака с беспокойством щупала его лоб, чтобы найти признаки ее любимой болезни «фантомной лихорадки»; когда отчим Беверли Марш, который имел во всяком случае по темпераменту, необычайное сходство с отчимом Эдди и Дорси Коркоранов, ударил Бев, приказав ей «немедленно убираться на кухню и вытирать эту проклятую посуду, как тебе сказала мать»; когца на Майка Хэнлона, вырывающего сорняки в саду возле своего дома на Витчем-роуд, неподалеку от фермы, принадлежащей психованному отцу Генри Бауэрса, орали парни из старших классов; когда Ричи Тозиер с удовольствием рассматривал полураздетых девиц в номере «Gem», который он нашел в ящике, где-то отец хранил носки и нижнее белье (весьма опрометчиво), и когда Билл Денбро отбросил альбом фотографий своего мертвого брата, не доверяя самому себе.
Хотя никто из них не вспомнит, что именно он тогда делал, но все они подняли глаза в тот самый момент, когда Эдди Коркоран умер.., как будто услышали какой-то отдаленный крик.
«Новости» были абсолютно правы относительно одной вещи: экзаменационный лист Эдди был достаточно плохим, и он боялся идти домой и столкнуться лицом к лицу со своим отчимом. К тому же его родители очень много ссорились за последний месяц. Это еще более все осложняло. Когда обстановка накалялась, его мать начинала выкрикивать бессвязные обвинения. Его приемный отец сначала отвечал на это ворчанием, потом криком заткнуться и в конце концов ревом кабана, которому вонзились в рыло иглы дикобраза. Хотя Эдди ни разу не видел, чтобы он упражнял на ней свои кулаки. Вряд ли он мог отважиться на такое. В прежние дни он берег свои кулаки для Эдди и Дорси, а сейчас, когда Дорси был мертв, Эдди получал и свою долю, и долю своего маленького брата.
Эти шумные схватки имели свои циклы. Чаще всего они случались в конце месяца, когда приходили счета. Если дело принимало совсем дурной оборот, к ним раз-другой заскакивал полицейский, вызванный соседом, и просил их сбавить тон. Обычно на этом кончалось. Правда, мать имела склонность подначивать полицейского, но отчим обычно не перечил ему.
Отчим, по мнению Эдди, боялся полицейских.
В эти напряженные периоды он лежал тихо. Так было мудрее. Если не верите, вспомните, что случилось с Дорси. Эдди не знал деталей о Дорси и не хотел знать, но у него было свое представление об этом. Дорси, так он считал, оказался не там, где нужно и когда не нужно, – в гараже в последний день месяца. Эдди сказали, что Дорси свалился с лестницы в гараже: «Ну ведь не единожды я ему говорил не подходи к ней, а шестьдесят раз говорил», – сказал отчим. Его мать не смотрела на него, только нечаянно.., когда глаза их таки встретились, Эдди уловил испуганный, жалкий, слабый отблеск в ее глазах, который ему не понравился. Старик как раз тихо сидел за кухонным столом с квартой «Рейнгольда», глядя в пространство из-под тяжелых опущенных век. Эдди держался вне поля его зрения. Когда отец орал, с ним обычно – не всегда, но обычно – было все в порядке. Вот когда он останавливался, надо было быть осторожным.
Два дня назад, ночью, он бросил стулом в Эдди, когда Эдди встал посмотреть, что идет по другой программе телевидения. Он просто поднял один из полых алюминиевых кухонных стульев, размахнулся им и запустил в Эдди. Удар угодил в зад и чуть повыше. Зад у него болел до сих пор, но ведь могло быть хуже – могла быть голова.
Потом как-то ночью старик вдруг встал и ни с того ни с сего втер пригоршню картофельного пюре в волосы Эдди. А однажды, в сентябре прошлого года, Эдди пришел из школы и с шумом закрыл за собой дверь, когда его отчим дремал. Маклин вышел из спальни в грубых боксерских шортах, волосы у него стояли торчком, щеки заросли двухдневной щетиной, дыхание отдавало пивным перегаром после двухдневных возлияний. «Ну, Эдди, – сказал он, – я должен взяться за тебя, за то что ты хлопаешь этой дерьмовой дверью». В лексиконе Рича Маклина «взяться» было эвфемизмом «выбить из тебя дерьмо». Что он и сделал потом с Эдди. Эдди потерял сознание, когда старик бросил его в холл. Мать низко прибила там пару крючков, специально, чтобы они с Дорси вешали пальто. Эти жесткие стальные крючки врезались в нижнюю часть спины Эдди, и он отключился. Когда через десять минут он пришел в себя, то услышал, как мать кричит, что она поведет Эдди в больницу, и он не сможет удержать ее.
– После того, что случилось с Дорси? – отреагировал отчим. – Ты хочешь пойти в тюрьму, женщина?
Это был конец их разговора. Она помогла Эдди пройти в его комнату, где он, дрожа, лег в постель, лоб его был покрыт каплями пота. В следующие три дня, он единственный раз вышел из комнаты, когда оба они ушли. Он поплелся на кухню, охая и постанывая, и вытащил из-под раковины виски отчима. Несколько глотков притупили боль. К пятому дню боль в основном ушла, но еще почти две недели он писал кровью.
И молотка в гараже больше не было.
Как насчет этого? Как насчет этого, друзья и близкие?
О, молоток Мастерового – обычный молоток – был все еще там. Не хватало «Скотти» с длинной ручкой. Особого молотка их отчима, молотка, который ему и Дорси запрещалось трогать. «Если вы дотронетесь до этого ребетенка, – сказал он им в тот день, когда купил его, – ваши кишки будут висеть на ваших ушах». Дорси робко спросил, очень ли дорогой этот молоток. Старик сказал ему, что он, черт возьми, со звуком. Что он наполнен шарикоподшипниками и его невозможно ни при каких условиях заставить отскочить назад.
Теперь молотка не было.
Оценки у Эдди были не блестящие, потому что он пропустил много занятий со времени второго замужества матери, но он ни в коем случае не был глупым мальчиком. Он полагал, что знает, куда делся молоток с длинной ручкой (без отдачи), «Скотти». Отчим, вероятно, попробовал его на Дорси, а затем захоронил в саду или, может быть, бросил в Канал. Такое часто случалось в комиксах ужасов, которые Эдди читал, комиксах, которые он держал на верхней полке своего шкафчика.
Эдди подошел ближе к Каналу, который журчал между своими бетонными берегами, как промасленный шелк. Полоска лунного света в виде бумеранга мерцала на его темной поверхности. Он сел, болтая ногами и ударяя ими по бетону. Последние шесть недель было сухо, и вода текла футов на девять ниже драных подошв его спортивных туфель. Но если взглянуть поближе на берега Канала, то видно, что вода часто меняла там уровни. Нынешний уровень воды был отмечен темно-коричневой краской на бетоне. Коричневое пятно постепенно переходило в желтое, затем почти в белый цвет на том уровне, где прикасались пятки спортивных туфель Эдди, когда он болтал ногами.
Вода ровно и спокойно вытекала из бетонной арки, вымощенной булыжникам с внутренней стороны, текла мимо того места, где сидел Эдди, а затем вниз, к крытому деревянному мостику между Бассей-парком и средней Дерри. Стороны моста и дощатое основание, даже балки под сводом, все было сплошь покрыто узорами из инициалов, телефонных номеров, воззваний, разного рода; объявлений, касающихся любви; хотят «сосать» и «трахаться»; заявлений, что те, кого обнаружат сосущими и трахающимися, потеряют свою крайнюю плоть или им заткнут жопы горячей смолой; случайными эксцентричными воззваниями, смысл которых был непонятен. Одно из них озадачило Эдди этой весной: «СПАСАЙТЕ РУССКИХ ЕВРЕЕВ! СОБИРАЙТЕ ЦЕННЫЕ НАГРАДЫ!»
Что конкретно это означало? И означало ли?
Сегодня вечером Эдди не пошел в Киссинг-Бридж. У него не было желания переходить на другую сторону. Он подумал, что, возможно, поспит в парке на опавших листьях под насыпью, но пока здорово было просто сидеть здесь. Он любил парк и приходил сюда часто, когда ему надо было подумать. Иногда в парке появлялись люди, но они не трогали Эдди, и он их не замечал. Он слышал мрачные истории на школьной площадке о странностях, которые происходили в Бассей-парке после захода солнца, и он принимал эти истории без всяких вопросов, но это никогда его не озадачивало. Парк был мирным местом, и он считал, что лучшая его часть была именно здесь, где он сейчас сидел. Ему нравилось бывать здесь в середине лета, когда вода, такая низкая, усмехаясь текла над камнями и разбивалась на отдельные ручейки, которые извивались, расходились и сходились снова. Он любил Канал в конце марта или начале апреля, сразу после ледохода, тоща он обычно стоял у Канала (сидеть было слишком холодно, зад отмерзнет) час или больше, шкура его старой парки, из которой он уже года два как вырос, задиралась, руки были засунуты в карманы, и он не осознавал, что его тощее тело трясется и дрожит. Канал обладал ужасной, необоримой силой недели через две после того, как сходил лед. Эдди был очарован тем, как вода бурлит и клокочет, вздымая белую пену, мчится из-под покрытой булыжником арки, неся палки и ветки, и всякого рода человеческие отбросы. Не раз он представлял себе, как гуляет в марте по берегу Канала с отчимом и с огромной силой толкает туда ублюдка. Тот кричит и падает, раскинув руки для равновесия, а Эдди стоит на бетонном парапете и смотрит, как того несет потоком вниз по течению, его голова – что-то черное, болтающееся в середине белого, неистового, непокорного потока. А он, Эдди, наверху, приложив руки трубочкой ко рту, кричит: «ЭТО ЗА ДОРСИ, ВОНЮЧИЙ ПИДОР! КОГДА ТЫ ОКАЖЕШЬСЯ В АДУ, СКАЖИ ДЬЯВОЛУ, ЧТО ПОСЛЕДНЕЕ, ЧТО ТЫ УСЛЫШАЛ, ЭТО ЧТО Я СКАЗАЛ ТЕБЕ, ЧТОБЫ ТЕБЯ ЗАТРАХАЛИ!» Такое никогда не случится, конечно, но фантазия была великолепная. Великолепная мечта – когда ты сидишь здесь у Канала и...
Какая-то рука приблизилась к ноге Эдди.
Он смотрел через Канал в направлении школы, улыбаясь сонной и прекрасной улыбкой, когда представил себе, как его отчима уносит бурным весенним потоком, навсегда уносит из его жизни. Мягкое, но довольно сильное пожатие напугало его так сильно, что он почти потерял равновесие и чуть не упал в Канал.
«Это один из чудиков, о которых говорят большие парни», -подумал он, и посмотрел вниз. Его рот открылся. Моча полилась жаркой струйкой по ногам и пачкая его джинсы черным при лунном свете. Это был не чудик.
Это был Дорси. Это был Дорси, такой, каким его похоронили, Дорси в своем голубом блейзере и серых штанишках, только теперь блейзер был в грязных клочьях, рубашка Дорси – желтые тряпки, штаны Дорси мокро болтались вокруг ног, тонких, как метловище. И голова Дорси была жутко сложена, как будто она была выдолблена в спине и постепенно протолкнута вперед.
Дорси широко улыбался.
«Эддиииии», -квакал его мертвый брат, подобно тем мертвецам, которые всегда возвращаются из могилы в комиксах ужасов. Улыбка Дорси ширилась. Желтые зубы сверкали, а там, в темноте, казалось, что-то корчится.
«Эддишии... Я пришел повидать тебя Эдддддддииии...»
Эдди пробовал закричать. Волны ужаса накатили на него, появилось странное ощущение, что он плывет. Но это был не сон, он бодрствовал. Рука на тапке была белая, как брюхо форели. Босые ноги брата как-то цеплялись за бетон. Что-то откусило одну из пяток Дорси.
«Иди вниз Эддииииии...»
Эдди не мог кричать. Его легким не хватало воздуха. Он издал смешной пронзительный стонущий звук. Громче не получалось. Именно так. Через секунду-другую его мозг уснет и тогда ничто не будет иметь значения. Рука Дорси была маленькая, но жесткая. Зад Эдди сползал по бетону к краю Канала.
Все еще издавая этот пронзительный стонущий звук, он повернулся, схватился за бетонный край и подался назад. Он почувствовал, как рука моментально соскользнула, услышал сердитый свист и успел подумать: «Это не Дорси. Я не знаю, что это, но это не Дорси». Затем адреналин наполнил его тело, и он сполз, пытаясь бежать даже перед тем, как встал на ноги; дыхание его перешло в короткий пронзительный свист.
На бетонных губах Канала появились белые руки. Послышался мокрый шлепающий звук. Капли воды стекали в лунный свете мертвой бледной кожи. Теперь над краем появилось лицо Дорси. Тусклые красные искорки мерцали в его запавших глазах. Его мокрые волосы приклеились к черепу. Грязь стекала по щекам, как косметика.
Наконец грудь Эдди раскрылась. Он поймал дыхание и обратил его в крик. Он встал на ноги и побежал. Он бежал, оглядываясь через плечо, желая увидеть, где Дорси, и в итоге с разбегу наткнулся на большой вяз.
Ощущение было такое, будто кто-то, его старик, например, заложил динамитный заряд в его левое плечо. Звезды стреляли и свербили в его голове. Он упал у подножия дерева, как подкошенный алебардой, кровь струилась из его левого виска. Он плыл водами полусознания в течение девяноста секунд. Затем он ухитрился опять встать на ноги. Стон вышел из него, когда он попытался поднять свою левую руку. Она не хотела подниматься. Немая и далекая. Поэтому он поднял правую и потер неистово болевшую голову.
Потом он вспомнил, зачем он бежал к вязу, и осмотрелся.
Край Канала был, как кость, белый, и как струна в лунном свете, прямой. Никакого признака ТОГО.., если когда-либо было ТО. Он повернулся, медленно повернулся на триста шестьдесят градусов. Бассей-парк был молчаливым и спокойным, как черно-белая фотография. Плакучие ивы тянули свои тонкие красивые руки, и все что угодно могло стоять, вывернутое и безумное, под их укрытием.
Эдди пошел, озираясь. Его ушибленное плечо болезненно пульсировало в такт с сердцем.
"Эддиииии, -стонал ветер в деревьях, ты не хочешь меня видеть, Эддиииии?"
Он чувствовал, как слабые пальцы трупа ласкают его шею. Он извивался, его руки поднимались вверх. Когда ноги его соединились вместе и он упал, то увидел, что это просто легкий ветерок шелестит листьями ивы.
Он снова встал. Он хотел бежать, но когда попытался это сделать, еще один динамитный заряд вошел в его плечо, и вынудил остановиться. Он каким-то задним чувством преодолел свой страх. «Глупый маленький ребенок, ты просто испугался отражения или, может быть, нечаянно уснул и видел плохой сон», – уговаривал он сам себя. Хотя в действительности было совсем не так. Его сердце теперь билось так быстро, что он не различал отдельных ударов и чувствовал, что скоро это выльется в страх. Бежать он не мог, но выйдя из ив, хромая, сделал несколько шагов.
Он устремил глаза на уличную лампочку, которая отмечала главные ворота парка. Он направился туда, немного ускоряя шаг и думая: «Сейчас я возьму налево, и все будет в порядке. Я возьму налево, и все будет в порядке. Яркий свет, не страшно, в ночь, какое зрелище...»
Что-то сопровождало его.
Эдди слышал, как оно проходило через ивовую рощицу. Если бы он обернулся, он бы увидел. Оно подходило. Он мог слышать его шаги, какое-то фырканье, большие шаги, но он не смотрел назад, нет, он смотрел вперед на свет, свет был о'кей, он просто продолжает свой полет к свету, он был уже почти что там, почти...
Запах – вот что заставило его посмотреть назад. Ошеломляющий запах, как будто рыбу оставили гнить в большой куче, и она превратилась в скользкую падаль на летней жаре. Это был запах мертвого океана.
Теперь за гам не было Дорси; то было Существо из Черной Лагуны. Рыло Существа было длинное и плиссированное. Зеленый поток выходил из черных пастей, похожих на вертикальные рты в его щеках. Его глаза были белые и желейные. Его сплетенные пальцы заканчивались когтями, острыми как бритвы. Его дыхание было пенящееся и глубокое, звук ныряльщика с плохим регулятором. Когда оно увидело, что Эдди смотрит, его зелено-черные губы сморщились, обнажив огромные клыке в мертвой и свободной улыбке.
Оно тащилось за ним, капая, и Эдди внезапно понял. Оно хотело утащить его обратно в Канал, унести его в черноту подземного прохода Канала. Сожрать его там.
Эдди прибавил шагу. Натриевый свет на воротах приближался. Он мог видеть жучков и мотыльков в его сиянии. Мимо прошел грузовик, направляясь к маршруту 2, водитель работал на большой скорости, и отчаявшийся, испуганный мозг Эдди пронзила мысль, что тот человек, быть может, пьет кофе из бумажного стаканчика и слушает по радио мелодию Бадди Холли, не сознавая, что менее чем в двухстах ярдах от него находится мальчик, который через двадцать секунд может быть мертв.
Вонь. Ошеломляющая вонь. Доберется.
Эдди перепрыгнул через парковую скамейку. Несколько ребят столкнули ее сегодня вечером, направляясь домой, чтобы успеть к комендантскому часу. Ее сиденье высовывалось на дюйм-два из травы, одна тень от зелени перекрывала другую, и сиденье было почти невидимо в завороженной лунной темноте. Конец его ударил Эдди в бедро, вызвав отчаянную боль. Его ноги плелись за ним, и он тяжело ступал по траве.
Он посмотрел назад и увидел устремляющееся к нему создание. Его белые яичные глаза блестели, его чешуйки капали слизью, жабры ходили вверх и вниз по его надутой шее, а щеки открывались и закрывались.
– Кр! -прокаркал Эдди. Казалось, это единственный звук, который он мог произнести – Кр! Кр! Кр!
Он теперь полз, пальцы глубоко входили в дерн. Язык его свисал вниз.
Через секунду перед тем, как мозолистые руки, пахнущие рыбой, схватили его за горло, успокаивающая мысль мелькнула в его голове: "Это должно быть сон. Нет никакого настоящего Существа, нет настоящей Черной Лагуны, и даже если бы была, она была бы в Южной Америке или на равнинах Флориды, или где-то еще. Это только сон, и я проснусь в своей кровати или, может, в листьях под насыпью, и я..."
Жуткие руки обхватили его шею, и у Эдди вырвались хриплые звуки; когда Существо его перевернуло, крючки, которые отделились от этих рук, выводили кровоточащие, как каллиграфия, знаки на его шее. Эдди уставился в мерцающие белые глаза. Он чувствовал, как перепонки между пальцами давят ему на горло, словно стягивающие ленты живых морских водорослей. Его обостренный от ужаса взгляд отметил плавник, что-то наподобие петушиного гребня на согнутой обшитой металлическим листом голове Существа. Когда руки Существа плотно сжимались, лишая его воздуха, он даже смог увидеть, как белый свет натриевой лампы превратился в дымчато-зеленый, как будто он прошел через тот перегородчатый главный плавник.
– Ты.., ты.., тебя нет – задыхался Эдди, но нечто серое теперь приблизилось, и он смутно осознал, что оно достаточно реально, это Существо. Оно, в конце концов, убивало его.
И все-таки что-то рациональное осталось, до самого конца: когда Существо вонзило свои когти в мягкую плоть его шеи, когда кровь из сонной артерии забрызгала чешую рептилии, руки Эдди нащупали на спине Существа как бы застежку-молнию. Они упали, только когда Существо оторвало ему голову с низким удовлетворенным бормотанием.
И тогда то, что видел Эдди, стало быстро изменяться во что-то другое.
4
Не в состоянии уснуть, мучимый плохими снами, мальчик по имени Микаэл Хэнлон встал едва рассвело в первый день летних каникул. Свет был бледный, смешанный с низким плотным туманом, который часам к восьми поднимется, сняв обертку с прекрасного летнего дня.
Но это потом. А сейчас день был серым и вставал тихо, как кошка, идущая по ковру.
Майк, одетый в вельветовые штаны, футболку и черные кеды, спустился вниз, съел миску пшеничных хлопьев (на самом деле он не любил пшеничные хлопья, но ему захотелось бесплатную награду), затем вскочил на свой велосипед и закрутил педали в направлении города, двигаясь из-за тумана по тротуару. Туман все изменил: самые обычные предметы, например пожарные гидранты или надписи «Стоп» выглядели как-то таинственно-странно и немножко зловеще. Машины были слышны, но не видимы; из-за странного акустического свойства тумана нельзя было понять, далеко они или близко, пока они не выкатывались из тумана с призрачным ореолом влаги вокруг фар.
Майк повернул направо на Джексон-стрит, проехав мимо Центра города, и затем переехал на Майн-стрит по Пальмер-аллее и вскоре проехал дом, где будет жить взрослый. Он и не взглянул на него; это был маленький двухэтажный жилой дом с гаражом и двориком.
Он не вызвал никаких эмоций у проезжающего мальчика, который проведет там большую часть своей взрослой жизни как владелец и единственный жилец.
На Мейн-стрит он повернул направо и поехал в Бассей-парк просто так, катаясь и наслаждаясь тишиной раннего утра. У главного входа он слез с велосипеда, поставил его на упор и пошел к Каналу.
Он был уверен, что им двигал чистейший каприз. Разумеется, ему не приходило в голову, что его нынешний маршрут и его ночные сны – взаимосвязаны; он даже не помнил точно, что это за сны, – просто за одним следовал другой, пока он не проснулся в пять утра, весь в поту, дрожащий, с мыслью, что он должен съесть завтрак и потом прокатиться на велосипеде в город.
Здесь, в Бассей-парке, в воздухе стоял запах, который ему не нравился: запах моря, соленый и старый. Конечно, он чувствовал его и раньше. В ранних утренних туманах в Дерри часто ощущается запах океана, хотя побережье находится в сорока милях. Но запах этим утром казался особо насыщенным. Почти опасным.
Что то привлекло его внимание. Он наклонился и подобрал дешевый карманный нож с двумя лезвиями. Кто-то сбоку вырезал инициалы Э.К. Минуту-другую Майк внимательно смотрел под ноги, затем положил его в карман. Что нашел, то храню, потеряю – плачу.
Он осмотрелся.
Здесь, рядом с местом, где он нашел нож, лежала опрокинутая парковая скамейка. Он поднял ее, установил железные опоры в отверстиях. За скамейкой он увидел Два углубления в земле. Трава выпрямилась, но эти углубления видны были отчетливо. Они шли в направлении Канала.
И была кровь.
(птица помнить птица помнить пт)Но он не хотел помнить птицу и поэтому отбросил эту мысль. Драка, вот и все. Один из них, должно быть, очень сильно ударил другого. Это была убедительная мысль, которая его как-то не убеждала. Мысли о птице продолжали возвращаться – птице, которую он видел на чугунолитейном заводе Кичнера, птице, которую Стэн Урис так и не нашел в своем справочнике по орнитологии.
Прекрати. Просто уйди отсюда.
Но вместо того, чтобы уйти, он пошел за этими углублениями в земле. Шел, и мысленно сочинял маленькую историю. Это была история убийства. «Смотри, вот этот ребенок. Поздно. На улице после комендантского часа. Убийца хватает его. А как он избавляется от тела? Конечно, бросает его в Канал». Прямо по Альфреду Хичкоку.
Следы, по которым он шел, могли быть следами пары волочащихся ботинок или спортивных тапочек.
Майк вздрогнул и неуверенно осмотрелся. История как-то очень напоминала реальность.
А предположим, что не, человек сделал это, а монстр. Как из комикса ужасов, или книги ужасов, или фильма ужасов, или (страшный сон)сказки, или нечто подобного.
Он решил, что история ему не нравится. Это была глупая история. Он пытался выбросить ее из головы, но она не уходила. Ну что же? Пусть остается. Она была безмолвна. Поездка в город утром была безмолвной. Исследование этих двух поросших травой углублений было безмолвным. У отца сегодня полно поденной работы. Он должен вернуться назад и начать работу, а когда наступит жара, надо скирдовать сено в сарае. Да, он должен вернуться. Именно это он и собирался сделать.
Конечно. Хотите пари?
Вместо того, чтобы возвращаться к велосипеду, сесть на него, поехать домой и начать свою поденщину, он пошел по углублениям в траве. Засохших капель крови становилось все больше. Хотя не так много. Не так много, как в том месте около скамейки, где была примятая трава.
Теперь Майк мог слышать Канал, текущий мерно и спокойно.
Через минуту он увидел его бетонный край, вырисовывающийся в тумане.
Здесь в траве было что-то еще. Бог ты мой, что за день находок! -говорил его разум с сомнительной веселостью, а затем где-то закричала чайка, и Майк вздрогнул, опять вспомнив птицу, которую он видел в тот день, в тот день нынешней весной.
Что бы это ни было в траве, я даже смотреть не хочу. И это было верно, но он был здесь и он уже наклонялся, чтобы увидеть, что это.
Порванный клочок материи с каплей крови на ней.
Опять закричала чайка. Майк уставился на кровавый обрывок материи и вспомнил, что случилось с ним весной.
5
В течение апреля – мая ферма Хэнлона каждый год пробуждалась от зимней спячки.
Для Майка весна приходила ни тогда, когда под окнами маминой кухни появлялись первые крокусы, или когда дети приносили в школу всяких тварей, и даже ни тогда, когда вашингтонские сенаторы начинали бейсбольный сезон (и весьма честно терпели поражение), а только тогда, когда отец звал Майка, чтобы тот помог ему вытолкнуть из сарая их доморощенный комбайн. Передняя часть комбайна – это старая модель «Форда», задняя – пикап с прицепом, сооруженным из двери старого курятника. Если зима была не слишком холодной, им вдвоем удавалось вытолкнуть его на дорогу. В пикапе не было дверей, не было также ветрового стекла. Сиденьем служила половинка старого дивана, который Вилл Хэнлон утащил со свалки Дерри. Ручка коробки передач заканчивалась стеклянным дверным набалдашником.
Они выталкивали комбайн на дорогу, стоя по сторонам его, потом его разгоняли, и Вилл запрышвал внутрь, включал зажигание, пытался подать искру, нажимал на сцепление, включал первую передачу своей большой рукой, лежащей на дверном набалдашнике. Затем он кричал: «Стукни меня по хребту!». И опять выжимал сцепление, и старый двигатель «Форда» кашлял, задыхался, пыхтел, давал обороты.., и иногда действительно начинал двигаться, шел сначала рывками, затем ровно. Вилл вырывался на дорогу к ферме Рулин, затем сворачивал на их дорогу (поедь он другой дорогой, ненормальный папаша Генри Бауэрса, возможно, размозжил бы ему башку выстрелом из ружья) и затем поворачивал обратно; освобожденный двигатель трещал без умолку, Майк прыгал от восторга, кричал, а его мама стояла в дверях кухни, вытирая руки о полотенце и делая вид, что она недовольна, хотя на самом деле это было не так.
Иногда машина не желала ехать, и Майк должен был ждать, пока отец выйдет из сарая с рукояткой для завода, что-то бормоча про себя.
Майк был совершенно уверен, что бормотав он ругательства, и тогда он побаивался отца (и только намного позднее, во время одного из бесконечных посещений больничной палаты, где умирал Вилл Хэнлон, он понял: отец бормотал, потому что боялся рукоятки для завода, однажды она вырвалась, вылетела из паза и разорвала ему рот).
– Стой там. Майки, – говорил отец, вставляя рукоятку в паз у основания радиатора. И когда машина наконец-то начинала двигаться, он обычно говорил, что в будущем году обязательно поменяет ее на"Шевроле", но никогда не менял. Этот гибрид старого «Форда» и пикапа все еще валялся у них дома, в сорняках, даже оси и двери курятника.
Когда машина шла и Майк сидел на месте пассажира, вдыхая горячее масло и синие выхлопные газы, приходя в восторг от резкого ветра, который рвался через незастекленное окно, где когда-то было ветровое стекло, но обычно думал: «Вот и снова весна. Мы все пробуждаемся». И в душе его поднималась радость, сотрясавшая стены обычно и без того радостного пространства. Он чувствовал любовь ко всему и вся, и особенно к отцу, который улыбался ему широкой улыбкой и кричал:
– Давай, Майки!
Мы поднимем ветер этим малышом!
Мы заставим птиц искать укрытия!
Затем машина вырывалась на дорогу, задние ее колеса отплевывали грязь и серые комья глины, а они подпрыгивали на диванном сиденье в открытом кузове, смеясь как ненормальные. Вилл вел «Форд» через высокую траву заднего поля, предназначенного на сенокосы, либо к южному полю (картофель), западному полю (кукуруза и бобовые) или к восточному полю (горох, кабачки, тыква). Птицы вспархивали перед машиной и в ужасе разлетались. Однажды взлетела куропатка – великолепная птица, коричневая, как позднеосенний дуб, взрывной шелест ее крыльев не заглушал даже тарахтящий мотор.
Те поездки были для Майка началом весны.
Работа начиналась с уборки камней. Каждый день в течение недели они брали «Форд» и загружали его камнями, которые могли сломать лезвие бороны, когда придет время ворочать землю. Иногда машина застревала в весенней грязи, и Вилл мрачно бормотал.., проклятия, как догадывался Майк. Некоторые из слов и выражений он знал, другие, например «сын блудницы», озадачивали его. Он наткнулся на это слово в Библии, и понял, что блудница – это просто женщина, родом из города, называемого Вавилон. Как-то раз он настроился спросить об этом отца, но «Форд» был по днище в грязи, на челе отца собирались грозовые тучи, и он решил подождать до другого раза. Позднее, в том же году, он спросил об этом Ричи Тозиера, которому его отец объяснил, что блудница – это женщина, которой платили за то, что она занималась сексом с мужчинами.
– Что такое «заниматься сексом»? – спросил Майк, и Ричи ушел, держась за голову.
Как-то раз Майк спросил отца, почему, хотя они каждый год в апреле убирают камни, в апреле следующего года их становится еще больше.
Время было перед заходом солнца, это был последний день уборки камней в том году, они стояли у места свалки. Грязная разбитая колея, которую всерьез нельзя было назвать дорогой, вела от их западного поля к этому оврагу у берега Кендускеаг. Овраг был завален камнями, которые собирались с земли Вилла за все эти годы.
Глядя на эту неплодородную почву, которую он возделывал сначала один, а затем с помощью сына (где-то под камнями, он знал, были гниющие останки культей, которые он вытаскивал по одной за раз, перед тем как начинать работу на полях), Вилл зажег сигарету и сказал:
– Мой отец обычно говорил мне, что Бог любит камни, мух, сорняки и бедных людей превыше всего из всех Его созданий, и вот почему Он сотворил их так много.
– Но каждый год они как будто возвращаются.
– Да, думаю, возвращаются, – сказал Вилл. – Только так я могу это объяснить.
Вдали с Кендускеага в сумеречном закате, сделавшем воду оранжево-красной, послышался крик гагары. Это был такой щемяще одинокий крик, что усталые руки Майка покрылись гусиной кожей.
– Я люблю тебя, папа, – сказал он вдруг, чувствуя такой прилив любви, что слезы выступили у него в глазах.
– Да, я тоже люблю тебя, Майки, – сказал отец и крепко стиснул его своими сильными руками. У своей щеки Майк чувствовал шершавую ткань фланелевой рубашки отца.
– Что ты скажешь на то, чтобы нам вернуться? У нас есть время каждому принять ванну перед тем, как добрая женщина накроет на стол ужин.
– Ага, – сказал Майк.
– Сам ага, – сказал Вилл Хэнлон, и оба они засмеялись, чувствуя усталость и радость, чувствуя, что руки и ноги работали, но не переработали, руки загрубели от камней, но не болели мучительно.
"Вот и весна, -думал Майк той ночью, засыпая в своей комнате, пока мать и отец в соседней комнате смотрели «Молодоженов». – Вот и снова весна, спасибо Тебе, Господи, Большое Тебе спасибо". И засыпая, погружаясь в сон, он услышал, как опять закричала гагара, и отдаленность ее болота незаметно перешла в его сновидения. Весна была напряженным временем, но и добрым.
После сбора камней Вилл ставил «Форд» в высокой траве за домом и выводил из сарая трактор. Затем начиналось боронование: отец вел трактор, а Майк либо сидел сзади, держась за железное сиденье, либо шел рядом, собирая камни, которые они пропустили, и отшвыривая их в сторону. Затем шла посадка, а за ней летняя работа: рыхление.., рыхление.., рыхление. Мать снова чистила Лари, Мо и Керли, трех своих пугал, а Майк помогал отцу делать приспособления наверху каждой головы, набитой соломой. Приспособление представляло собой наушники с отрезанными концами. Вы плотно привязывали длинную намазанную воском и канифолью веревку к середине наушников, и когда ветер дул через них, появлялся на редкость страшный звук – какой-то хриплый стон. Поедающие урожай птицы довольно скоро решали, что Лари, Мо и Керли не представляют никакой угрозы, но поддувала всегда их отпугивали.
В июле было мотыжение и начинался сбор урожая: сначала горох и редис, затем салат и помидоры, которые созревали в теплице, затем кукуруза и бобы в августе, еще кукуруза и бобы в сентябре, затем тыква и кабачки. Где-то посредине всего этого подходил молодой картофель, и тогда, так как дни укорачивались и воздух становился резче, они с отцом принимались за приспособления к чучелам (иногда зимой они исчезали, каждую весну им приходилось делать новые). Вилл звал Нормана Садлера (который был такой же неразговорчивый, как и его сын Муз, но намного добрее), и Норми приходил со своей картофелекопалкой.
В течение следующих трех недель они все работали на сборе картофеля. Кроме членов семьи, Вилл нанимал в помощь трех-четырех старшеклассников, платя им четверть доллара за бочку. «Форд» ехал вдоль рядов четвертого, самого большого поля, на малой скорости, борт откидывался, задняя часть заполнялась бочками, на каждой было отмечено имя того, кто ее наполняет, а в конце дня Вилл открывал свой старый лоснившийся бумажник и платил каждому сборщику наличными. Майку тоже платил, также, как и его матери, – это были их деньги, и Вилл Хэнлон никогда не спрашивал их, что они с ними делают. Когда Майку исполнилось пять лет – достаточно, как потом говорил ему Вилл, чтобы держать тяпку и различать сорняки и горох, ему была выделена на ферме пятипроцентная доля. Каждый год ему выделялось по проценту, и каждый год, после Дня Благодарения, Вилл подсчитывал доходы фермы и вычитал долю Майка.., но Майк никогда не видел тех денег. Они шли на счет колледжа, и к ним ни при каких обстоятельствах дотрагиваться было нельзя.
Наконец наступал день, когда Норми Садлер увозил свою картофелекопалку домой; к тому времени воздух становился серым и колодным и на куче оранжевых тыкв, сложенных у сарая, появлялся иней.
Майк обычно стоял в дверях (нос красный, грязные руки засунуты в карманы джинсов) и наблюдал, как отец сначала уводит трактор, а затем «Форд» назад в сарай. Он думал: «Мы готовы снова заснуть. Весна., исчезла лето.., прошло. Урожай.., собран». Все, что оставалось теперь, это отходящая осень: деревья без листьев, замерзшая почва, ледяное обрамление берегов Кендускеаг. На полях вороны иногда опускались на плечи Ларри, Мо и Керли и оставались там столько, сколько им хотелось. Пугала были безголосы, безопасны.
Майк не приходил в смятение от мысли, что закончился еще один год, – в девять и десять лет он был еще слишком мал, чтобы иметь склонность к страшным мыслям, к тому же так много предстояло впереди: катание на санках в Маккарон-парке (или Рулин-хилл, если вы смелые, хотя главным образом там катались большие ребята), катание на коньках, игра в снежки, строительство снежных крепостей. Пора было подумать о снегоступах, чтобы пойти с отцом за рождественской елкой, и о лыжах «Нордика», которые, может, будут, а может, и не будут к Рождеству. Зима – хорошее время, но смотреть, как отец едет на «Форде» назад в сарай (весна исчезла, лето прошло, урожай собран)всегда было все же грустно, и то, что стаи птиц отправлялись на зиму к югу, заставляло его чувствовать грусть, а косой луч света порой вызывал желание заплакать без всякой причина. Мы готовимся снова уснуть...
Но была не только школа и поденщина, поденщина и школа; Вилл Хэнлон не раз говорил жене, что мальчику нужно время, чтобы ходить на рыбалку, даже если он этим и не занимается всерьез. Когда Майк приходил домой из школы, он первым делом клал книги на телевизор в гостиной, затем чего-нибудь перехватывал (он был особенно неравнодушен к сэндвичам с арахисом, маслом и луком – мать в притворном ужасе поднимала руки) и изучал записку, которую папа оставлял ему; в ней говорилось, где он. Вилл, находится в данное время и какие обязанности у Майка на день – прополоть грядки, убрать, принести корзины, подмести сарай – все что угодно. Но как минимум раз в неделю – иногда два – не было никакой записки. И в такие дни Майк ходил ловить рыбу, хоть он этим и не занимался всерьез. Это были отличные дни.., дни, когда ему не надо было никуда идти и, следовательно, не было необходимости спешить.
Однажды отец оставил ему другую записку: «Никаких дел по дому, – говорилось в ней. – иди к Старому Мысу и посмотри на трамвайные пути». Майк пошел в район Старого Мыса, нашел улицы с уложенными на них путями, внимательно их изучил, изумляясь, что прямо посередине улицы идут поезда. Той ночью они с отцом говорили об этом, и отец показал ему картинки из его альбома о Дерри, картинки, где были изображены трамваи: смешной шест шел от крыши трамвая до электрического провода, а сбоку была реклама сигарет. В другой раз отец послал Майка в Мемориал-парк, где была водонапорная башня, посмотреть на птичье купанье, а однажды они пошли в суд, поглядеть на страшную машину, которую шеф Бортон нашел на чердаке. Эта штука называлась стулом для бродяг. Он был чугунный и в ручки и в ножки были вделаны оковы. Закругленные набалдашники торчали из спинки и из сиденья. Этот стул напомнил Майку фотографию, которую он видел в какой-то книге, – фотографию электрического стула в Синг-Синге. Бортон позволил Майку сесть на стул и примерить оковы.
Когда первое зловещее впечатление от наручников изгладилось, Майк вопросительно посмотрел на отца и на шефа Бортона, не слишком понимая, почему это должно было быть таким ужасным наказанием для бродяг, которые наводняли город в двадцатые – тридцатые годы. Конечно, с набалдашниками в кресле сидеть несколько неудобно, и оковы на запястьях и на щиколотках не дают переместиться в более удобное положение, но...
– Ну ты просто ребенок, – сказал шеф Бортон, смеясь. Сколько ты весишь? Семьдесят, восемьдесят фунтов? Большинство бродяг, которых шериф Салли усаживал на этот стул в былые дни, весили в два раза больше. Где-то через час они чувствовали себя немного неуютно, по-настоящему неуютно через два-три и совсем плохо через четыре-пять часов. Через семь-восемь часов они начинали кряхтеть, а после шестнадцати-семнадцати обычно начинали плакать. И к тому моменту, когда двадцатичетырехчасовой тур кончался, они готовы были клясться перед Богом и человеком, что в следующий раз они будут обходить Дерри на кривой кобыле.
Двадцать четыре часа в кресле для бродяг были чертовски убедительным средством.
Внезапно показалось, что в кресле больше набалдашников, вонзающихся в ягодицы, позвоночник, поясницу, даже затылок.
– Можно мне отсюда вылезти? – спросил он вежливо, и шеф Бортон засмеялся. В одно мгновение, в какую-то долю мгновения, Майк подумал, что шеф закроет сейчас на ключ наручники и скажет: «Конечно я выпущу тебя.., через двадцать четыре часе».
– Зачем ты ценя сюда брал, папа? – спросил он по дороге домой.
– Узнаешь, когда будешь старше, – ответил Вилл.
– Тебе ведь не нравится шеф Бортон, а?
– Нет, – ответил отец так резко, что Майк не осмелился больше спрашивать.
Но в большинстве случаев те места в Дерри, куда отец отправлял его или брал с собой, доставляли Майку наслаждение, и к тому времени, когда Майку исполнялось десять лет, Виллу удалось передать сыну свой собственный интерес к истории Дерри. Иногда, например, когда он проводил пальцем по слегка покрытой галькой поверхности, где была устроена птичья купальня в Мемориал-парке, или когда они приседали, чтобы лучше рассмотреть трамвайные пути, которые прорезали Монт-стрит в Старом Мысе, его вдруг охватывало глубокое чувство времени.., времени, как чего-то реального, как чего-то, что имеет невидимый вес, как солнечный свет имеет вес (некоторые ребята в школе смеялись, когда миссис Грингус сказала им это, но Майк был слишком ошеломлен этой мыслью, чтобы смеяться; первое, что он подумал, было: "Свет имеет вес? О, Боже, это ужасно!").., времени, как нечто, что в конце концов похоронит его.
Первая записка, которую отец оставил ему той весной 1958 года была нацарапана на обратной стороне конверта и положена под солонку. Воздух был по-весеннему теплый, удивительно ароматный, и мать открыла все окна. Никаких дел, говорилось в записке. Если хочешь, прокатись на велосипеде по Дороге на Пастбище. Там ты увидишь много обрушившейся кирпичной кладки и старую технику в поле слева. Посмотри вокруг, привези назад сувенир. Не подходи близко к отверстию в погреб. И возвращайся до наступления темноты.
Ты знаешь почему.
Да, Майк знал, почему.
Он сказал матери, куда он собирается, и она нахмурилась.
– Почему бы тебе не спросить, не хочет ли Рэнди Робинсон поехать с тобой?
– Ладно, о'кей, я остановлюсь и спрошу его, – сказал Майк.
Он остановился у дома Робинсона, но Рэнди уехал с отцом в Бангор покупать картофель-сеянец. Поэтому Майк поехал по Дороге на Пастбище один. Это была довольно приятная прогулка, около четырех миль. Майк подсчитал, что к тому моменту, когда он поставит свой велосипед к старой деревянной ограде на левой стороне Дороги на Пастбище и заберется на поле за ней будет часа три. Значит, примерно час он сможет заниматься исследованиями, а затем должен будет возвратиться домой. Обычно мать не сердилась на него, если он приходил домой к шести, когда она накрывала на стол к ужину, но один памятный эпизод научил его, что в этом году все не так. Тогда, в тот единственный раз, когда он опоздал к ужину, с ней была почти что истерика. Она отходила его кухонным полотенцем, хлестала его, а он стоял в дверях кухни с широко открытым ртом, а у его ног стояла корзина с речной форелью.
– Не смей так пугать меня! – кричала она. – Не смей никогда! Никогда! Никогда.
Каждое «никогда» сопровождалось сильным ударом полотенцем. Майк ждал, что отец вступится и положит этому конец, но отец не вступился... Может, он знал, что, вступись он, мать обернет свой бешеный гнев и на него. Майк выучил этот урок. Одна порка кухонным полотенцем – это все, что требовалось. «Дома до темноты. Да, мама, хорошо».
Через поле он прошел к гигантским развалинам, находящимся в центре. Это были, конечно, остатки чугунолитейного завода Кичнера – он проезжал мимо него, но никогда не думал по-настоящему его исследовать и никогда не слышал, чтобы другие ребята делали это. Сейчас, наклонившись, чтобы исследовать обрушившиеся камни, которые образовывали пирамиду, он подумал, что может понять, почему. Поле было ослепительно яркое, вымытое весенним солнцем, (время от времени, когда под солнцем проходило облако, грозная тень медленно плыла через поле), но в то же время было во всем этом что-то таинственное – тишина размышления, нарушаемая только ветром. Он чувствовал себя исследователем, нашедшим остатки исчезнувшего легендарного города.
Выше впереди, чуть справа, он увидел скругленный торец массивного изразцового цилиндра, подымающегося из высокой травы.
Он побежал к нему. Это была главная дымовая труба чугунолитейного завода. Он всматривался в ее стержень и почувствовал холодок в позвоночнике. Труба была довольно большая, он смог бы войти в нее, если бы захотел. Но он не хотел: Бог знает, какая чертовщина могла там быть, и отвратительные насекомые и звери, может быть, поселились там. Дул порывистый ветер. Когда он дул через основание упавшей дымовой трубы, он издавал звук, похожий на звук ветра, колеблющего вощеные струны-веревки, которые он и его отец ставили в поддувалах каждую весну. Он нервно отступил, вдруг подумав о фильме, который они с отцом смотрели прошлой ночью в «Раннем Шоу». Фильм назывался «Роган», и смотреть его казалось большим удовольствием; отец смеялся и кричал всякий раз при появлении Рогана, а Майк стрелял пальцем, пока мать не схватилась за голову и не велела им замолчать – у нее головная боль от этого шума.
Сейчас, когда он думал о фильме, ему не было смешно. В кино Роган был освобожден из недр земли японскими углекопами, которые копали самый глубокий в мире туннель. И глядя в черную сердцевину этой трубы, было очень легко представить в дальнем ее конце ту припавшую к земле птицу со сложенными за спиной кожистыми крыльями, как уставилась она своими глазами в голубых обводах на глядящее в темноту маленькое круглое мальчишеское лицо.
Задрожав, Майк отпрянул.
Он ушел от дымовой трубы, наполовину вошедшей в землю. Снаружи труба была не такой страшной, ее кирпичная поверхность была обогрета солнцем. Он встал на ноги и зашагал, выставив вперед руки, и ему нравилось, как ветер продувает его волосы.
На дальнем конце завода он спрыгнул вниз и начал изучать то, что там было: груды кирпичей, скрученные литейные формы, куски дерева, частя проржавевшей техники. Принести сувенир, говорила записка отца; он хотел хороший сувенир.
Майк подошел ближе к зияющему подвальному отверстию, остерегаясь, чтобы не порезаться разбитым стеклом. Кругом было много строительного мусора.
Майк не забыл об отцовском предупреждении не подходить к отверстию подвала; не забыл он также и о том, как пятьдесят с лишним лет назад на это место обрушилась смерть. Если есть в Дерри место, населенное привидениями, думал он, так это здесь. Но несмотря на это, а может, по этой как раз причине он решил остаться до тех пор, пока не найдет что-нибудь действительно интересное, чтобы принести домой и показать отцу.
Он двигался медленно и хладнокровно к отверстию в подвал, еще с большей осторожностью, когда внутренний голос шептал ему, что подходить туда слишком близко опасно: размытый весенними дождями край может осыпаться у него под ногами, и он провалится в ту дыру, где Бог только знает, сколько может быть ржавого железа, которое ждет, чтобы пронзить его как жука, оставив умирать в конвульсиях.
Он поднял оконный переплет и отбросил его в сторону. Здесь был ковш – достаточно большой для стола-гиганта, его ручка деформировалась – видимо, раскалена была до предела. Находился здесь поршень, слишком большой, чтобы он его мог даже сдвинуть с места. Майк переступал через него. Он переступил через него и...
"Что если я найду череп? -подумал он вдруг. – Череп одного из тех ребят, которые были убиты здесь, пока они охотились за пасхальными шоколадными яйцами в тысяча девятьсот каком-то году?"
Он посмотрел на залитое солнцем пустое поле, неприятно пораженный этой мыслью. В его уши задувал ветер, и еще одна тень медленно кружила по полю, наподобие тени гигантской летучей мыши или птицы. Он снова подумал, как здесь тихо и как странно выглядело поле с беспорядочно разбросанными повсюду кучами кирпичной кладки. Как будто какая-то страшная битва прошла здесь давным-давно.
"Не будь таким трусишкой, -сказал он себе с тревогой. – Они нашли все, что можно было найти, пятьдесят лет назад. После того как это случилось. И даже если не нашли, какой-нибудь парень – или взрослый – нашел бы.., остальное.., за это время. Думаешь, ты единственный, и никто больше не приходил сюда когда-либо за сувенирами?"
Нет.., нет, я так не думаю. Но...
Что но? – требовала рациональная часть его ума, и Майк подумал, что она звучит громче, тверже. Даже если бы что-то еще и можно было найти, оно бы разложилось давным-давно. Поэтому.., что?
В сорняках Майк нашел разбитый ящик письменного стола. Он посмотрел на него, отшвырнул его в сторону и подошел немного, ближе к отверстию в подвал – там было особенно много навалено. Вот там можно что-нибудь найти.
А что, если призраки? Что, если я увижу руки, тянущиеся к краю этого отверстия в подвал, и что, если меня обступят дети в остатках своей пасхальной одежды, одежды, которая вся сгнила и изодрана, и отмечена пятидесятилетней весенней грязью, осенними дождями и слежавшимся снегом? Дети без голов (он слышал в школе, что после взрыва какая-то женщина нашла голову одной из жертв на дереве в своем саду), дети без ног, дети, освежеванные, как треска, эти дети так же, как и я, может быть, пришли и играли.., там.., внизу, где темно.., под согнутыми железными балками и большими старыми ржавыми слитками...
О, остановись, ради Бога!
Но по спине его снова прошла дрожь, и он решил, что пора что-нибудь взять – все что угодно – и прогнать чертика. Он потянулся, почти наугад, и взял зубчатое колесо диаметром около семи дюймов. В кармане у него был карандаш, и он его использовал, чтобы выковырять грязь из зубьев. Потом он положил сувенир в карман. Теперь он пойдет. Он пойдет, да...
Но его ноги медленно двигались в другом направлении, к отверстию в подвале, и он с каким-то унылым ужасом понял, что ему нужно посмотреть вниз. Он должен был видеть.
Он взял ноздреватую перекладину, торчавшую из земли, и прошел вперед, пытаясь заглянуть вниз и внутрь. У него это не очень получалось. Он подошел на расстояние пятнадцати футов от края, но это было все еще далековато, чтобы увидеть дно подвала.
Мне плевать, увижу я дно или нет. Я сейчас пойду назад. У меня уже есть сувенир. Нечего мне смотреть в эту вшивую старую дыру. Да и папина записка говорила держаться от нее подальше.
Но несчастное, почти лихорадочное любопытство, которое захватило его, не ушло. Он шаг за шагом приближался к отверстию, сознавая, что земля здесь рыхлая и крошащаяся. Местами вдоль края он видел впадины, наподобие провалившихся могил, и понял, что здесь обрушивалась земля.
С сердцем, отбивающим удары в его груди, как тяжелые размеренные шаги солдатских ботинок, он приблизился к краю и взглянул вниз.
Из своего гнезда в подвале вверх посмотрела птица.
Майк сначала не поверил тому, что видит. Все нервы и проводящие пути в его теле, казалось, заледенели, включая и те, которые управляли мыслями. Это был не просто шок от зрелища птицы-монстра, птицы, чья грудь была оранжевой, как у малиновки, и чьи перья были мягкими, серыми, невыразительными перьями воробья; более всего он испытал шок от крайней неожиданности. Он ожидал увидеть монолитные блоки техники, погруженные в стоячую воду и черную грязь; вместо этого он заглянул в гигантское гнездо, которое заполняло подвал от края до края. Оно было сооружено из такого количества травы-тимофеевки, которого хватило бы для дюжины стогов сена, но трава эта была посеребренная и старая. Птица сидела в середине гнезда, ее ярко-очерченные глаза были черные, как свежая теплая смола, и на какой-то один безумный момент перед тем, как паралич прошел, Майк увидел себя отраженным в каждом из них.
Затем земля вдруг начала перемещаться и уходить у него из-под ног. Он услышал звук разрыва неглубоких корней и понял, что он скользит!
С криком он подался назад, балансируя руками. Он потерял равновесие и судорожно хватался за землю. Тяжелый тупой кусок металла больно вдавился ему в спину, и у него было время подумать о стуле для бродяг, прежде чем он услышал взрывоподобный шум крыльев птицы.
Он с трудом встал на колени, пополз, оглянулся назад через плечо и увидел, как она поднимается из подвала. Ее чешуйчатые когти были сумеречно-оранжевые. Ее бьющиеся крылья, каждое более десяти футов в поперечнике, разметали траву-тимофеевку туда-сюда, как ветер, создаваемый роторами вертолета. Она издала гудящий, звенящий крик. Несколько перьев соскользнули с ее крыльев и по спирали полетели вниз в подвал.
Майк снова встал на ноги и побежал.
Он тяжело бежал через поле, не оглядываясь, боясь смотреть назад. Птица не походила на Рогана, но он чувствовал, что она была духом Рогана, поднятым из подвала чугунолитейного завода Кичнера. Он споткнулся, упал на одно колено, встали опять побежал.
Тот таинственный гудящий, звенящий крик прозвучал снова. Его накрыла тень, и когда он посмотрел наверх, то увидел эту штуковину: она прошла менее чем в пяти футах над его головой. Ее клюв, грязно-желтый, открывался и закрывался, обнажая розовое содержимое внутри. Она кружила над Майком. Ветер, который исходил от нее, обдувал его лицо, неся с собой сухой, неприятный запах: чердачную пыль, мертвые памятники древности, гниющие диванные подушки.
Он отскочил влево, и теперь снова увидел упавшую главную дымовую трубу. Он прыжками побежал к ней, руки подстегивали его короткими ударами по бокам. Птица кричала, и он слышал, как она взмахивала крыльями. Они звучали, как паруса. Что-то толкнуло его в затылок, и по нему разлился огонь. Он почувствовал, как огонь распространяется, когда кровь закапала под воротничок его рубашки.
Птица снова кружила под ним, намереваясь схватить его своими когтями и унести, как коршун уносит полевую мышь. Намереваясь унести его в свое гнездо. Намереваясь съесть.
Когда она устремилась вниз, на него, и ее черные, ужасно живые глаза сфокусировались на нем, Майк срезал резко вправо. Птица чуть не потеряла его. Пыльный запах ее крыльев подавлял, был непереносим.
Теперь он бежал параллельно упавшей дымовой трубе и видел, где она кончается. Если бы он мог добраться до ее конца и забраться вовнутрь, он вероятно был бы в безопасности. Птица слишком велика, чтобы втиснуться туда за ним. Теперь она устремилась к Майку, ее крылья хлопали, создавая ураган, ее чешуйчатые когти распрямились. Она снова закричала, и на этот раз Майк услышал в ее голосе триумф.
Он опустил голову, выбросил руки вверх и двинулся прямо вперед. На мгновение когти птицы мощными тисками сжали его предплечье. Они кусали, как зубы. Хлопающие крылья отзывались громом в его ушах; он смутно сознавал, что вокруг него падают перья, порой задевая его щеки, как поцелуи фантома. Птица снова поднялась, и Майк почувствовал, как его несет вверх, вот он уже на цыпочках.., на одну леденящую секунду кончики его кед потеряли контакт с землей.
– Дай мне УЙТИ!
– крикнул он и вырвал руку. На минуту когти схватили его, затем треснул рукав рубашки. Он ударился, упав. Птица пронзительно закричала. Майк стал прорываться сквозь перья хвоста, задыхаясь от сухого их запаха. Это было похоже на бег через бесконечную завесу из перьев.
Все еще кашляя, – глаза застилали слезы и мерзкая пыль с крыльев птицы, – он наткнулся на упавшую трубу. Теперь он уже не раздумывал, сможет ли укрыться внутри. Он вбежал в темноту, его рыдания отдавались там эхом, повернулся к яркому кольцу дневного света. Его грудь поднималась и опускалась судорожными рывками.
Он вдруг осознал, что, если бы неправильно оценил размеры птицы или размеры жерла дымовой трубы, он бы убился так же наверняка, как если бы приложил отцовское ружье к голове и нажал спусковой крючок. Из трубы не было пути наружу. Это была не просто труба. Это был тупик. Другой конец трубы был захоронен в земле.
Птица снова пронзительно закричала, и вдруг свет в конце дымовой трубы погас, так как птица опустилась туда. Он мог видеть ее желтые чешуйчатые лапы, толстые, как икры человека. Затем она наклонила голову вниз и посмотрела внутрь. Майк обнаружил, что он опять глядит в эти отвратительно яркие, смоляные глаза с золотыми обручальными кольцами радужной оболочки. Клюв птицы открывался и закрывался, и каждый раз, когда он закрывался, Майк улавливал хорошо различимый звук, напоминающий зубовный скрежет. "Острый, -подумал он. – Я знал, конечно, что у птиц острые клювы, но по-настоящему никогда не думал об этом до сего момента".
Птица еще раз пронзительно крикнула. Звук так громко отдавался в кирпичном горле трубы, что Майк заткнул уши руками.
Птица начала пробиваться в устье трубы.
– Нет! – закричал Майкл. – Нет, не сможешь!