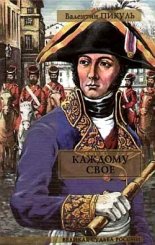Черный дом Кинг Стивен
Джек видел фотографии пчеловодов, облепленных пчелами, но это не фотография и он – не пчеловод. Его изумление, более того, искренняя радость, которую он находит в происходящем, потрясает. Пока пчелы облепляют его, он не помнит ни об ужасной смерти Мышонка, ни о смертельно опасной экспедиции, намеченной на следующий день. Кого он не забывает, так это Софи, и ему хочется, чтобы Нюхач и Док вышли из дома и увидели, что делается. Но особенно он жалеет о том, что этого не видит Софи. Хотя возможно, благодаря милосердию д’ямбы, видит. Кто-то успокаивает Джека, кто-то желает ему добра. Любящее, невидимое Присутствие предлагает ему поддержку. Эта поддержка ощущается как благословение. Упакованный в светящийся желто-черный пчелиный костюм, Джек чувствует, что полетел бы, если б потянулся к небу. Пчелы понесли бы его над лесами. Понесли бы его над холмами. Как крылатые люди в Долинах, которые служили Софи, он бы обрел способность летать. Только вместо двух крыльев, его удерживали бы в воздухе многие тысячи пчелиных крылышек.
В нашем мире, думает Джек, пчелы возвращаются в улей к наступлению темноты. Будто вспомнив о привычном распорядке дня, пчелы снимаются с головы Джека, с его спины, живота, шеи, рук и ног, не вместе, как ковер, а по одной, группами в пять-шесть. Поднимаются чуть выше, образуют рой, летят на восток, над домами, стоящими на дальней от реки стороне Нейлхауз-роуд, и все до одной растворяются в темноте. А об их жужжании Джек вспоминает, лишь когда оно исчезает.
В те несколько секунд, пока он стоит, прежде чем продолжить путь к пикапу, у него создается ощущение, что кто-то наблюдает за ним. И даже… что? Ответ приходит в голову, когда он поворачивает ключ в замке зажигания «доджа»: его обнимали.
Джек и представить себе не может ни сколь важным для него будет тепло этого объятия, ни как его обнимут вновь, уже этой ночью.
Прежде всего он совершенно выдохся. Провел день, которому сам Бог велел закончиться чем-то сюрреалистичным, вроде объятия роя пчел: Софи, Уэнделл Грин, Джуди Маршалл, Паркус… этот катаклизм… необычная страшная смерть Мышонка Бауманна, все это вымотало его донельзя. Тело требует отдыха. Когда он выезжает из Френч-Лэндинга и дома уступают место полям и рощам, его так и подмывает свернуть на обочину и полчасика поспать. Сгущающаяся темнота обещает полноценный, несущий отдых сон, это его смущает: он может проспать в кабине пикапа всю ночь, а потом чувствовать ломоту в теле и суставах весь день, тот самый день, который ему надлежит встретить во всеоружии.
Сейчас он далек от лучшей формы, сейчас длинную дистанцию ему не пробежать. Сейчас им движет исключительно сила воли, но он думает, что все же сможет добраться до дома Генри Лайдена, не заснув. Может, Генри ударил по рукам с парнем с ESPN, может, Генри выйдет на более высокий уровень и будет зарабатывать больше денег. В принципе, Генри и так зарабатывает достаточно, жизнь у него налажена прекрасно, но Джеку нравится сама мысль, что у его друга вдруг прибавится денег. Генри сможет просто сорить деньгами, а Джеку почему-то хочется это увидеть. Какую дивную одежду сможет позволить себе Генри! Джек представляет себе, как едет с ним в Нью-Йорк, как они останавливаются в хорошем отеле вроде «Карлайта» или «Сент-Реджиса», как посещают полдюжины лучших магазинов мужской одежды, где он, Джек, помогает Генри выбрать все то, что ему хочется.
И как здорово новая одежда будет смотреться на Генри! Так уж получается, что все, что он надевает, выглядит куда лучше, чем на манекенах в магазине. У Генри безупречный вкус. Конечно, он отдает предпочтение классическому, несколько старомодному стилю. Узкой полоске, широкой клетке, «елочке». Ему нравится хлопок, лен, шерсть. Иногда он носит галстук-бабочку, эскот, маленькие носовые платки порой выглядывают из нагрудного кармана его пиджака. Из обуви выбирает туфли из мягкой, добротной кожи. Кроссовки и джинсы – не для него, и Джек никогда не видел на нем футболки с надписью. Любопытно, откуда у слепого столь безупречный вкус?
«О, – доходит до Джека, – все дело в его матери. Конечно же. Он унаследовал безупречный вкус от матери».
По какой-то причине от этого умозаключения на глаза наворачиваются слезы. «Я становлюсь излишне эмоциональным, когда устаю, – говорит он себе. – Поберегись, а не то эмоции захлестнут тебя с головой». Но определиться с проблемой и разрешить ее – большая разница, и он не может последовать собственному совету. Итак, Генри Лайден в выборе одежды всегда следовал вкусу матери. Как это прекрасно и трогательно. Эта разновидность верности восхищала Джека больше всего: верность, о которой не говорят вслух. Генри, возможно, многое позаимствовал у матери: остроумие, любовь к музыке, уравновешенность, полное отсутствие жалости к себе. Уравновешенность и отсутствие жалости к себе – отличная комбинация, думает Джек, указывающая на храбрость.
И Генри действительно храбр, напоминает себе Джек. Более того, бесстрашен. Странно слушать, когда он говорит о том, что может водить автомобиль, но Джек не сомневается, что его друг, если б ему позволили, уселся за руль ближайшего «крайслера», завел двигатель и выехал на хайвей. Причем не прыгал бы от восторга и не старался показать всем и вся, какой он молодец, такое Генри просто претило. А спокойно смотрел бы в ветровое стекло и говорил: «Похоже, в этом году кукуруза сильно вымахала» или «Я рад, что Дуэн наконец-то покрасил свой дом». И кукуруза действительно стояла бы высокая, и Дуэн действительно покрасил бы свой дом, только источником информации для Генри служили бы не глаза.
Джек принимает решение: если ему удастся выбраться из «Черного дома» живым, он предоставит Генри возможность сесть за руль «доджа». Их поездка может закончиться в кювете, но зато он сможет лицезреть лицо Генри, ведущего автомобиль, а это дорогого стоит. В какую-нибудь субботу он позволит Генри проехаться по шоссе номер 93 до бара «Сэнд». Если Нюхача и Дока не сожрут вердоги[115] и они вернутся из похода на «Черный дом», им надо дать шанс насладиться беседой с Генри, с которым у них, как представляется Джеку, много общего. Нюхач и Док должны поближе познакомиться с Генри, они наверняка друг другу понравятся. Не пройдет и пары недель, как они усадят его на «харлей» и будут носиться из Сентралии в Норвэй-Вэлли и обратно.
Если бы только Генри мог пойти с ними в «Черный дом». Мысль эта наполняет Джека грустью, потому что реализовать ее невозможно. Генри храбр и неустрашим, Джек это знает, но он предпочел бы лишь поговорить о том, как они вместе пошли бы в «Черный дом». Этот разговор, то ли у него в гостиной, то ли в гостиной Генри, доставил бы ему массу удовольствия, но в жизни Джек не может подвергать Генри такой опасности.
– Глупо даже думать об этом, – заявляет Джек вслух и сожалеет о том, что не был полностью откровенен с Генри. Вот где берет начало страх за Генри, который он сейчас испытывает. Причина – в его нежелании рассказать Генри обо всем. Ему следовало с самого начала ничего не утаивать. Красные перышки, яйца малиновки, нарастающее беспокойство. Генри помог бы ему открыть глаза, излечил бы от слепоты, которая принесла больше вреда, чем физическая слепота Генри.
Но теперь все это в прошлом, решает Джек. Больше никаких секретов. Раз уж ему так повезло и Генри одарил его своей дружбой, он покажет, что ценит ее. Теперь он расскажет Генри обо всем, даже о своем прошлом: о Долинах, о Спиди Паркере, о мертвеце на пирсе Санта-Моники, о бейсболке Тайлера Маршалла. О Джуди Маршалл. О Софи. Да, он должен рассказать Генри о Софи… как вышло, что он до сих пор не рассказал? Генри порадуется вместе с ним, и Джеку не терпится это увидеть. Генри умеет радоваться за друга, как никто другой. Смотреть на радующегося Генри такое удовольствие, что собственная радость увеличивается как минимум вдвое. Какой же у него потрясающий, просто потрясающий друг! Попытайся он рассказать о Генри незнакомому с ним человеку, ему бы не поверили. Сказали бы, что таких не бывает. Но ведь бывает, живет такой вот Генри Лайден в Норвэй-Вэлли округа Френч штата Висконсин, ждет, когда ему прочитают очередную главу «Холодного дома». Наверное, в ожидании Джека включил свет на кухне и в гостиной, как всегда включал в память о любимой, так рано умершей жене.
Джек думает: «Должно быть, я не так уж плох, раз у меня есть такой друг».
И еще думает: «Я просто обожаю Генри».
Теперь, даже в темноте, все кажется ему прекрасным. Бар «Сэнд», сверкающие неоном огни его просторной стоянки, силуэты деревьев, которые выхватывают из темноты фары на поворотах шоссе номер 93, широкие поля, лампочки, перемигивающиеся, как рождественские гирлянды на крыльце «Магазина Роя». Джек переезжает мост и сворачивает налево, в долину. Видит по левую руку первый из фермерских домов, с ярко освещенными окнами. Все вокруг пронизано высшим смыслом, все говорит о вечном. Он едет в благоговейной тишине по священной роще. Джек помнит, как Дейл впервые привез его в эту долину, и эти воспоминания тоже священны.
Джек этого не ощущает, но слезы текут по его щекам. Кровь поет в жилах. Белая краска стен фермерских домов светится в темноте, и из темноты выступают головки тигровых лилий, которые приветствовали его еще в первый приезд в Норвэй-Вэлли. Тигровые лилии сверкают в свете фар, словно что-то шепчут, затем остаются позади. Их неразборчивые слова сливаются с шорохом колес, неустанно вращающихся, с каждым поворотом приближающих его к теплому дому Генри Лайдена. Джек знает, что завтра он может умереть, что эта ночь, возможно, последняя в его жизни. Да, он должен победить, но это не означает, что победа обязательно будет на его стороне. Гордые империи и благородные эпохи часто терпели поражения, Алый Король, возможно, вырвется из Башни и в ярости пронесется по мирам, сея хаос.
Они все могут умереть в «Черном доме»: он, Нюхач, Док. Если такое случится, Тайлер Маршалл станет не просто Разрушителем, не просто рабом, прикованным к веслу в не знающем бега времени чистилище, но Суперразрушителем, атомной бомбой, с помощью которой аббала превратит все миры в гигантский костер, наполненный горящими телами. «Только через мой труп», – думает Джек, и истерический смешок срывается с его губ: это не фигуральное выражение, а реальная ситуация.
Как такое может быть? Он смеется, вытирая со щек слезы. Парадокс этот наводит на мысль, что его словно раздирает надвое. Красота и ужас, красота и боль – и от этого никуда не деться. Уставший, измотанный Джек тем не менее остро ощущает удивительную хрупкость окружающего мира, его непрерывное, неустанное движение к смерти, осознает, что в этом движении заложен смысл существования. Ты видишь всю эту захватывающую дух красоту? Приглядись повнимательнее, потому что через мгновение сердце твое остановится.
Но тут он вспоминает окутавший его рой золотистых пчел: именно от этого они и защищали его, именно от этого. От блаженства блаженств, которое исчезает. То, что любишь, надо любить еще сильнее, потому что наступит день, когда оно может уйти. Так и есть, но очень уж этого не хочется.
В темноте ночи он видит гигантский силуэт Алого Короля, который держит в руке маленького мальчика. Хочет использовать его вместо зажигательного стекла, чтобы превратить миры в пепелища. Паркус, конечно, прав: он не может уничтожить гиганта, но, возможно, ему под силу спасти мальчика.
Пчелы говорили: «Спаси Тая Маршалла».
Пчелы говорили: «Люби Генри Лайдена».
Пчелы говорили: «Люби Софи».
Так слышал Джек. Он полагает, что они также говорили: «Делай свою работу, копписмен». Что ж, именно этим он и занимается. Делает свою работу. После стольких чудес ему просто не остается ничего другого.
На душе становится теплее, когда он сворачивает на подъездную дорожку к дому Генри. Ведь Генри – еще одно чудо, не так ли?
Сегодня, дает себе слово Джек, он доставит огромную радость несравненному Генри Лайдену. Расскажет всю историю, сагу о своем удивительном путешествии, имевшем место быть двадцать лет тому назад. Проклятые земли, Рациональный Ричард, Эйзеридж, Талисман – ничего не останется за кадром. А его пребывание в Оутли и «Доме солнечного света»! Генри будет внимать каждому слову. А Волк!
От Волка Генри просто придет в восторг. О Волке он будет слушать, затаив дыхание. И каждое слово Джека станет его извинением за долгое молчание.
А когда он закончит свой рассказ, выложит все как на духу, мир, этот мир, изменится, потому что в нем появится еще один человек, знающий полную версию случившегося с ним. Джек даже представить себе не может, какое облегчение он испытает, когда рухнет стена одиночества, отделяющая его от остального мира, даже мысль об этом наполняет душу радостью.
Теперь… это странно… Генри не включил свет, дом выглядит темным и пустым. Должно быть, он заснул.
Улыбаясь, Джек выключает двигатель, вылезает из кабины пикапа. Опыт говорит ему, что Генри проснется, как только он войдет в гостиную, да еще будет утверждать, что вовсе и не спал. Однажды, когда Джек также застал его в темноте, он заявил: «Просто я давал отдых глазам». Но что происходит сегодня? Он вроде бы собирался готовить передачу ко дням рождения Лестера Янга и Чарли Паркера. Решил, что темнота позволит лучше сосредоточиться? Он хотел поджарить на ужин рыбу. Пришел к выводу, что рыба, поджаренная в темноте, лучше на вкус? Впрочем, он, Джек, готов съесть любую рыбу. И возможно, они отпразднуют новый договор Генри с ESPN!
– Генри? – Джек стучит в дверь, открывает, заглядывает внутрь. – Генри, притворщик, ты спишь?
Генри не отвечает, и вопрос Джека растворяется в царящей в доме темноте. Он ничего не видит. Комната – двухмерное черное полотно.
– Эй, Генри, я уже здесь. И хочу рассказать тебе потрясающую историю!
В ответ – мертвая тишина.
– Эй, – говорит Джек, переступает порог. Мгновенно инстинкт самосохранения поднимает тревогу: «Уходи, беги, сматывайся!» Но почему у него возникло такое чувство? Это же дом Генри, он бывал в нем сотни раз, он знает, что Генри или заснул на софе, или решил прогуляться к дому, его дому. Джек склоняется к мысли, что так оно и есть. Генри получил фантастическое предложение от представителя ESPN, не смог усидеть на месте (такое может случиться даже с Генри Лайденом, пусть для этого требуется нечто большее, чем для обычных людей) и отправился к Джеку, чтобы поделиться с ним своей радостью. А поскольку Джек не вернулся ни к пяти, ни к шести часам, решил его подождать. И сейчас, должно быть, спит на софе Джека, а не на собственной.
Все это вполне вероятно, но никак не согласуется с сигналами, которые посылают ему нервные окончания: «Уходи! Скорее! Нечего тебе здесь делать!»
Он снова зовет Генри, но ответ тот же – молчание.
Прекрасное настроение, в котором он въехал в Норвэй-Вэлли, исчезает бесследно, но Джек об этом даже не думает, в голове совсем другие мысли. Будь он детективом отдела расследования убийств, это тот самый момент, когда надо доставать оружие. Джек входит в гостиную. Два сильных запаха ударяют в нос. Один – аромат духов, второй…
Он знает, что это за запах. Его присутствие означает, что Генри мертв. Часть Джека, не коповская, спорит, что запах крови не обязательно свидетельство смерти. Генри ранили в схватке, и Рыбак утащил его в другой мир, как Тайлера Маршалла. И Генри сейчас спрятан где-нибудь в Долинах, с тем чтобы куда-нибудь заманить Джека или сделать более сговорчивым. Возможно, он и Тай сидят в одном месте, ожидая спасения.
Джек знает, что это фантазия. Генри мертв, и убил его Рыбак. Так что сейчас он должен найти тело. Он – копписмен, следовательно, пора приниматься за работу. Меньше всего на свете ему хочется смотреть на труп Генри, но это решительно ничего не меняет. Печаль бывает разная, но та, что формируется в Джеке Сойере, похожа на гранитную скалу. Она замедляет шаг Джека, сжимает его челюсти. Когда он тянется к выключателю, печаль направляет его руку в нужное место, словно это рука Генри.
Он смотрит на стену, когда вспыхивает свет, так что комнату видит лишь периферийным зрением. Разгрома, как он опасался, вроде бы нет. Торшер лежит на полу, повален стул. Но, когда Джек поворачивает голову, в глаза бросаются два более серьезных изменения. Первое – красная надпись на противоположной, кремового цвета стене. Второе – количество крови на полу. Кровавые пятна определяют маршрут Генри, сначала в гостиную, потом – из нее. Кровавый след начинается в холле и ведет за софу, где скопилась целая лужа. Вторая лужа – под длинным столом, где Генри держал переносной проигрыватель для лазерных дисков и те си-ди, которые хотел прослушать вечером. Из-под стола новый след ведет обратно в холл. Джеку ясно, что когда Генри выполз из-под стола, он практически истек кровью. Если, конечно, он выполз оттуда сам, посчитав, что опасность миновала.
Пока Генри лежал мертвый или умирал, Рыбак использовал часть своей одежды (рубашку? носовой платок?) вместо кисти. Макал ее в кровь за софой и писал на стене буквы, забрызгав ее красными каплями. Повторял и повторял процесс, пока на стене не появилась надпись:
ПРИВЕТ ГОЛЛИВУД ПОПРОБУЙ ДОСТАТЬ МЕНЯ АК АК АК АК
Но Алый Король не мог сам написать свои инициалы, как не мог написать их и Чарльз Бернсайд. Их оставил на стене хозяин тела Рыбака, чье имя для наших ушей звучит как мистер Маншан.
«Не волнуйся, скоро я приду за тобой», – думает Джек.
В этот момент никто бы не стал осуждать его, выйди он за дверь, где воздух не пропитан духами и запахом крови, и набери по сотовому телефону номер полицейского участка на Самнер-стрит. Может, сегодня дежурит Бобби Дюлак. Может, даже Дейл еще не уехал домой. Чтобы выполнить свой гражданский долг, ему достаточно произнести восемь или девять слов. А потом останется только положить сотовый в карман, сесть на крыльцо и дожидаться появления на подъездной дорожке слуг закона. Приедет их много, на четырех или пяти машинах. Дейлу придется позвонить детективам из управления полиции Висконсина, Браун и Блэк сочтут необходимым поставить в известность агента ФБР. Через сорок пять минут гостиную Генри заполнят люди, которые будут что-то замерять, что-то записывать, что-то фотографировать. Здесь будут судебный медик и технические эксперты. А когда все они закончат работу, двое санитаров в белых халатах вынесут носилки через переднюю дверь и загрузят их вместе с содержимым в кузов автомобиля, на котором приехали.
Обо всем этом Джек думает не больше пары секунд. Он хочет увидеть, что Рыбак и мистер Маншан сделали с Генри, должен увидеть, выбора у него нет. Печаль этого требует, а если он не повинуется желанию печали, то никогда более не станет самим собой.
Печаль, которая, как стальной сейф, упрятала внутрь себя любовь к Генри Лайдену, ведет его в глубь гостиной. Джек движется медленно, выбирая места, куда поставить ногу, словно человек, переправляющийся через речку по торчащим из воды камням. Выискивает чистые участки пола. Со стены большие, длиной восемь дюймов, красные буквы насмешливо наблюдают за его успехами:
ПРИВЕТ ГОЛЛИВУД
Подмигивают ему, словно неоновая вывеска:
ПРИВЕТ ГОЛЛИВУД ПРИВЕТ ГОЛЛИВУД ПОПРОБУЙ ДОСТАТЬ МЕНЯ ПОПРОБУЙ ДОСТАТЬ МЕНЯ
Ему хочется ругаться, но печаль не позволяет Джеку произнести слова, которые просятся на язык. В начале коридора, ведущего в студию и на кухню, он переступает через длинный кровавый след и поворачивается спиной к подмигивающему неону. Свет из гостиной проникает в коридор на три или четыре фута. В кухне – непроницаемая тьма. Дверь в студию приоткрыта, верхняя стеклянная панель поблескивает отраженным светом.
В коридоре все залито кровью. Приходится наступать на нее, но он продвигается вперед, не отрывая глаз от приоткрытой двери. Генри Лайден никогда не оставил бы ее в таком виде; он всегда закрывал дверь, если находился в студии. Генри был аккуратистом. По-другому просто не мог: оставь он дверь приоткрытой, наткнулся бы на нее, направляясь в кухню. Кровь, беспорядок, оставленный убийцей, выводят Джека из себя, хоть он и не хочет этого признавать. Джек в ярости: как Рыбак посмел посягнуть на его друга?!
Он добирается до двери, прикасается к ней, открывает шире. В воздухе висит концентрированная смесь аромата духов и запаха крови. В студии лишь на самую малость светлее, чем на кухне, Джек различает только контуры пульта управления да прямоугольники колонок, закрепленных на стене. Окно в кухню – черное, непроницаемое полотнище. Держась рукой за дверь, Джек приближается к порогу и видит, ему кажется, что видит, спинку стула и очертания человеческой фигуры на нем. Только сейчас до него доносится шипение вращающейся бобины.
– Боже мой, – выдыхает Джек в одно слово, словно ожидал увидеть совсем другое. Звук перематывающейся пленки окончательно убеждает его, что Генри мертв. Печаль Джека берет верх над неистовым желанием выскочить из дома и позвонить всем копам Висконсина, чтобы они помогли ему повернуть выключатель в студии. Он не может уйти, он должен засвидетельствовать случившееся, как в случае с Ирмой Френо.
Его пальцы находят выключатель, замирают на нем. К горлу подкатывает тошнота. Он щелкает выключателем, вспыхивает свет.
Генри сидит на кожаном вращающемся стуле, наклонившись над столом, держась обеими руками за свой антикварный микрофон. Он по-прежнему в черных очках, но одна из тонких металлических дужек погнута. Поначалу Джеку кажется, будто все окрашено в красное, ибо кровью залита вся поверхность стола и стоящее на нем оборудование. Со стола кровь капала на брюки Генри. Часть щеки Генри откушена, на правой руке недостает двух пальцев. На взгляд Джека, который фиксирует все детали, основной источник кровопотери – рана на спине. Она скрыта пропитанной кровью одеждой, но большая часть крови попала на пол, когда лилась со стула. Должно быть, Рыбак разрезал какой-то внутренний орган, а может, повредил артерию.
Совсем немножко крови, если не считать клавиш управления, на студийном магнитофоне. Джек с трудом вспоминает, как он работает, но ему не раз доводилось видеть, как Генри меняет бобины местами, так что Джек помнит, что нужно делать. Вставляет ленту в щель головки, свободный конец закрепляет на пустой бобине, нажимает клавишу «REWIND». Лента плавно скользит, перематываясь с одной бобины на другую.
– Ты сделал эту запись для меня, Генри? – спрашивает Джек. – Готов поспорить, что да, но, я надеюсь, ты умер не для того, чтобы сообщить мне уже известное.
Пленка останавливается. Джек нажимает клавишу «PLAY» и ждет, затаив дыхание.
Из динамиков гремит голос Джорджа Рэтбана: «Девятый иннинг, и наша команда готовится отправиться в душевую. Но игра не ЗАКОНЧЕНА, пока ЖИВ последний СЛЕПОЙ!»
Джек приваливается к стене.
Голос Генри Шейка заполняет комнату и говорит ему о том, что надо звонить в «Макстон». Прорезается Висконсинская крыса и кричит о «Черном доме». Шейк, Шейк, Шейк и Джордж Рэтбан о чем-то спорят, и Шейк берет верх. Джек этого не выдерживает; он не может остановить поток слез, даже и не пытается. Пусть текут.
Последний репортаж Генри потрясает его до глубины души. В этом весь Генри. Генри Лайден боролся за жизнь до последнего, переключаясь с одной своей личности на другую, и они сделали все, что требовалось. Это была верная и надежная команда, Джордж, Шейк и Крыса, и они пошли на дно вместе с кораблем, впрочем, выбора у них и не было. Голос Генри Лайдена появляется вновь и слабеет с каждой фразой. Умирающий голос Генри говорит, что он прожил прекрасную жизнь. Голос понижается до шепота, чтобы произнести последние два слова: «Привет, Жаворонок». Джек слышит в этих словах улыбку.
Плача, Джек выходит из студии. Ему хочется плакать и плакать, пока не останется слез, но он не имеет права подвести ни себя, ни Генри. Он плетется по коридору, вытирает глаза, ждет, пока гранитная печаль поможет ему справиться с горем. Она поможет ему и в решительной схватке с «Черным домом». Печаль не позволит ему потерпеть поражение. Она укрепит его в решимости победить.
Призрак Генри Шейка шепчет: «Джек, эта печаль никогда не покинет тебя. Ты к этому готов?»
– И не хочу, чтобы было иначе.
«Не покинет никогда. Куда бы ты ни пошел, что бы ни делал. В любом из миров. С каждой женщиной. Если у тебя будут дети, она достанется им. Ты будешь слышать ее в музыке, видеть в книгах. Она станет частью твоей еды. На веки вечные. Во всех мирах. В «Черном доме».
– Я – эта печаль. Она – это я.
Шепот Джорджа Рэтбана в два раза громче шепота Шейка, Шейка, Шейка: «Ну что, сынок, могу я услышать, как ты говоришь Д’ЯМБА?»
– Д’ямба.
«Как я понимаю, ты знаешь, почему пчелы обнимали тебя. Не пора ли тебе позвонить?»
Да, пора. Но он больше не может оставаться в залитом кровью доме, он должен выйти в теплую летнюю ночь. Ставя ноги куда попало, Джек пересекает залитую кровью гостиную и выходит за дверь. Печаль шагает вместе с ним, ибо он – это она, а она – это он. Огромное небо раскидывается над его головой, все в звездах. Из кармана появляется верный сотовый телефон.
И кто снимает трубку в полицейском участке Френч-Лэндинга? Естественно, Арнольд «Ручной Фонарь» Храбовски, с новым прозвищем и только что возвращенный на службу. Новость Джека приводит Храбовски в состояние крайнего возбуждения. Что?
Господи! О нет. В это невозможно поверить! Что? Да, сэр, я займусь этим немедленно, можете не беспокоиться.
И пока бывший Бешеный Мадьяр, борясь с дрожью в руках и голосе, набирает домашний номер чифа и сообщает ему информацию, полученную от Джека, последний уходит от дома Генри, уходит от подъездной дорожки и пикапа, от всего, что напоминает ему о людях, уходит на луг, в высокую желто-зеленую траву. Печаль ведет его, ибо печаль лучше знает, что ему сейчас нужно.
Прежде всего ему необходим отдых. Сон, если он сможет спать. Место на уровне земли, подальше от перемигивания красных огней, воя сирен и яростных, энергичных полицейских. Подальше от всей этой безнадеги. Место, где человек может лечь на спину и видеть небо. Отмахав полмили, Джек находит такое место, между кукурузным полем и скалистым склоном холма, вершина которого поросла лесом. Опечаленный рассудок приказывает утомленному телу лечь. Тело повинуется. Над головой звезды словно дрожат и вибрируют, хотя, разумеется, настоящие звезды в знакомом, реальном небе так себя не ведут, а потому все это – оптическая иллюзия. Джек вытягивается во весь рост, и полоска травы и земли под ним принимает форму его тела. Это, конечно, тоже иллюзия, поскольку настоящая земля твердая, не податливая, не упругая. Опечаленный рассудок Джека Сойера говорит утомленному телу, что надо спать, и, хотя это кажется невозможным, оно засыпает.
А уже через несколько минут спящее тело Джека Сойера начинает трансформироваться. Края расплываются, цвета тронутых сединой волос, светло-коричневого пиджака, бежевых туфель из мягкой кожи светлеют. Тело становится прозрачнее, все более напоминает сгусток тумана или облако, наконец, сквозь него становятся видны смятые травинки, служащие ему матрацем. Чем дольше мы смотрим, тем более отчетливо видим траву, тем более прозрачным становится тело. Наконец, от него остается лишь легкое мерцание, которое исчезает задолго до того, как распрямляется примятая трава.
Глава 25
О, забудем об этом. Мы знаем, куда отправился Джек Сойер, исчезнув с края кукурузного поля, и мы знаем, кого он скорее всего встретит, когда попадет туда. Хватит об этом. Мы хотим поразвлечься, хотим оказаться в эпицентре событий! К счастью, у нас под рукой очаровательный старичок Чарльз Бернсайд. Такой, как он всегда готов расстараться. И подложит пердящую подушку под зад губернатора на банкете, и добавит в жаркое соуса, от которого тут же начинают слезиться глаза, и «пустит голубка» во время проповеди. А сейчас он появляется из унитаза во второй кабинке мужского туалета крыла «Маргаритка». Мы замечаем, что старина Берни, наш Берн-Берн, обеими руками прижимает к груди секатор для подрезки зеленой изгороди, который позаимствовал у Генри Лайдена, прижимает так нежно, будто это ребенок. По его костлявому правому предплечью змеится ножевая рана. Он ставит одну ступню, одетую в шлепанец другого жильца «Макстона», на ободок унитаза, опирается на нее, приподнимается и вторую ногу ставит уже на пол. Его рот кривится в злобной усмешке, глаза напоминают две пули, и мы не видим, что он хоть на йоту опечален. Кровь Генри Лайдена на штанинах его брюк, а вот рубашка потемнела от собственной крови, вытекшей из раны в животе.
Морщась, Берни открывает дверь кабинки и выходит в пустующий туалет. Флуоресцентные лампы на потолке отражаются от длинного зеркала, которое висит над раковинами. Белые плитки пола, спасибо Батчу Йерксе, который работает вторую смену (его сменщик напился и не смог выйти на работу), блестят. В этой сверкающей белизне кровь на одежде Чарльза Бернсайда и его теле смотрится ярко-красной. Он снимает с себя рубашку и бросает в раковину, прежде чем направиться к дальнему концу туалета, где на стене висит шкафчик. К дверце приклеен кусок белого пластыря с надписью: «ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА». Старики частенько падают в местах общего пользования, вот отец Шустрика и распорядился повесить шкафчики с перевязочными средствами там, где они могли понадобиться. За Берни на белых плитках остается кровавый след.
Берни вырывает несколько бумажных полотенец из раздаточного контейнера, смачивает водой, кладет на край ближайшей раковины. Потом открывает шкафчик, достает рулон пластыря и марлевые салфетки, отрывает полосу пластыря длиной примерно шесть дюймов. Вытирает кровь с кожи вокруг раны на животе, прижимает к ране мокрую бумагу. Убирает ее, заменяя марлевыми салфетками. Наклеивает сверху пластырь. Точно так же, не слишком умело, перевязывает рану на руке.
Нагибается и вытирает кровь с белых плиток пола.
Тяжело переставляя ноги, идет вдоль ряда раковин, открывает воду в той, где лежит его рубашка. Вода сразу становится красной. Берни трет рубашку, пока красный цвет не бледнеет до светло-розового. Довольный результатом, он выжимает рубашку, пару раз встряхивает, надевает. Она прилипает к телу, но Берни это не волнует. Об элегантности речь не идет, главное – не привлекать к себе лишнего внимания, как случилось бы, останься на рубашке кровавое пятно. Да, штанины понизу пропитаны кровью, и шлепанцы Элмера Джесперсона из желто-черных превратились в темно-красные, но он полагает, что мало кто удосужится взглянуть на его ноги.
В голове грубый голос продолжает твердить: «Быштрее, Берн-Берн, быштрее».
Берни допускает лишь одну ошибку: застегивая пуговицы мокрой рубашки, смотрит на свое отражение в зеркале. Увиденное повергает его в шок. Пусть красавцем он себя никогда не считал, обычно Чарльзу Бернсайду нравилось то, что показывало ему зеркало. По его разумению, выглядит он как человек, который знает, что почем: хитрый, непредсказуемый, изворотливый. Но на этот раз из зеркала на него смотрит совсем другой человек: слабоумный, выдохшийся, тяжело больной. Глубоко запавшие, воспаленные глаза, провалившиеся щеки, набухшие вены, змеящиеся по лысому черепу… даже нос выглядит более костистым и свернутым на сторону, чем раньше. Такими стариками, как он, пугают детей.
«Тофой тольхо пухать декей, Берн-Берн. Фремя шефалитша».
Не может он выглядеть так плохо, не правда ли? Если б выглядел, заметил бы раньше. Нет, мир видит Чарльза Бернсайда не таким. Просто туалет слишком уж белый, в этом все дело. Такая белизна лишает кожу цвета. Добавляет худобы. Умирающий ужасный старик шагает к зеркалу, и «старческие бляшки» на коже становятся темнее. Вид собственных зубов заставляет его закрыть рот.
Но его хозяин не дает ему покоя, тащит к двери, бормоча: «Фремя, фремя».
Берни знает, почему фремя: мистер Маншан хочет вернуться в «Черный дом». Мистер Маншан прибывает из краев, которые расположены бесконечно далеко от Френч-Лэндинга, и некоторые этажи «Черного дома», которые они строили вместе, выглядят как его родные места… самые глубинные этажи, куда Чарльз Бернсайд заходит редко. Там он чувствует себя загипнотизированным, у него сосет под ложечкой, силы покидают его. Когда он пытается представить себе мир, давший жизнь мистеру Маншану, перед его мысленным взором появляется темная, неровная земля, усеянная черепами. На голых склонах и вершинах холмов стоят дома, похожие на замки, которые меняют форму, а то и исчезают, стоит тебе моргнуть. Из расщелин доносится машинный грохот, перемежаемый детскими криками боли.
Бернсайд тоже хочет вернуться в «Черный дом», но по более прозаической причине: в комнатах наземных этажей он может отдохнуть, поесть консервов, почитать комиксы. Он обожает запах этих комнат, где пахнет тухлятиной, потом, засохшей кровью, плесенью, отбросами. Будь у него возможность дистиллировать этот аромат, он бы брызгался им, как одеколоном. Опять же, аппетитный малыш, по имени Тайлер Маршалл, сидит под замком в камере на другом уровне «Черного дома» и в другом мире, а Берни не терпится помучить маленького Тайлера, пройтись морщинистыми руками по гладкой, бархатистой коже мальчика. Тайлер Маршалл возбуждает Берни.
Но есть еще удовольствия, которые достижимы в этом мире, и уже время их получить. Берни заглядывает в щелку между дверью и дверным косяком и видит, что Батч Йеркса уступил усталости и мясному рулету из столовой. Он сидит на стуле, как огромная кукла, руки лежат на столе, толстый подбородок уютно устроился на шее. Очень удобный, аккурат по руке, камень, который Йеркса использует вместо пресс-папье, замер в нескольких дюймах от правой руки Йерксы, но Берни камень больше не нужен, поскольку у него есть более эффективное оружие. Он сожалеет о том, что слишком поздно оценил возможности секатора для подрезки живой изгороди. Вместо одного лезвия – два. Одно снизу, второе – сверху, чик-чик! О, такие острые! Он не собирался ампутировать слепому пальцы. Поначалу он воспринимал секатор как большой нож, но когда его пырнули в руку, он двинул секатором в сторону слепого, и лезвия сами отхватили тому пальцы, быстро и эффективно, как в старые времена чикагские мясники резали бекон.
Да, с Шустриком Макстоном удастся позабавиться на славу. Он и заслуживает того, что его ждет. Зеркало подсказало Берни, что ему недостает двадцати фунтов, может, и тридцати, и удивляться этому не приходится: посмотрите, чем кормят в столовой. Шустрик ворует деньги, отпущенные на еду, как ворует их по другим статьям расходов. Правительство штата, федеральный бюджет, «Медикейд»[116], «Медикэр»[117], Шустрик обкрадывает всех. Пару раз, думая, что Чарльз Бернсайд ничего не соображает, Макстон подсовывал ему на подпись бланки, согласно которым старику делали операцию на простате, на легких. То есть деньги, которые «Медикэр» платит за фиктивные операции, идут прямиком в карман Шустрика, не так ли?
Бернсайд выходит в коридор и направляется к холлу, оставляя за собой кровавые следы. Поскольку он должен пройти мимо сестринского поста, секатор он засовывает за пояс и прикрывает сверху рубашкой. Над стойкой на сестринском видны дряблые щеки, очки в золотой оправе и жидкие волосы старой карги Джорджетт Портер. Могло быть и хуже, думает он. С тех пор как она влетела в М18 и застала его в чем мать родила мастурбирующим посреди комнаты, Джорджетт Портер трясет, когда она сталкивается с ним.
Она бросает на него короткий взгляд, усилием воли подавляет дрожь и возвращается к прерванному занятию. Наверное, вяжет или читает глупый детектив, в котором кот раскрывает преступление. Берни приближается к стойке, подумывая о том, чтобы познакомить секатор с физиономией Джорджетт, решает, что не стоит зря тратить силы и время. Добравшись до стойки, заглядывает за нее и видит, что в руках у Джорджетт книжка, как он и предполагал.
Она подозрительно смотрит на него.
– Ты сегодня роскошно выглядишь, Джорджи.
Она бросает взгляд в коридор, в холл и понимает, что придется разбираться с Берни самой.
– Вы должны быть в своей комнате, мистер Бернсайд. Уже поздно.
– Не суй нос в чужие дела, Джорджи. Я имею право на прогулку.
– Мистер Макстон не любит, чтобы пациенты бродили по другим корпусам, так что, пожалуйста, оставайтесь в «Маргаритке».
– Босс еще на месте?
– Думаю, да.
– Хорошо.
Он поворачивается и тащится к холлу, когда она кричит вслед:
– Подождите!
Он оглядывается. Она встает, на лице тревога.
– Вы не собираетесь тревожить мистера Макстона, не так ли?
– Скажешь еще слово, и я потревожу тебя.
Одна ее рука поднимается к шее, и наконец она замечает кровь. Подбородок отваливается, брови взлетают.
– Мистер Бернсайд, в чем у вас шлепанцы? И штанины? Вы так наследили.
– Не можешь, значит, молчать, да?
Насупившись, он возвращается к сестринскому посту. Джорджетт Портер прижимается к стене, и прежде чем понимает, что ей надо бежать, Берни уже стоит перед ней. Она отрывает руку от шеи и выставляет вперед, в надежде, что его это остановит.
– Тупоголовая сука.
Берни выхватывает секатор из-за пояса, берется за рукоятки, легким движением, словно это веточки, отрезает ей пальцы.
– Дура.
Шок парализует Джорджетт. Она смотрит на кровь, текущую из четырех обрубков.
– Чертова идиотка.
Берни раскрывает секатор и вгоняет одно острие в шею Джорджетт. В горле у нее булькает. Она пытается схватиться за секатор, но Бернсайд выдергивает его из шеи и поднимает выше. Из обрубков хлещет кровь. На лице Бернсайда написано отвращение. Как у человека, который понимает, что придется очищать туалетный ящик кошки. Мокрое от крови лезвие он втыкает в правый глаз Джорджетт, и она умирает еще до того, как ее тело сползает по стене на пол.
В тридцати футах по коридору Батч Йеркса что-то бормочет во сне.
– Они никогда не слушают. – Бернсайд качает головой. – Стараешься, стараешься, а они не желают слушать, отсюда и результат. Доказывает, что они сами этого хотят… как те маленькие шлюхи в Чикаго. – Он выдергивает лезвие секатора из головы Джорджетт, вытирает оба лезвия о ее блузку. Воспоминания о маленьких чикагских шлюхах вызывают шевеление в его члене, который начинает набухать в штанах. «При-вет!» Ах… магия сладостных воспоминаний. Хотя, как мы видели, во сне у Чарльза Бернсайда частенько случается эрекция, в периоды бодрствования такого практически не бывает, так что ему хочется спустить штаны и посмотреть, на что он способен. Но вдруг проснется Батч Йеркса? Он же решит, что Берни возбудила Джорджетт Портер, вернее, ее труп. Вот этого не надо… совершенно не надо. Даже у монстра есть гордость. Лучше идти в кабинет Шустрика Макстона и надеяться, что его молоток не упадет до того, как придет время забить гвоздь.
Берни засовывает секатор за пояс и одергивает мокрую рубашку. Доходит до конца коридора «Маргаритки», пересекает пустынный холл, добирается до двери с металлической табличкой, на которой выгравировано: «УИЛЬЯМ МАКСТОН, ДИРЕКТОР». Ее и открывает, вызывая из памяти образ давно умершего десятилетнего мальчика Германа Флэглера, прозванного Пуделем, одной из своих первых жертв. Пудель! Нежный Пудель! Эти слезы, эти рыдания боли и радости, это признание собственной беспомощности. Корочка грязи на ободранных коленях Пуделя, его нежные подмышки. Горячие слезы, струйка мочи из перепуганного маленького крантика.
С Шустриком такого блаженства ждать не приходится, но Берни уверен, что толика удовольствия ему все-таки перепадет. И не стоит забывать про Тайлера Маршалла, который, связанный и беспомощный, ждет в «Черном доме».
Чарльз Бернсайд, шаркая ногами, тащится по маленькой, без единого окна, комнатушке Ребекки Вайлес, а перед глазами стоит бледнокожая, с ямочками, попка Пуделя Флэглера. Он берется за следующую ручку, выжидает секунду-другую, чтобы чуть успокоиться, бесшумно поворачивает ручку. Дверь приоткрывается. Шустрик Макстон, единственный монарх этого королевства, наклонился над столом и карандашом делает пометки в двух стопках бумаг. На его губах играет улыбка, глаза поблескивают, карандаш перебегает с одной стопки на другую, оставляя крошечные пометки. Шустрик полностью поглощен этим важным делом и замечает, что он не один, лишь когда гость, войдя в кабинет, пинком закрывает за собой дверь.
Когда дверь захлопывается, Шустрик раздраженно вскидывает голову и смотрит на незваного гостя. Но выражение лица меняется, едва он видит, кто перед ним.
– Значит, там, откуда вы приехали, в дверь не стучат, мистер Бернсайд? – спрашивает он с обезоруживающим добродушием. – Просто врываются в комнату, да?
– Именно так, – отвечает гость.
– Ну и ладно. По правде говоря, я намеревался поговорить с вами.
– Поговорить со мной?
– Да. Проходите, проходите. Присядьте. Боюсь, у нас может возникнуть небольшая проблема, поэтому я хочу заранее все обсудить.
– Ага, – кивает Берни. – Проблема. – Он отлепляет мокрую рубашку от груди, бредет к столу, оставляя за собой красные, пусть и не столь отчетливые, как в коридоре и холле, следы, которых Макстон не видит.
– Садитесь. – Шустрик указывает на стул, стоящий перед столом. – Пришвартуйтесь и расслабьтесь. – Это выражение Френки Шеллбаргера, начальника кредитного отдела Первого фермерского банка, которое не сходит с его губ на заседаниях местного отделения клуба «Ротари», и хотя Шустрик не очень-то представляет себе, как швартуются, само выражение ему нравится. – Нам надо поговорить по душам.
– Ага. – Берни садится, спина, спасибо заткнутому за пояс секатору, остается прямой как палка. – По душам так по душам.
– Да, да, совершенно верно. Эй, у вас мокрая рубашка? Так и есть. Это не дело, старина, вы можете простудиться и умереть, а это никому из нас не понравится, не так ли? Вам нужна сухая рубашка. Давайте посмотрим, что я могу для вас сделать.
– Не стоит беспокоиться, гребаная обезьяна.
Шустрик Макстон уже на ногах и одергивает свою рубашку, но слова старика заставляют его застыть. Он, однако, быстро приходит в себя, улыбается и говорит:
– Оставайтесь на месте, Чикаго.
Хотя при упоминании родного города по спине бежит холодок, лицо Бернсайда остается бесстрастным. Макстон выходит из-за стола, направляется к двери. Бернсайд наблюдает, как директор выходит из кабинета. Чикаго. Где жили и умерли Пудель Флэглер, Сэмми Хутен, Фред Фрогэн и все остальные, благослови их Господь. С их улыбками и их криками. Как и все белые дети трущоб, с кожей цвета слоновой кости под коркой грязи, никому не нужные, всеми забытые. Тонкие косточки лопаток, грозящие прорвать прозрачную кожу. Детородный орган Берни шевелится и затвердевает, вспоминая прошлое. «Тайлер Маршалл, – воркует себе под нос Берни, – сладенький маленький Тай, мы с тобой славно поразвлечемся, перед тем как отдадим тебя боссу, да, обязательно поразвлечемся, обязательно».
Дверь хлопает за его спиной, вырывая из эротических грез. Но его конец по-прежнему в боевой стойке, как в те славные, но, к сожалению, далекие дни.
– В холле никого, – жалуется Макстон. – Эта старая коза… как ее там… Портер, Джорджетт Портер, готов спорить, пошла на кухню, набивать свой и без того толстый живот, а Батч Йеркса спит за столом. Так что прикажете мне делать? Шарить по палатам в поисках рубашки?
Он проходит мимо Бернсайда, всплескивает руками, садится за стол. Все это игра, а Берни видел артистов и получше. Шустрику Берни не провести, даже если он кое-что знает про Чикаго.
– Мне не нужна новая рубашка, – говорит он. – Подтиральщик.
Шустрик откидывается на спинку. Закидывает руки за голову.
Улыбается – этот пациент забавляет его, действительно забавляет.
– Ладно, ладно. Необходимости обзываться нет никакой. Ты больше меня не обманешь, старик. Больше и не пытайся изображать, что у тебя болезнь Альцгеймера. Я тебе не поверю.
Беседу он ведет легко и непринужденно, излучает уверенность картежника, у которого на руках четыре туза. Берни догадывается, что его собираются шантажировать, отчего грядущая месть становится еще слаще.
– Должен отдать тебе должное, – продолжает Шустрик. – Ты обдурил всех, включая меня. Это какую же надо иметь силу воли, чтобы имитировать последнюю стадию болезни Альцгеймера. Сидеть в кресле, как паралитик, кормиться с ложечки, дристать в штаны. Притворяться, что не понимаешь ни одного слова.
– Я не притворялся, козел.
– Так что неудивительно, что ты вдруг начал выздоравливать. Когда это произошло, год тому назад? Я бы на твоем месте проделал то же самое. Одно дело – дурить всем голову, другое – превращаться в растение. Вот мы и устроили небольшое чудо, не так ли? Излечились от Альцгеймера, как от обычной простуды. Изумив всех. Ты вновь начал ходить, начал есть. У персонала убавилось работы. Ты по-прежнему один из моих любимых пациентов, Чарли. Или мне следует называть тебя Карл?
– Мне насрать, как ты меня называешь.
– Но Карл – твое настоящее имя, не так ли?
Берни даже не пожимает плечами. Он надеется, что Шустрик доберется до сути до того, как Батч Йеркса проснется, заметит кровавые следы, найдет тело Джорджетт Портер. Его, конечно, интересует рассказ Макстона, но он хочет добраться до «Черного дома» без особых помех. А Батч Йеркса скорее всего приложит все силы, чтобы его остановить.
Все еще полагая, что в игре в «кошки-мышки» кошкой является он, Шустрик улыбается старику в розовой рубашке.
– Сегодня мне звонил детектив из управления полиции штата. Сказал, что в банке данных ФБР опознали посланные туда отпечатки пальцев. Они принадлежат очень, очень плохому человеку, некоему Карлу Бирстоуну, который в розыске почти сорок лет. В 1964 году его приговорили к смертной казни за убийство малолетних детей, которых он и растлил, да только он удрал по пути в тюрьму, голыми руками убив двух охранников. И с тех пор как сквозь землю провалился. Сейчас ему должно быть восемьдесят пять, вот детектив и подумал, что этот Бирстоун – один из наших пациентов. Что ты можешь на это сказать, Чарльз?
Само собой, ни-че-го.
– Чарльз Бернсайд, конечно, не Карл Бирстоун, но некое сходство определенно присутствует, не правда ли? И у нас нет абсолютно никаких сведений о твоем прошлом. Так что ты у нас уникальный пациент. У каждого есть генеалогическое древо, а ты словно взялся из ниоткуда. Единственное, что нам известно, – твой возраст. Когда ты попал в центральную больницу Ла Ривьеры, то заявил, что тебе семьдесят восемь. То есть ты того же возраста, что и разыскиваемый преступник.
Бернсайд улыбается во весь рот:
– Отсюда вытекает, что я – Рыбак.
– Тебе восемьдесят пять лет, и я сомневаюсь, что ты можешь гоняться за детьми по всему городу. Но я думаю, что ты – Карл Бирстоун, и копам все еще хочется добраться до тебя. Теперь самое время обратиться к письму, которое я получил несколько дней назад. Я собирался обсудить его с тобой, но ты знаешь, какими суматошными выдались эти дни. – Он выдвигает ящик стола и достает листок, вырванный из блокнота. – «Де Пер, Висконсин» – таков адрес отправителя. Даты нет. «Кого это касается» – это адресат. А теперь само письмо: «С сожалением сообщаю, что больше не могу вносить ежемесячные взносы на содержание моего племянника, Чарльза Бернсайда». И все. Вместо росписи она напечатала свои имя и фамилию. «Элти Бернсайд».
Шустрик кладет листок на стол, разглаживает его.
– Так что происходит, Чарльз? В Де Пере никакая Элти Бернсайд не живет, это я знаю точно. И она не может быть твоей теткой. Сколько ей должно быть лет? Как минимум сто. А скорее сто десять. Я в такое не верю. Но чеки приходили регулярно, как часы, с того момента, как ты поселился в «Макстоне». Какой-то приятель, может, давний партнер, заботился о тебе, друг мой. И мы хотим, чтобы он продолжал заботиться, не так ли?
– Мне без разницы, подтиральщик. – Если это и правда, то не вся. Берни знает, что ежемесячные платежи каким-то образом организовал мистер Маншан, а если платежи прекращаются, ну… что заканчивается вместе с ними? Он и мистер Маншан работают в паре, не так ли?
– Вот этого не надо, – качает головой Шустрик. – Я жду от тебя совсем другого. Ты должен мне помочь. А заодно и себе. Ты же не хочешь, чтобы тебя сажали в камеру, снимали отпечатки пальцев, не говоря уже о том, что за этим последует. Лично мне не нужно, чтобы для тебя все так закончилось. Потому что настоящий плохиш во всей этой истории – твой друг. Мне представляется, что он, кем бы он ни был, забывает, что в прошлом ты оказал ему важную услугу, так? И теперь думает, что больше не обязан помогать тебе спокойно доживать свой век. Только это ошибка. Готов спорить, ты можешь прочистить ему мозги, объяснить, что к чему.
Детородный орган Берни, его шланг, помягчел и съежился, как проткнутый воздушный шарик, отчего настроение Берни только ухудшилось. С момента, как он вошел в кабинет этого склизкого воришки, он лишился чего-то очень важного: целенаправленности, всесильности, уверенности в себе. Он хочет побыстрее очутиться в «Черном доме». «Черный дом» вернет уму утерянное, ибо «Черный дом» – магия, черная магия. Вся горечь души Бернсайда вложена в его строительство, чернотой сердца пропитана каждая опора, каждая балка.
Мистер Маншан помог Берни увидеть возможности «Черного дома», внес немалую лепту в его сооружение. В «Черном доме» есть уголки, которые остаются для Чарльза Бернсайда загадкой, и его это пугает: в подземной части дома одно место связано с его тайным чикагским прошлым. Попадая туда, он слышит всхлипывания и жалобные крики сотен обреченных мальчиков, как и свои отрывистые команды и сладострастные стоны. Но по какой-то причине его прежние триумфальные победы нагоняют на него страх, он чувствует себя парией, а не господином. Мистер Маншан помог ему вспомнить масштабность его достижений, но от мистера Маншана нет никакого проку в другой части «Черного дома» – очень маленькой, состоящей из одной комнаты, вернее, из одного сейфа, в который упрятано его детство и куда он никогда, никогда не заходил. Один лишь намек на существование этой комнаты превращает Берни в младенца, оставленного замерзать на ветру.
Весть о предательстве Элти Бернсайд вызывает ту же реакцию, пусть и не такой силы. Это нетерпимо, он не желает это выносить.
– Да, – говорит Берни, – давай разберемся. Найдем выход из этой ситуации.
Он поднимается, и звук, доносящийся из центра Френч-Лэндинга, заставляет его ускорить свои движения. Это вой полицейских сирен, двух, а то и трех. Берни, конечно, в этом не уверен, но подозревает, что Джек Сойер нашел тело своего друга Генри, только Генри к тому моменту еще не умер и сумел сказать, что опознал голос убийцы. Джек позвонил в полицейский участок, и вот вам результат.
Шаг – и он уже у стола. Одного взгляда на бумаги достаточно, чтобы понять, чем занимался Шустрик.
– Двойная бухгалтерия, да? Ты не только подтиральщик, но еще и воришка.
За считаные секунды на лице Шустрика Макстона отражается едва ли не весь спектр человеческих эмоций: ярость, недоумение, замешательство, уязвленная гордость, злоба, изумление. И пока мышцы его лица пребывают в непрерывном движении, Берни достает из-за пояса секатор для подрезки живых изгородей. В кабинете они кажутся очень большими и еще более опасными, чем в гостиной Генри Лайдена.
Для Шустрика их лезвия – что косы. И когда Шустрик отрывает от них взгляд и смотрит на стоящего перед ним старика, то видит перед собой не человеческое – демоническое лицо. Глаза Бернсайда светятся красным, губы разошлись в жутком оскале, обнажив зубы, похожие на осколки разбитого зеркала.
– Не вздумай, приятель, – верещит Шустрик. – Полиция уже в холле.
– Я не глухой. – Берни втыкает одно из лезвий в рот Шустрика и смыкает их на потной щеке. Кровь льется на стол, глаза Шустрика вылезают из орбит. Берни тащит секатор на себя, из раны вылетают несколько зубов и часть языка. Шустрик пытается схватить секатор. Бернсайд отступает на шаг и наполовину разрезает правую кисть Шустрика.
– Черт, острые, однако, лезвия, – цедит он.
Макстон выскакивает из-за стола, заливая все кровью и истошно вопя. А Берни, прицелившись, вонзает секатор в обтянутый синей рубашкой живот Шустрика. Когда выдергивает лезвия, Шустрик стонет, валится на колени. Кровь хлещет из него, как вода из перевернутого графина. Его тянет к земле, он опирается на локти. Мотает головой, что-то бормочет, вроде бы просит оставить его в покое. Налитые кровью глаза поворачиваются к Чарльзу Бернсайду, в них – мольба о пощаде.
– Нашел кого просить. – Бернсайд смеется, наклоняется, охватывает лезвиями шею Шустрика и практически отрезает ему голову.
Сирены ревут уже на Куин-стрит. Скоро полицейские побегут по дорожке, ведущей к парадной двери, ворвутся в холл. Бернсайд оставляет секатор на широкой спине Шустрика и сожалеет, что у него нет времени справить малую нужду на тело, а большую – в голову, но мистер Маншан торопит: «Фремя, фремя, фремя».
– Я не дурак, тебе нет нужды поучать меня, – отвечает Бернсайд.
Выходит из кабинета, из комнатенки мисс Вайлес. Уже в холле видит перемигивающиеся «маячки» двух патрульных машин, припаркованных за живой изгородью. Остановились они недалеко от места, где он крепко сжал рукой шею Тайлера Маршалла. Берни чуть прибавляет шагу. Когда добирается до коридора «Маргаритки», двое полицейских с детскими лицами проламываются сквозь живую изгородь.
Батч Йеркса уже стоит у стола, протирает глаза. Смотрит на Бернсайда и спрашивает:
– Что случилось?
– Выметайся отсюда, – отвечает Берни. – Отведи их в кабинет. Макстон ранен.
– Ранен? – Вместо того чтобы сдвинуться с места, Батч таращится на залитые кровью одежду и руки Бернсайда.
– Иди!
Батч поворачивается к холлу, и когда молодые полицейские влетают в большие стеклянные двери, постер Ребекки Вайлес давно уже снят, Батч кричит, указывая направо:
– Кабинет! Босс ранен!
Пока Йеркса общается с копами, Чарльз Бернсайд протискивается мимо него. Мгновением позже входит в мужской туалет крыла «Маргаритка» и прямиком направляется к одной из кабинок.
А как там Джек Сойер? Мы уже знаем. Да, мы знаем, что он заснул на краю кукурузного поля, у подножия холма в западной части Норвэй-Вэлли. Мы знаем, что тело его становилось все легче, все больше напоминало клок тумана или облако. Потом потеряло очертания, стало прозрачным. Джек, разумеется, при этом спал. И во сне, это мы можем только предположить, видел небо цвета скорлупы яйца малиновки, которое раскинулось над поместьем на Роксбери-драйв, что на Беверли-Хиллз, где Джеки шесть, шесть, шесть лет или двенадцать, двенадцать, двенадцать, а может, и шесть и двенадцать одновременно, а папа клево играет на трубе, трубе, трубе («Плевать на этот сон», – сказал бы вам Генри Шейк, последняя мелодия альбома Декстера Гордона «Папа играет на трубе»). В этом сне все отправились в путешествие и никто не отправился куда-то еще, странник-мальчик заполучил главный приз, а Лили Кавано Сойер поймала шмеля в стакан. Улыбаясь, она вынесла стакан со шмелем за двери и выпустила его. Вот шмель и путешествовал в Запределье и обратно; во время его путешествий миры двигались своим загадочным курсом, соприкасались, содрогались, отталкивались, и Джек тоже путешествовал своим загадочным курсом в бесконечно синее, цвета скорлупы яйца малиновки небо, следуя за шмелем, возвращался в Долины, где и спал посреди затихшего поля. В том же самом сне Джек Сойер, человек моложе двенадцати и старше тридцати лет, сокрушенный горем и любовью, навещает некую женщину. И она ложится рядом с ним в постель из мягкой травы, и она обнимает его, и его благодарное тело познает блаженство ее прикосновений, поцелуев, благословения. Что они делали вдвоем в запредельных Долинах, нас не касается, поэтому мы и присоединяем наше благословение к благословению Софи и оставляем их блаженствовать в обществе друг друга, этих мальчика и девочку, этих мужчину и женщину.
Возвращение, естественно, сопровождается чистыми, насыщенными запахами земли и кукурузы, кукареканьем петуха на ферме кузенов Гилбертсона. Паутина поблескивает капельками росы возле покрытого мхом камня. Муравей ползет по запястью Джека, тащит травинку, изогнутую буквой V, в остром углу которой блестит и подрагивает крошечная капелька только что образовавшейся воды. Чувствуя себя дивно отдохнувшим, будто родившимся заново, Джек осторожно сбрасывает трудолюбивого муравья на землю, поднимается. Роса сверкает на его волосах и бровях. В полумиле от него, за полем, луг Генри раскинулся вокруг дома Генри. Тигровые лилии дрожат на холодном утреннем ветру.
Тигровые лилии дрожат…
Увидев капот своего пикапа, высовывающийся из-за дома, он вспоминает все. Мышонка, слово, которое дал Мышонку. Дом Генри, студию Генри, его предсмертное послание. К этому времени копы и эксперты уже должны уехать, залитый кровью дом опустеть. Дейл Гилбертсон и, возможно, детективы Браун и Блэк, наверное, сейчас ищут его. Детективы Джека не интересуют, а вот с Дейлом он хочет поговорить. Пора познакомить Дейла с некоторыми удивительными фактами. От этого глаза у Дейла, конечно же, полезут на лоб, но, как известно, не разбив яиц, омлета не приготовить. Так что Дейлу придется выслушать все, что скажет ему Джек, потому что его верность и решительность нужны Джеку в грядущем путешествии по «Черному дому».
Проходя вдоль дома Генри, Джек касается стены губами, целуя дерево. «Тебе, Генри. От всех миров, от Тайлера Маршалла, от Джуди, от Софи и от меня. Генри Лайдену».
Сотовый, оставленный в кабине «доджа», сохраняет три сообщения, все от Дейла, которые он стирает, не прослушивая. Дома на автоответчике мигает красная цифра 4. Джек нажимает клавишу «PLAYBACK». Четыре раза Дейл, голос которого все больше переполняет отчаяние, просит Джека Сойера сообщить о своем местонахождении и переговорить с ним о смерти своего дяди и его друга Генри, а также о резне в «Макстоне». Дейл также хочет знать, что известно Джеку о некоем Чарльзе Бернсайде.
Джек смотрит на наручные часы и, подумав, что быть такого не может, переводит взгляд на часы в кухне. Нет, наручные часы не сбились со счета. 5.42 утра, и хорек все еще ползает за амбаром Рэнди и Кента Гилбертсонов. Усталость вдруг наваливается на него, более тяжелая, чем гравитация. Кто-то, конечно же, дежурит в полицейском участке на Самнер-стрит, но Дейл наверняка спит в своей кровати, а говорить Джек хочет только с Дейлом. Он широко, словно кот, зевает. Даже газету еще не привезли!
Он снимает пиджак и зевает вновь, еще шире, чем в первый раз. Может, кукурузное поле не столь уж удобно для сна: шея Джека не поворачивается, спина болит. Он заставляет себя подняться по лестнице, бросает одежду на банкетку в спальне, плюхается в постель. Над банкеткой висит солнечное полотно Фэрфилда Портера, и Джек вспоминает, как отреагировал на него Дейл в тот день, когда они распаковывали и развешивали картины. Он влюбился в пейзаж, как только увидел его, возможно, для Дейла стало откровением, что произведение живописи может произвести на него столь сильное впечатление. «Ладно, – думает Джек, – если нам удастся выйти из «Черного дома» живыми, я подарю картину ему. И заставлю его ее взять: пригрожу порубить на куски и сжечь, если он откажется. Скажу, что иначе отдам ее Уэнделлу Грину!»
Его глаза уже закрываются, он заползает под простыню и исчезает, на этот раз только фигурально, из нашего мира. Ему снится сон.
Он идет по петляющей в лесу тропе, спускающейся по склону холма к горящему дому. Звери и чудовища ревут и воют по обе ее стороны, в основном не показываясь на глаза, но иной раз перед ним мелькают когтистые лапы, раздвоенные хвосты, перепончатые крылья. Их он отсекает тяжелым мечом. Рука болит, все тело ломит. Он теряет кровь, но не чувствует и не видит, где находится рана, знает только, что кровь медленно стекает по ногам. Люди, которые отправились с ним в поход, мертвы, и он сам, возможно, умирает. Он страшно сожалеет о том, что остался в полном одиночестве. Он в ужасе.
Горящее здание по мере приближения становится все выше и выше. Из него доносятся крики, по периметру стоят почерневшие деревья, дымятся пожарища. Периметр этот расширяется с каждой секундой, словно здание пожирает все живое. Все кончено: и горящее здание, и бездушное существо, которое одновременно его владыка и пленник, отпразднуют победу, оставшись одни в сожженном мире, аминь. Дин-та, великий огонь, сметает все на своем пути.
По его правую руку ветви деревьев гнутся, шелестят темными остроконечными листьями. Огромные стволы стонут, ветви переплетаются, создавая сплошную стену. Сквозь стену медленно, страшно медленно проступает серая, костлявая голова. Огромная, пять футов от подбородка до макушки, голова выдавливается из листьев, поворачивается из стороны в сторону в поисках Джека.
В голове все, что пугает его, вредит ему, желает ему зла как в этом мире, так и в Долинах. Лицо смутно напоминает ему человеческого монстра по имени Элрой, который пытался изнасиловать маленького Джека в захудалом баре Оутли, потом Джек различает в лице черты Моргана из Орриса, преподобного Гарденера, Чарльза Бернсайда… А голова продолжает слепо поворачиваться из стороны в сторону, и все эти злобные лица накладываются друг на друга и сливаются в одно. Страх обращает Джека в статую.