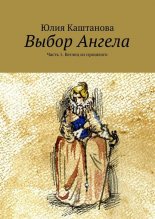Как я был в немецком плену Владимиров Юрий
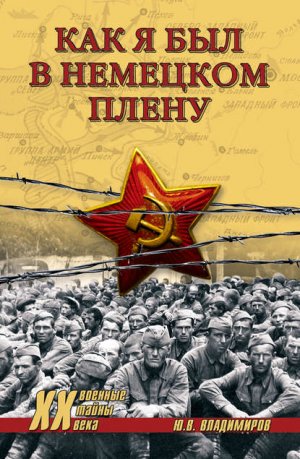
…К 24 часам пришла ночная смена, а мы пошли вверх по наклонному стволу. Так как его длина превышала 100 метров, этот путь был тяжелым. Но наши бойкие девушки проделали его очень легко – усевшись на нагруженные углем вагонетки, чем явно нарушили технику безопасности. Эти девушки в перерывах часто распевали украинские и русские песни, в том числе хулиганистые.
Выйдя из шахты, мы направились в баню. Через щели между досками, отделявшими мужское и женское отделение, мы не только видели друг друга, но даже могли пройти друг к другу. Сквозь пар, заполнивший всё пространство отделений, мы заметили Галю, пригласившую мужчин присоединиться к ним, «чтобы потереть друг другу спины». Услышав это, наш будущий крепильщик Василий Яхин тут же проник к Гале и обнял её. Но та быстро вырвалась из его объятий, схватила полупустой таз и… ударила им Василия по голове. С обеих сторон раздался громкий хохот, и мужчины сразу поняли, что девушки не позволят им «давать волю рукам». Василию ничего другого не оставалось, как извиниться перед Галей и, уложив ее на скамейку, своими большими лапами потереть пару раз с мылом и мочалкой спину Гале. Помывшись, я постирал нижнее бельё и, крепко отжав его, надел снова на себя.
После первого дня работы мы проснулись лишь часам к 9-ти. Надо было идти в буфет позавтракать. Однако я и Иван Утюк решили в первую очередь написать письма родным. Выйдя из почты, мы увидели женщин, торгующих молоком и кукурузной крупой. Такую крупу я увидел впервые в жизни, а украинец Иван сказал, что в детстве часто ел кашу, сваренную из неё. Поэтому мы решили купить эту крупу, но у нас не было тары. Поэтому мы снова забежали на почту и выпросили там две старые газеты. Купили и молока. Каша получилась очень вкусной. В первое время многие из нас тайком ходили на колхозное поле, чтобы украсть там картофель, пока его не убрали. Позже картофель приходилось покупать на рынке или у местных жителей. Покупали также початки кукурузы, лук, морковь и чуть ли не каждый день молоко. В шахтном буфете приобретали главным образом хлеб по своим, якобы хранящимся там нашим продовольственным карточкам, которых мы никогда не видели, и получали бесплатно положенный кусок сала. Нередко излишек хлеба мы меняли у местных жителей на другие продукты и на табак. Не могу еще не отметить, что ни разу за время своего проживания в посёлке мне не пришлось сесть хотя бы одно яблоко, не видел я и белого хлеба, сливочного масла, сыра и колбасы. Крайне редко в магазине появлялись печенье, пряники и даже самые простые конфеты. Но главная проблема заключалась в том, что приближалась зима, а у меня и у большинства товарищей не было никакой верхней одежды.
Недели через две после того, как отправил письмо родным, адресуя его маме Пелагее Матвеевне, получил от неё и брата Геннадия ответ. Читая его, зарыдал, как ребёнок, и долго не мог остановиться. В письме мои родные выразили огромную радость в связи с тем, что я жив и здоров. А Геннадий по этому поводу заметил: «Росло нас в семье четыре брата, трое из них были на войне – на фронте, и все мы остались живы».
Далее в письме сообщалось: мама здорова и по-прежнему работает в деревне учительницей; Геннадий в конце августа демобилизовался из армии из-за тяжелого ранения и работает в райкоме ВКП(б), средний брат Виталий служит на Балтийском флоте; младший брат Анатолий во время войны работал в колхозе, окончил педагогический техникум, стал работать учителем, а единственная сестра Инесса продолжала учиться в средней школе.
Родные просили меня сообщить, в чем я нуждаюсь, и обещали быстро прислать одежду, сухари и чувашскую колбасу – шортан. Так у меня появилась надежда встретить зиму в теплой одежде.
Из Винницы получил ответное письмо также Иван Утюк. Но полученная им весть оказалась ужасной: пока он находился в плену, в его родном городе действовала подпольная группа сопротивления немецким оккупантам, и в ней активное участие принимала горячо любимая Иваном его молодая супруга. Но подпольщиков кто-то выдал, и жена Ивана была повешена. В письме сообщалось также, что оба родителя Ивана живы и отец собирается приехать к нему, но пока это невозможно.
Иван после получения письма долго плакал и часто рассказывал товарищам о погибшей жене. Поделился Иван своим горем и с начальницей смены Ганной, очень хорошей и порядочной девушкой. Вероятно, из-за сочувствия горю своего подопечного, а также из-за того, что Иван внешне был хорош и стало точно известно, что он холост, Ганна «заимела на него виды». Они начали часто встречаться, вместе готовить еду и совместно питаться в общежитии.
Между тем с этого времени Иван заметно изменил своё отношение ко мне. Однажды я не обнаружил в своей тумбочке учебника немецкого языка и «Декамерона», а Иван раздраженно сказал: «Зачем они тебе теперь, ведь ты больше не в Германии и нечего сейчас заниматься немецкой писаниной! Забрали мы книги по моему предложению и разделили на части, чтобы использовать для курения. Оставили и тебе долю». С огромным усилием воли я сдержал себя и сказал: «Наверное, ты прав, Иван!»
Все товарищи расходовали деньги только на питание, которое в основном организовывали себе в общежитии, и на курево – в основном махорку. Главной пищей служил черный хлеб, приобретаемый ежедневно в буфете шахты. Пока почти никто у нас не употреблял спиртные напитки.
В выходные дни и в рабочие дни вечерами после ужина многие из нас выходили погулять и побеседовать с местными жителями, в основном с женщинами. Почти все они были вдовами, у которых мужья или умерли еще молодыми от силикоза, или погибли в шахте от несчастного случая, или сложили головы на фронте. Жили они на жалкие пенсии и пособия от государства и на продукты со своих огородов и крошечных земельных участков.
Были в поселке и девушки, вернувшиеся из Германии и не желавшие устраиваться на грязную работу на шахте, а другой работы для них не было. Особенно сложно было получить место в магазине.
Однажды, выйдя из общежития, я увидел на скамейке хорошо одетую девушку, рядом с которой стояли два молодых человека. Девушка мне сразу понравилась, и я нарочно прошёл мимо всей компании как можно ближе, сказав «Доброе утро!», и услышал в ответ те же слова от девушки. Было ясно, что и она обратила на меня внимание. Я сходил на почту, а когда возвращался, опять встретился с этой же девушкой у колодца, где она набирала воду. Мне не оставалось ничего другого, как помочь девушке, взяв у нее полное ведро.
Оказалось, эта девушка приехала только вчера. Звали ее Ольгой. В домике в это время находились два её брата – Васёк лет 12-ти и Витёк лет 10-ти и мать, которую соседи звали Емельянихой. С ней я уже не раз встречался по пути на работу и здоровался. Все они жили на деньги еще одного члена семьи – девушки лет 18-ти по имени Нюся. Она трудилась на шахте сортировщицей угля. Мать Ольги подробно расспросила меня о моих родных и особо поинтересовалась моим заработком. Я ушел, получив приглашение заходить к ним почаще. И с этого дня я стал регулярно видеться с Ольгой, не допуская по отношению к ней никаких вольностей, которые неизбежны между симпатизирующими друг другу молодыми мужчиной и женщиной. Кажется, это удивляло мою собеседницу.
Постепенно узнал от Ольги о её семье. Оказалось, она русская родом из деревни в Курской области. В 1929 году семью раскулачили, и отец со своими братьями приехали и устроились работать в шахте. Построили хаты. Однако в конце 30-х годов отец и его братья умерли от силикоза, и семья стала жить очень бедно. Ольга проучилась в школе только 7 лет. В конце лета 1942 года немцы увезли ее в Германию, откуда она и возвратилась и, конечно, еще нигде не работает.
В октябре 1945 года важным событием для меня и других бывших пленных стало получение временных – на один год – военных билетов. С этих пор мы стали считаться демобилизованными (уволенными в запас). Этот документ был пока единственным, удостоверяющим нашу личность. В том же месяце я получил несколько писем от родных, и мне так захотелось скорее уехать домой. Моё желание еще более усилилось после второй скверной выходки Ивана Утюка. Перед своим выходным днём он возвратился поздно ночью и начал шуметь и громко петь. Из-за этого мы проснулись и никак не могли уснуть. Не выдержав, я попросил Ивана лечь спать, так как всем нам предстояло рано вставать и идти на работу. Но в ответ услышал от Ивана страшную брань. Иван кричал, что я «не имею теперь права им командовать, как раньше у немцев, у которых был холуём и измывался над пленными, и что меня за это надо судить и повесить». Галиев и Юров соскочили с постелей и быстро раздели и уложили Ивана на койку, и вскоре он уснул. На следующий день, когда мы вернулись с работы, отрезвевший Иван извинился перед нами за вчерашний поступок, заявив, что вообще не помнит, о чем говорил. Это, конечно, не избавило меня от мыслей, что Иван может повторить нечто аналогичное, если не худшее.
Посетив очередной раз почту и просмотрев на ней несколько центральных газет, я наткнулся на единственно возможный для себя выход из положения – в одной из них писалось, что тысячи демобилизованных военных – бывших студентов вузов и техникумов возвратились на учёбу. Кроме того, отмечалось, что в учебных заведениях отменена плата за учёбу и теперь все успевающие студенты получают стипендию. И тут я подумал, ведь я тоже бывший студент, и, поскольку у меня сохранилась зачётная книжка, вопрос только в том, что я был в плену. Поэтому написал письмо во Всесоюзный комитет по делам высшей школы Совета Министров указав, что в октябре 1941 года добровольно, с IV курса Московского института стали ушел в армию, воевал, но в мае 1942 года в большом окружении попал к немцам в плен. Хочу знать, могу ли я тоже вернуться на учёбу в свой институт. Примерно через месяц пришел ответ: «После прекращения Вашей службы в Красной армии и при отсутствии поражения в правах Вы будете иметь возможность продолжить свою учёбу в Институте стали. Зав. Отделом тяжелой промышленности Г. М. Фомин». Поскольку учебный год 1945–1946 уже давно начался, можно было рассчитывать лишь на следующий учебный год.
Проработав ночью в забое с 4 на 5 ноября и поспав с утра, я, как всегда, отправился после обеда на почту, но сначала зашел к слесарям, чтобы сменить или переточить затупившиеся коронки. Подойдя к шахтоуправлению, увидел толпу женщин и мужчин, которые смотрели на прикрепленный к столбу большой красочный плакат с фамилиями передовиков труда. К великому удивлению, я заметил и свою фамилию. Оказалось, что к 7 ноября я выполнил норму на 150 процентов и заработал в октябре 1750 рублей – немалые деньги.
Среди женщин, смотревших на плакат, были также мать Ольги Емельяновой и её сестра Нюся, которые похвалили меня и, как бы шутя, сказали, что за это с меня полагается. Поэтому, отработав ночь на 7 ноября, который был объявлен Днем повышенной добычи угля, я занес к Емельяновым полученные в буфете шахты кусок сала и всю порцию хлеба. Они оказались очень рады этому и предложили мне чарку самогона, но я отказался и отправился спать. В дальнейшем я часто приносил им излишек хлеба.
Ноябрь и декабрь 1945 года запомнились мне тем, что многих мужчин из общежития увели жить «примаками» местные молодые женщины – вдовы и девушки. Из нашей комнаты первым подался к молоденькой и интеллигентной русской девушке, проживавшей с матерью, по-видимому, бывшей учительницей, татарин Галиев, хотя он и был малограмотен и даже не мог как следует говорить по-русски. Ожидалось, что вот-вот уйдет от нас к Ганне и Иван Утюк. Но этого не произошло из-за внезапно изменившейся ситуации. Однажды вечером мы увидели, как мимо нашего общежития проехала телега, на которой с большим багажом сидела очень красивая и хорошо одетая девушка. Ивана потрясла эта девушка, которая, по его словам, лицом и комплекцией показалась ему очень похожей на покойную жену. Поэтому на работе он подробно расспросил о девушке её отчима. Тот сказал, что падчерицу зовут Люба. Как и многие девушки, она была депортирована в Германию и сейчас возвратилась с множеством хорошей одежды и другого добра. Теперь её следовало устроить на работу или выдать замуж за «хорошего», много зарабатывающего и красивого парня. Тут же договорились, что Иван придет в хату отчима девушки и он познакомит молодых людей друг с другом. Скоро Иван и Люба поженились и устроились в отдельной комнате хаты отчима. Я иногда заглядывал к молодым по приглашению их самих или дяди Любы, эрудированного человека, которому я почему-то понравился и с которым мы часто беседовали о жизни, о текущей политике и о других вещах. Пристроился жить у учительницы-вдовы и мой соплеменник – Роман Никитин. К наступлению Нового, 1946 года в нашей комнате остались только я, Юров и Силаев. И жизнь в общежитии, где не было ни радио, ни книг, ни газет, ни шахмат или шашек, ни кино после ухода соседей, стала для нас еще более скучной и унылой.
В третьей декаде ноября я, к великой радости, получил от мамы увесистую посылку. В ней были: теплая фуфайка, старая мохнатая шапка отца, которую я отдал в Москве дедушке Матвею, отправляя его на родину, красноармейская гимнастёрка, принадлежавшая брату Геннадию, его же суконные брюки навыпуск и по паре шерстяных носков, рукавиц и теплого нижнего белья. Кроме них в посылке находился большой комок оригинальной чувашской колбасы-шортана. Такая колбаса могла храниться долгое время даже при плюсовой температуре. Кстати, эта посылка дошла до меня всего за 5 суток.
В свои свободные часы я продолжал встречаться с Ольгой. Я чувствовал, что она ждет от меня главным образом не просто разговоров, а нечто другого, определяющего её дальнейшую жизнь. Она даже сказала: «Вот, ребята ходят ко мне и один из них просит моей руки, но я не знаю, как ему ответить. А ты молчишь, хотя всё зависит от тебя». Разумеется, я тоже тянулся к ней, но сделать решительный шаг воздерживался, рассчитывая на лучшее будущее, чем жизнь в унылом шахтёрском посёлке. Мне хотелось стать инженером, а это требовало, чтобы я пока оставался холостым. К тому же было ясно, что у нас нет настоящей любви друг к другу. Но так продолжаться больше не могло, и скоро я поступил, как часто бывало, по принципу – «куда кривая выведет».
Глава IV
Наступил Новый, 1946 год. 31 декабря прошло буднично – никаких ёлок, застолий и поздравлений друг другу. Мне и двум соседям по комнате пришлось поспать и 1 января успеть на работу к 8 часам. Работы в январе проходили как обычно. В январе неожиданно пришло с родины теплое письмо от Ани Сабаевой, учившейся со мной в средней школе в селе Батырево и в 1941 году окончившей в Москве университет (МГУ).
Вечером 21 января, отработав дневную смену, помывшись и переодевшись в бане, перекусив в буфете, я решил сбегать в домик Емельяновых под предлогом отдать им лишний хлеб и заодно пообщаться с Ольгой. Их домик был разделен посередине на две комнаты, не имевшие дверей, вместо которых была занавеска.
Когда я зашёл, Ольга сидела за столом и при свете электрической лампочки что-то шила, время от времени подкладывая уголь в печку, на которой в большом чайнике кипятилась вода. Мы были одни. Я уселся на табуретке рядом с Ольгой, и наступило молчание. Вдруг она спросила: «А знаешь ли ты, что все женщины вокруг говорят, что мы с тобой уже давно… живём»? Я не сразу понял, что означает последнее слово. Потом сообразил и ответил: «Раз так, так пусть они будут правы!» И Ольга, встав из-за стола, тут же погасила лампочку. Меня поразило, что Ольга явно имела сексуальный опыт. Оказалось, что она приехала из Германии на грузовике с шофёром, находясь у него на положении жены. Когда в дом возвратились родственники, Ольга сообщила матери о нашем намерении быть вместе. Та, конечно, одобрила наше решение.
Придя на следующий день с работы в общежитие, я увидел, что мои койка и тумбочка пусты, нет также сумки с вещами и вообще ничего из моих вещей. Юров сообщил, что их вместе с братьями унесла Ольга. Признаться, это сообщение Юрова меня огорошило – я не ожидал, что всё случится так быстро. Пришлось отправиться в домик к Емельяновым. Они встретили меня радостно и сразу посадили за стол. На ужин был очень вкусный борщ и второе с мясом и горячей картошкой вместе со стаканом самогона. Самогон одновременно выпили и Ольга с матерью, пожелавшей нам счастья. Этот ужин, по-видимому, был для меня и Ольги нечто вроде нашей свадьбы. Отныне я стал звать мать Ольги мамой.
Ольга объяснила мне, что питаться я буду теперь дома, и для этого приносить положенные мне хлеб, сало, сахар и другие продукты. Зарабатываемых мною денег должно хватить на двоих, да еще что-то может оставаться. Из этого остатка сможем оплачивать своё проживание в домике матери Ольги, пока не найдем себе другое место. Но мы не пытались его искать, а деньги, которые Ольга платила за наше проживание, мать вполне устраивали.
Теперь мои бытовые условия значительно улучшились – главное, не было больше забот о питании и стирках. Спал на мягкой кровати с чистым бельём и милой молодой женщиной, доставлявшей мне каждый раз перед сном особое удовольствие, хотя ночами этому часто мешало присутствие её сестры, спавшей на своей кровати против нас.
В январе я заработал больше всего денег – около 2300 рублей, и все их отдал Ольге. Однако с февраля моя привычная работа внезапно прервалась – меня назначили подменным бурильщиком. Отныне я должен был работать во всех трех сменах и на обоих участках шахты, подменяя шесть основных бурильщиков в их выходные дни. Получилось так, что я спускался в шахту в два дня, а после этой смены оставался еще работать в вечернюю и еще через два – в ночную. И, таким образом, свободными у меня бывали только 8 часов между тремя сменами. Подменной запальщицей со мной была Геля. Кроме того, ко мне прикрепили молоденького ученика из местных жителей, за которого мне тоже платили небольшие деньги. Ученика я использовал дополнительно для обеспечения нас качественным режущим инструментом, поручив перед работой заходить к слесарям. Работа подменным шахтером позволила мне чаще бывать с Ольгой в дневное время, когда мы в домике оставались одни, чему бывали очень рады.
В феврале я работал наиболее интенсивно, и следствием этого явилось то, что у меня страшно распухло колено. Пришлось пойти в медсанчасть посёлка. Врач сказал, что это бурсит и что излечиться от него можно только длительным покоем и теплыми повязками. Поэтому врач освободила меня от работы, выписав больничный лист сначала на одну неделю, а потом продлевала его еще.
Чтобы получить деньги по больничному, пришлось вступить в профсоюз. Все первичные профсоюзные организации много занимались тогда социалистическим соревнованием работников. Соревновались шахта с шахтой, участок с участком, смена со сменой и даже шахтер с шахтером. Нас заставляли принимать и выполнять «социалистические обязательства», что фактически требовалось только для отчета перед партийным руководством. Мне на шахте, как подменному шахтеру, соревноваться почти ни с кем не пришлось.
Пока из-за болезни меня не было на работе, на обоих участках шахты произошло по одному несчастному случаю: в результате обрушения кровли погибли и сильно поранились несколько крепильщиков, навальщиков и бутчиков, в основном из незнакомых мне бывших военнопленных. Погибших, даже не обмыв их тела, и в отсутствии родных, тихо похоронили в рабочей одежде на кладбище посёлка.
В этом же месяце я написал письма нескольким товарищам по германскому плену. Первым ответил донской казак Саша Гуляченко, проживавший совсем недалеко от нашего посёлка. А к письму была приложена записка его 20-летней сестры, которая написала, что брат очень много рассказывал ей обо мне и о том, какой я «хороший парень». Она благодарила меня за брата и просила разрешения самостоятельно приехать ко мне, чтобы привезти для меня продукты питания и познакомиться со мной.
Письмо без меня прочитала Ольга, и ей очень не понравилась приложенная записка. Когда на следующий день я собрался сходить на почту, чтобы написать и отправить Саше письмо, Ольга вдруг задержала меня и сказала, что она и Нюся уже ответили Сашиной сестре, сообщив ей, чтобы она не имела на меня виды, так как я женат и жена беременна. Поступок Ольги сильно возмутил меня, но делать было нечего, и мне пришлось прекратить переписку с другом.
В апреле не успел я поработать и неделю, как моё колено снова угрожающе распухло, и мне пришлось опять «сесть на бюллетень». Врач почему-то подумала, что я каким-то образом сам вызываю опухоль на колене. Настроение мое от этого резко ухудшилось. От отчаяния я решил написать в Министерство черной металлургии (МЧМ) СССР на имя министра И. Ф. Тевосяна письмо с запросом, могу ли я быть восстановленным как студент в Московском институте стали. Через день я отправил другое аналогичное письмо – в институт, приложив к нему зачётную книжку и две фотографии. В тот же день в шахткоме я получил сообщение, что, как и всем новым шахтёрам, мне предоставляется участок земли площадью, кажется, 8 соток. Эта новость очень обрадовала Ольгу, и особенно её мать, так как семья приобретала даром еще один источник существования. И в следующий теплый и солнечный день мы отправились с лопатами на поле, где нам выделили земельный участок с хорошей почвой, не нуждавшейся в удобрениях. В это же время руководство шахтоуправления стало предоставлять участки земли для строительства жилья.
15 апреля, когда срок моего больничного листа закончился, а колено по-прежнему оставалось сильно опухшим, я снова обратился к тому же врачу. Но на этот раз она отказалась продлить бюллетень и даже не посоветовала мне, как лечиться, обозвав меня «членовредителем» и «симулянтом». Ничего другого не оставалось, как продолжить работу до самого увольнения из шахты в конце июля 1946 года. Хорошо еще, что колено почти не мешало мне при ходьбе, а при работе я старался его беречь.
Майские праздники неожиданно омрачились из-за того, что мои бывшие соседи по общежитию Юров и Силаев вдруг исчезли. На столе они оставили записку, что якобы «с разрешения своего начальника смены» уехали на неделю в Пензенскую область, чтобы проведать семьи, которые не видели более 7 лет. Это вызвало в шахтоуправлении переполох, так как начальник смены не давал им никакого разрешения на отлучку. Тогда из районного отдела внутренних дел срочно послали на родину Юрова и Силаева двух вооруженных сотрудников, которые вскоре вернули обоих беглецов и заключили их в тюрьму в Свердловске, а через неделю состоялся суд, который приговорил бедняг к 7 годам лишения свободы. Об этом всех бывших пленных известили, чтобы мы не последовали примеру осужденных.
9 мая – в первую годовщину Дня Победы над Германией погода выдалась солнечной и теплой. В этот день я должен был работать в вечерней смене. Утром, поздравив с праздником Ольгу и её родных, я пошел проведать и поздравить бывшего товарища по плену Ивана Утюка, хотя и был на него немного в обиде. Зашёл к нему и поздравил его и жену Любу, её мать и брата матери. Но они так просто меня не отпустили – пришлось с ними выпить по рюмке самогона.
10 мая мне предстояла работа в ночной смене, благодаря чему я провел почти всё дневное время вместе с Ольгой, её сестрой Нюсей и матерью, возделывая недавно полученный участок земли. А к вечеру мне принесли долгожданное письмо из Москвы, на конверте которого был штамп Министерства черной металлургии (МЧМ) СССР. Оно оказалось адресовано директору Московского института стали им. И. В. Сталина, а копия предназначалась мне. Министерство направляло мое заявление для рассмотрения и принятия мер в институт и о решении просило сообщить в главное управление учебными заведениями указанного министерства.
Наконец 22 мая пришло письмо из Московского института стали. Меня извещали, что приём на учёбу в институт и высылка вызовов будет проводиться в августе месяце. Так что опять мне и дальше пришлось жить в тревожном ожидании решения своей участи.
В это же время моя Ольга вдруг занемогла – заметно похудела, совсем перестала есть, только пила и не подпускала меня к себе. Её сестра Нюся тайком сообщила мне, что Ольга приняла какое-то «снадобье» у местной знахарки, чтобы избавиться от беременности, и ей это удалось.
В конце мая в шахте погибли мой хороший знакомый бутчик Савельев из-под Харькова и его напарник. Говорили, что при бурении кровли откололись большие куски породы и упали им на головы. Положив их в простые гробы, вызвали телеграммой их родных. Через двое суток на похороны приехали отец и мать Савельева. Они не плакали и молча сидели на стульях перед телом единственного сына, которого не видели с 1941 года. Товарищей тихо и без цветов похоронили на посёлковом кладбище.
Второе событие было в какой-то мере радостным: паспортный стол Свердловского районного отдела внутренних дел выдал нам удостоверение личности, заменяющее паспорт. Однако оно было действительно лишь на полгода и только в пределах Свердловского района. В нем указывалось, что мы прибыли в этот район из рабочего батальона. В тот же день я получил письмо от мамы с сообщением, что брат Виталий еще в конце апреля демобилизовался из Военно-морского флота и возвратился домой, где теперь не хватает только меня.
По-видимому, то ли из-за гибели Савельева и его напарника и раньше – других шахтеров, то ли по иным причинам уволили в начале июня заведующего шахтой, а вместо него назначили другого человека – относительно молодого и энергичного украинца, явно невзлюбившего бывших пленных, считая их изменниками Родины.
С 15 на 16 июня на втором участке шахты, заканчивая работать в ночной смене, я подвергся смертельной опасности. Как только Геля заложила взрывчатку в первую бурку, внезапно затрещали деревянные стойки, что предвещало начало обрушения кровли. Мы попытались поскорее уйти вниз к другим забойщикам, но не успели – кровля начала с грохотом рушиться. От сильного потока воздуха у нас внезапно погасли лампы, и мы остались в полной темноте. Геля не сумела найти ощупью коробку спичек, а я их не имел.
Я совсем растерялся и шепотом начал просить своих покойных отца, дедушек, бабушек и сестрёнку помочь мне, но Геля тут же взяла меня за руку и повела назад в бутовое пространство. Мы шли очень медленно, часто спотыкаясь о куски породы, а они продолжали падать и спереди и сзади.
Наконец, Геля сказала, что мы у «лаза». Она влезла в него, а я за ней, и так мы выбрались в опустевший верхний штрек, где остановились и отдохнули. Мне вдруг захотелось спать. Геля сказала, что надо идти дальше. Можно было направиться либо к шурфу вентиляционной установки, либо к наклонному стволу. Решили, что ближе – к наклонному стволу. Двигаться пришлось почти на карачках.
Внезапно кто-то дернул меня за конец штанины. Я протянул руку и вдруг почувствовал укус. Я невольно закричал. Геля сразу сообразила, что со мной произошло. «Это крысы, – сказала она, – отталкивай их ногой!» В некоторых местах по штреку текла вода, в результате чего мы насквозь промокли и начали сильно мерзнуть. Но наконец мы увидели свет в конце штрека и добрались до наклонного ствола, а по нему выбрались из шахты, пробыв там около 20 часов. До следующей смены у нас оставалось 8 часов, чтобы утолить голод, отдохнуть и прийти в себя.
Руководство шахты после случившегося сразу направило в забой команду спасателей, и несколько забойщиков были спасены. Получивших ранения различной тяжести направили в медсанчасть. К счастью, никто не погиб. К началу вечерней смены в забое пошла нормальная работа. Товарищи и начальство обрадовались тому, что мы сами спасли себя, и поздравили нас. А у меня возник вопрос: «Доживу ли я из-за возможных других аварий до того дня, когда получу весть из Москвы?» Не выдержав, я написал директору института еще одно письмо, в котором прямо спрашивал, буду ли я восстановлен студентом, и если да, то нельзя ли в порядке исключения вызвать меня раньше, чтобы я успел уволиться с работы и подготовиться к приезду в институт.
15 июля мне досталось работать в дневную смену. Но работа не сладилась – часам к 14-ти в забое начали потрескивать стойки, но крепильщики продолжали работать, ставя дополнительные стойки, а навальщики заканчивали сбрасывать на рештаки массу угля, взорванного накануне. Однако к 15 часам даже некоторые стойки стали ломаться, поэтому поступила команда всем покинуть забой.
Вместе с учеником, которого мне дали еще 20 июня, я успел спустить в штрек бормашину и аккуратно свернул кабель. Но как только я это сделал, большая часть кровли рухнула.
Дома, только мы уселись обедать, как зашла соседская девочка и сказала, что меня просят сейчас же зайти в хату, где живет Иван Утюк. Оказалось, дядя его жены принес для меня заказное письмо. Письмо было официальным, присланным из «Московского ордена Трудового Красного знамени Института стали имени И. В. Сталина Министерства черной металлургии СССР». С трепетом я раскрыл конверт и прочитал буквально следующее: «Гр-ну Владимирову Ю. В. На Ваш запрос от 25 июня с.г. сообщаем, что приказом по Институту от 5 июля с. г. № 348 Вы зачислены в число студентов третьего курса Технологического факультета. Выписка из приказа прилагается. Директор Института В. П. Елютин».
Это письмо, как подарок, пришло ко мне за три дня до моего дня рождения. Позднее меня осенила мысль, что друживший со мной дядя Любы вполне мог быть человеком, уполномоченным тайно просматривать на почте переписку бывших пленных. Поэтому, наверное, и получилось так, что заказное письмо вручила мне не девушка-письмоносец, как обычно, а этот мой друг. Он дал мне хорошей бумаги, на которой я написал заявление заведующему шахтой с просьбой уволить меня на основании зачисления в институт.
Глава V
16 июля я оделся как обычный гражданин в выходной день, взял письмо из Москвы и заявление заведующему шахтой, с которыми и пришёл в контору. Начальника шахты на месте не оказалось, не было и начальника участка. Поэтому я подошёл к заведующей личным столом и одновременно табельщице Людмиле, с которой в это время разговаривал Литус – начальник смены. Оба от души поздравили меня с вызовом в институт стали и сказали, что «по-белому» завидуют мне. Литус, бывший военнопленный, заметил, что после меня, может быть, и другим удастся обрести полную свободу. А Люда сказала, что тоже мечтает поступить в институт и, может быть, устроится на заочное отделение. Кончились наши разговоры тем, что Люда взяла и… вычеркнула меня из списка шахтного персонала. Об этом мы как-то не подумали, что заведующий шахтой может и не уволить меня в тот же день, и если я сразу не выйду на работу, то буду прогульщиком и меня сурово накажут, как бедных Юрова и Силаева. Мне удалось уволиться лишь через неделю, а Люда скрыла мои фактически шесть прогулов.
…Уходя из конторы, я предупредил Литуса, что вместо меня будет работать бурильщиком мой ученик, который уже хорошо освоил специальность. Затем я отправился в шахтоуправление, зашел в приемную и просидел там, ожидая заведующего шахтой и беседуя с пожилой секретаршей, почти час. Наконец он появился, и не успел усесться за стол, как я протянул ему заявление с приложенными к нему письмами из института. Он бегло взглянул на документы, сурово поглядел на меня и неожиданно… закричал: «Ты, сволочь, изменник Родины! Отсиделся в войну у немцев, а теперь хочешь на свободу! Не быть этому! Вон отсюда!» И так, швырнув мне назад мои бумаги, выгнал меня из кабинета…
Дома встревоженная Ольга попыталась меня успокоить, предложила пообедать, а потом мы решили, что завтра мне надо отправиться в Свердловск, найти там управление трестом «Свердловуголь» и попасть на приём к директору, которого нужно попросить, чтобы он заставил своего подчиненного отпустить меня на учёбу.
…В отличие от заведующего нашей шахтой директор треста оказался очень вежливым и внимательным человеком. Он сразу усадил меня на кресло рядом со своим большим столом и, просмотрев мои бумаги, побеседовал со мной, задавая вопросы. Он сказал, что после войны государство как никогда остро нуждается в инженерах, чтобы поднять страну. После этого написал на моём заявлении резолюцию: «Тов. Конюшенко. Прошу срочно уволить тов. Владимирова. Директор треста “Свердловуголь”. Подпись. 17 июля 1946 года».
Выйдя из здания управления трестом, я почти бегом добрался до своего посёлка и часам к 16-ти вбежал в приёмную, но заведующего шахтой уже не было на месте. Утром 18 июля, совсем забыв, что это мой день рождения, я снова появился в кабинете заведующего шахтой. Увидев резолюцию, сказал: «Всё равно я тебя не уволю – у меня на обеих шахтах большая нехватка людей, а планы надо выполнять. Так что иди и работай!» По дороге домой мне пришла идея – завтра снова отправиться в Свердловск и на этот раз обратиться к районному прокурору с жалобой на заведующего шахтой.
Утром я проник в кабинет районного прокурора, растолкав других посетителей, и остолбенел, увидев, что прокурором оказался не мужчина, а очень симпатичная женщина лет 30-ти. Я вспомнил, что видел ее в нашем посёлке, когда за прогулы уводили в суд Юрова и Силаева. Наверное, именно по требованию этой женщины с ними поступили очень сурово. Поэтому я сначала испугался её, но быстро успокоился, когда она вежливо попросила меня сесть в кресло перед своим столом. Я объяснил, в чем заключается моя проблема, и она написала на моём заявлении: «Тов. Конюшенко. Увольте тов. Владимирова. Прокурор Свердловского района. Подпись. 19 июля 1946 года».
20 июля я снова, уже в третий раз, появился в кабинете заведующего шахтой и пригрозил ему, что в случае отказа буду жаловаться московскому начальству. Но заведующий и на этот раз оказался почти неумолим, хотя все же написал на моем заявлении: «Уволю 27 августа 1946 года. Подпись. 20 июля 1946 года».
Позднее я удивился, как это заведующий шахтой не догадался поинтересоваться, бываю ли я на работе. Вполне законно он мог бы расправиться со мной за прогулы.
«Хитроумная» резолюция заведующего шахтой на моем заявлении меня совсем не устраивала: освободившись только 27 августа, я не успел бы приехать вовремя к началу учебного года, а тем более повидаться с мамой, братьями и другими близкими, которых не видел более шести лет.
Весь воскресный день, 21 июля, когда служащие отдыхали, я провел с Ольгой и её семьёй на огороде, а утром поспешил к прокурору и показал ей заявление с неприемлемой для меня резолюцией начальника. Но, к великому моему разочарованию, она сказала мне: «Чем же Вы недовольны? Он же написал, что уволит Вас к началу учебного года. Так что подождите!»
Возвращаясь в посёлок, я вдруг сообразил, что у меня еще есть время, чтобы зайти к директору треста. Народа в приёмной было мало, и я быстро попал в кабинет к директору. Положил на стол свое испещренное резолюциями заявление и сказал директору, что заведующий шахтой отказывается удовлетворить просьбу о моём увольнении даже при наличии санкции прокурора. Директора это неподчинение разозлило. Нажатием кнопки на столе он вызвал секретаршу и попросил её срочно соединить его с заведующим нашей шахтой, но его не оказалось на месте. Тогда директор на оставшемся свободном месте заявления написал следующее: «Тов. Конюшенко. Задерживать студентов старших курсов не имеете права. Директор треста. Подпись. 22 июля 1946 года». Поблагодарив директора, я ушел от него, полагая, что и в телефонном разговоре с заведующим шахтой он потребует от него моего немедленного увольнения.
Когда 23 июля рано утром я со своими бумагами оказался в кабинете заведующего шахтой, он молча в самом низу заявления написал: «В отдел кадров. Оформите увольнение с сегодняшнего дня. Подпись. 23 июля 1946 года». Затем сказал: «Оставь в отделе кадров копию приказа о зачислении тебя студентом».
Весть о том, что бывший военнопленный уволился с работы и уезжает учиться в Москву, очень быстро стала известной служащим шахтоуправления. Но мне еще предстояло сняться с учета в военном комиссариате и выписаться в паспортном столе районного отделения милиции, а это тоже получилось не сразу.
Наконец вечером за ужином мы обсудили с Ольгой и с ее матерью дальнейшую жизнь мою и Ольги. Я сказал, что собираюсь поехать в деревню и обговорить с матерью и братьями возможный приезд туда Ольги. Но в деревне ей пришлось бы работать только в колхозе, ведь дома ничего своего я не имею. В Москве мне предстоит жить на небольшую стипендию и на деньги матери. Итак, оставался один вариант: Ольге надо устроиться на работу, а я буду приезжать на каникулы. После окончания института мы поедем туда, куда меня направят работать.
Утром 25 июля я сходил в контору, где заведующая личным столом Люда написала мне и подписала у начальника шахты справку следующего содержания: «Дана Владимирову Юрию Владимировичу в том, что он действительно работал при шахтоуправлении № 48 треста “Свердловуголь” с 13 – IX – 45 г. по 23/VII – 46 года в качестве бурильщика. Уволился в связи с выездом на учёбу в институт стали им. Сталина. Справка дана для предъявления по пути следования в Казань». Казань находилась за Канашем, но я стеснялся назвать скромную станцию, куда я направлялся на самом деле.
Я собирался выехать 28 июля. Но внезапно этому воспрепятствовала мать Ольги, потребовавшая, чтобы мы с Ольгой сходили в посёлковый совет и зарегистрировали свой брак. Я, конечно, не стал возражать. Но когда мы пришли в посёлковый совет, оказалось, что в совете нет необходимых бланков, и неизвестно, когда они будут. Попросили зайти примерно через неделю.
Но Ольга совсем не расстроилась и неожиданно сказала: «Значит, не судьба нам быть женой и мужем. Я всё равно довольна, что пожила с тобой. Наверное, такого мужчину, как ты, я уже не найду. Спасибо тебе! Не расстраивайся! Всё равно дальше ты не стал бы со мной жить – ты будешь инженером, а я простушка и окажусь для тебя помехой!» От этих слов Ольги я едва не заплакал, – так стало ее жалко.
Сообщение о том, что Ольге и мне не удалось зарегистрироваться, очень огорчило её мать; она с трудом сдержала слёзы, запричитав: «Видимо, и Господь Бог против вашего брака». Потом, усадив всех за стол, добавила: «Ну, ладно, пусть этот обед будет прощальным, – и попросила меня: – Пожалуйста, не забывай нас совсем!»
Глава VI
2 августа 1946 года я, с очень большими трудностями в пути, добрался до родной деревни. Шел по знакомой улице и вдруг увидел двух девушек в русской одежде, катящих мне навстречу двухколесную тележку, а за ними с вилами на плече юношу, как мне показалось, своего брата Геннадия. «Геннадий, Геннадий!» – закричал я. А тот неожиданно ответил: «Нет, нет, я не Геннадий. Я – Толя, Толя!» Это оказался мой младший брат, сильно выросший и возмужавший за годы моего отсутствия. Толя тоже не сразу сообразил, что я его старший брат. Затем Толя подозвал младшую девушку, назвав ее Инессой. Это была наша сестра, которая тоже очень сильно выросла. А следующая девушка – Дуня оказалась женой брата Геннадия. После такой встречи я заплакал и никак не мог сразу остановиться и Толя меня успокаивал.
Поскольку Толе надо было ехать в поле за травой для коровы и с ним отправилась Инесса, я пошел домой один. Навстречу мне из сеней вышел юноша, выше меня и шире в плечах, одетый в морскую форму, в котором я признал второго брата – Виталия. Мы обнялись, и я опять заплакал: все было как во сне – не верилось, что я наконец дома.
Затем, не заходя в избу, я скинул со спины вещевой мешок и предупредил Виталия, что должен снять с себя нижнее белье, а также гимнастерку, так как в них водятся вши. Виталий разыскал и принес мне свежее бельё. После этого я помылся и вошёл с дрожью в коленях в переднюю избу, где опустился на колени перед большим фотопортретом отца и поблагодарил его за то, что я не погиб на войне, целым и невредимым вернулся домой.
Мамы дома не оказалось. Не зная о моем приезде, она по путевке уехала в санаторий, куда ее уже не раз отправляли, чтобы подлечиться от туберкулеза.
…Я вышел из избы и направился к саду. Его вид очень огорчил меня: из 20 яблонь, посаженных еще в конце XIX века дедушкой, не осталось ни одной. Деревья погибли из-за жестоких морозов зимой в 1940 и 1941 году. Уцелели лишь два мощных раскидистых вяза, на которых в детстве я часто сидел и читал книжки, а также шесть черемух, рябина и с десяток акаций. На опустевшие места с огорода перенесли с десяток пчелиных ульев, которые с помощью брата отца дяди Егора продолжали содержать мама и брат Толя.
Пока я осматривал сад и огород, Виталий наколол дров, а с поля вернулись с полной тележкой травы Толя, Инесса и Дуня. Скоро стали накрывать на стол – принесли молоко, ряженку, сливочное масло, яблоки, малосольные огурцы, свежий черный хлеб, колбасу-шортан и, наконец, взятый Толей только вчера из пчелиных ульев мед в сотах, который я не видел 6 лет.
Когда картофель сварился, приковылял домой с работы в районном центре Батырево брат Геннадий, тяжело раненный в ногу на фронте. Он сразу принес из амбара бутылку водки, чтобы отметить моё возвращение. По его команде сначала все, вылив из рюмок на землю по несколько капель жидкости, и помянули отца, дедушек, бабушек, других родных и всех солдат, погибших на войне.
Когда я сказал братьям, что меня зачислили снова в свой институт, они обрадовались, напомнив, что покойный отец мечтал дать мне высшее техническое образование, и это станет для всей нашей семьи предметом большой гордости. Необходимая помощь мне будет оказана.
Затем мы обсудили положение Ольги. Братья были против приезда ее в деревню: места для неё в доме нет, да и вообще надо оставить её, ведь самое главное – окончить институт, а Ольга будет только обузой. Впрочем, следует дождаться решающего ответа от мамы.
Мне было интересно, как обстоят дела у каждого из нашей семьи. Я уже знал из письма, что мама продолжает работать учительницей. В 1944 году она стала членом ВКП(б) и все годы войны, помимо работы в школе, трудилась в колхозе и была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Позже маму наградили медалью «Материнство» второй степени за то, что родила и достойно воспитала пятерых детей и послала в войну на фронт трех сыновей, а также знаком «Отличник народного просвещения» и, наконец, самым высшим в стране орденом – орденом Ленина. Кроме того, ей присвоили почётное звание «Заслуженная учительница школ Чувашской АССР».
Виталий и Толя окончили Батыревский педагогический техникум и получили специальность учителя, а потом все три брата поступили на заочное отделение исторического факультета Чувашского государственного педагогического института в Чебоксарах. Сестра Инесса, окончив семь классов Батыревской средней школы, стала учиться в Батыревском педагогическом техникуме.
Как я уже знал, Геннадий и Виталий были активными участниками Великой Отечественной войны. Геннадию летом 1942 года пришлось защищать от немцев Кавказ, а в 1944–1945 годах после неполного излечения от тяжелого ранения – воевать старшим сержантом в Прибалтике. Виталий в сентябре 1943 года форсировал реку Днепр при взятии Киева, а затем в 1944–1945 годах после частичного излечения от тяжелой раны воевал в подразделениях Балтийского флота. Только Толя по молодости не успел побывать на войне.
Сестра Инесса в годы войны, как и мама с Толей, работала в колхозе и в 1943 году все заработанные деньги вместе с деньгами из своего детского пособия внесла на изготовление танка «Пионер Чувашии», за что получила благодарственное письмо за подписью И. В. Сталина.
Из нашей деревни Старо-Котяково, имевшей примерно 200 дворов, ушли на войну около 250 жителей, включая меня, и погибли 110 человек. Вернулись из германского плена мои близкие друзья Сергей Падисов, Алексей Дергунов и более старшие по возрасту Михаил Галкин и Иван Шакаев.
Утром я отправился на деревенское кладбище, чтобы побыть на могилах отца, дедушек, бабушек, сестрёнки и других родных. Старое деревенское кладбище было закрыто в конце XIX века и давно стояло без крестов. Там, где лежал прадедушка Михаил, я насыпал крошки хлеба. Именно хлебом, а не цветами поминают у нас покойных, считая, что хлеб важнее, чем цветы.
Потом я сходил на новое, еще не огороженное кладбище – на могилу отца. Посидел там, рассказывая отцу, что со мной произошло за 6 лет, и о своих дальнейших планах, прося его помочь. В тот же раз я посетил и могилы других родственников, а на одном месте наткнулся на свежий столб с пятиконечной звездой, установленный в память моего друга и одноклассника Антипова Ильи Борисовича, умершего где-то в эвакогоспитале от ран.
В общем, провел на кладбище около трех часов, а потом навестил дядю Егора. Оба его сына, Александр и Алексей, воевали, и Алексей возвратился домой, хотя и раненным в ногу. Оказалось, он уехал в Свердловск сдавать вступительные экзамены в Уральский политехнический институт. Старший сын дяди, Александр, инженер лесной промышленности, которого я осенью 1940 года провожал в армию из Москвы, служил старшим лейтенантом в Австрии и скоро должен был демобилизоваться.
Вскоре после моего приезда я должен был явиться за получением паспорта. Геннадий отдал мне свое военное обмундирование, чтобы я для всех, особенно для начальника милиции, выглядел как демобилизованный из армии.
…Когда с паспортом я возвратился домой, меня уже встречала мама, и вместе с братьями и сестрой мы сели за стол. А на следующий день я занимался разбором семейного архива. Все имевшиеся дома бумаги я аккуратно рассортировал, навёл порядок с книгами и журналами в большом книжном шкафу. Вечерами, хорошо одевшись, я с братьями выходил прогуляться по деревне. Встретив нас, пожилые женщины, потерявшие на войне близких, говорили: «Вот, Пелагея Матвеевна какая счастливица – все её сыновья остались живыми, а наши погибли!» Поэтому скоро мама запретила нам совместные прогулки, чтобы не расстраивать женщин. Иногда мать говорила им: «Я осталась в 1939 году сорокалетней вдовой с пятью детьми, и мне так тяжело было их растить. Видимо, поэтому Господь Бог сжалился надо мной и сохранил моих сыновей».
В начале августа я напросился у Толи и Инессы поработать с ними на колхозном поле, где убирали озимую пшеницу. Техники на поле почти не было – работала кое-как на лошадиной тяге одна старенькая жатка, часто выходившая из строя. Трудились в основном женщины, которые жали пшеницу серпами и вязали её в снопы. Как-то ранним утром мама попросила меня одеться по-военному и поехать с ней на попутном грузовике до деревни Ивашкино, где проживала её старшая сестра Матрена Ракчеева. В тот день грузовик повез из нашей деревни в Канаш рожь для сдачи государству. Пользуясь этим, мама захотела проведать сестру и заодно поделиться с ней радостью моего возвращения. С собой мы захватили гостинец – бидон со свежим медом. Увидев и поцеловав меня, тетя заплакала. Конечно, она была очень рада, что я вернулся домой цел и невредим, но ей очень больно, что она потеряла в войну супруга Максима и сына Ивана. Иван, как я, попал к немцам в плен, но еще в 1943 году был освобожден Красной армией и воевал в ее рядах. Потом он получил тяжелейшее ранение и лежал в госпитале, откуда его, не излечив, отправили домой, где он скончался. После ранения демобилизовалась и моя двоюродная сестра Настя, которая из-за ранения не могла иметь детей. Она жила с мужем, тоже фронтовиком, Николаем.
Глава VII
Будучи в один из августовских дней в Батыреве, решил посетить среднюю школу, которую окончил, и педагогический техникум, где предстояло начать учёбу Инессе. В обоих зданиях, как оказалось, шел ремонт, и я не встретил ни одного знакомого учителя. При входе в техникум меня кто-то окликнул по имени. Обернувшись, увидел юношу, лицо которого мне было знакомо. Оказалось, это возмужавший за прошедшие годы Виталий Горшков. Вместе с ним я часто брал книги из районной библиотеки, и мы даже надоедали женщинам-библиотекарям. Случилось так, что Виталию, мечтавшему в детстве «выучиться на морского капитана», стать им не удалось.
В войну он дослужился до лейтенанта, но потерял здоровье. Мы с Виталием зашли к знакомой девушке – Лене Ивановой, которую последний раз я видел кокетливой 15-летней девочкой. Представив меня Лене, Виталий ушел по своим делам. На этот раз в Лене меня прежде всего потряс взгляд её глаз, жгучих, пронизывающих и каких-то игривых, хотя лицо ее оставалось серьезным. Очень приятными были и улыбка, и голос. Так что в тот августовский день я сразу и пылко влюбился в Лену. И после Лены уже ни в одну другую женщину, как бы она ни была хороша, мне не пришлось влюбиться. Лена была студенткой Ленинградского института холодильной промышленности и через год его заканчивала. Я поинтересовался у Лены, зачем к ней приходил Коля Сергеев, с которым мы встретились в дверях, и почему он так быстро ушел. Лена ответила, что сегодня Коля в очередной раз сделал ей предложение, а она отказала, потому что он не нравится ей и она не может себя заставить жить с ним без любви. Потом мы разговорились с Леной о ее родителях. Её отец по-прежнему томился в заключении в Воркуте, а мать, которой сейчас нет на месте, живет в данной квартире и работает учительницей в шокле. Брат Филарет, ушедший на войну добровольцем, погиб на фронте. Все сестры Лены потеряли на фронте мужей. Когда я уходил, Лена неожиданно обняла меня и крепко поцеловала в губы. И после этого мне других девушек, кроме Лены, уже не было нужно.
Вернувшись домой, я рассказал маме о том, что происходило со мной в Батыреве. Мама одобрила мое знакомство с Леной, сказав, что она «вполне подходящая пара для будущей семейной жизни». Но мой брат Геннадий – её бывший одноклассник предупредил, что Лена слишком тянется к разным мужчинам, не постоянна с ними и может легко изменить мужу, как и ее мать. Придется строго следить за ней.
При следующей встрече я рассказывал Лене более или менее подробно, как воевал и что было со мной в германском плену. При этом я для большего эффекта вставлял немецкие слова и выражения. Лену поразило, что я так хорошо выучил немецкий язык, и от этого она была в восторге, что выражала не только словами, но и поцелуями.
Мы ходили более часа и вернулись к дому Лены, когда уже почти стемнело. На другой день после страстных поцелуев Лены я не выдержал и предложил ей завтра же официально стать мужем и женой. Лена ответила, что рада согласиться на моё предложение, но при условии, если я не буду против того, что она уже не девушка. Во время войны она встречалась с одним офицером и обещала ждать его до возвращения, чтобы стать его женой. Они переписывались, однако с апреля 1945 года письма перестали ей приходить. Лена не знает, что случилось с ее женихом. Может быть, он всё-таки вернется. К тому же лучше подождать до ее окончания института и направления на работу. В течение этого года Лена предложила переписываться. И я с этим полностью согласился.
Однажды по дороге домой я попал под сильный дождь. А когда после приятно проведенного у нее времени засобирался домой, Лена задержала меня, сказав, что я могу сильно промокнуть, и предложила остаться у неё ночевать. Но, кроме поцелуев у нас тогда ничего большего не было.
…С тех пор как я приехал домой, мне почти не удавалось узнать, что происходит в мире: радио у нас не было, центральные газеты мама и братья не выписывали, а местная газета писала в основном о районных новостях и делах. Поэтому, как и в шахтерском поселке, я решил ходить иногда в кабинет брата Геннадия, куда приносили много газет и журналов. И однажды из газеты я узнал, что в Москве состоялось судебное заседание по обвинению генерала А. А. Власова в измене Родине. Его и сподвижников приговорили к смертной казни через повешение.
В середине августа Лена собралась уезжать в Ленинград, и мы договорились, когда я приеду в Москву, сразу напишем друг другу.
В одну из суббот мы с мамой отправилась с раннего утра в село Сень Ахпюрт (Ново-Ахпердино) проведать младшую сестру дедушки Матвея тётю Марию Комарову. Она потеряла на войне двух прекрасных сыновей, Петра и Сергея, и жила с маленьким внуком Геной – сыном Петра. Тётя, как и прежде, меня зацеловала, говоря, что все шесть лет твердо верила в моё возвращение.
Побыв у тети Марии около двух часов и отведав у неё, как бывало в моём детстве, печёный творог с прожилками топленого масла, мы уже втроём пошли к другой тёте – совсем одинокой Евдокии Даниловой, двоюродной сестре мамы. Евдокия фанатически верила в Бога и почти не пропускала ни одной службы в единственной в Батыревском районе церкви в селе Туруново. Мы отдали тёте баночку с мёдом и, побыв у этой родственницы тоже около двух часов, к вечеру вернулись домой.
19 августа совершенно неожиданно появился у нас гость – мой двоюродный брат Алексей Егорович Наперсткин, сдавший экзамены в Уральский политехнический институт. До наступления учебного года он решил побыть у родителей. Как только родители сообщили, что я вернулся на родину, Алексей захотел немедленно увидеть меня и почти бегом примчался к нам. Встреча, конечно, была очень радостной. Пообедали вместе с гостем.
Лёша рассказал, что его забрали в армию осенью 1943 года, а в январе – феврале 1944 года ему уже пришлось участвовать в жестоких боях с немцами на Украине. В одном из боев его тяжело ранило в ногу, и он долго лечился в госпиталях, а в конце войны демобилизовался. Пообедав, я и Леша отправились к нему домой, где его родители – дядя Егор и тётя Татьяна – опять заставили нас усесться за стол и поднесли по стакану сладкой и очень приятной на вкус домашней корчамы – медовухи.
21 августа, вечером, почтальон принесла письмо от Ольги. Она написала, что моё письмо вручила ей лично чуть ли не главная работница почты. Ольга спрашивала, не было ли у меня с ней романа, пока я жил в посёлке? По-видимому, женщин на почте тронула моя приветственная надпись на обратной стороне конверта.
Ольга сообщила, что у неё и у других членов семьи со здоровьем пока все нормально. Она устроилась работать уборщицей в шахтоуправлении с небольшим окладом, но с возможными премиями. В воскресенье 11 августа многих жителей посёлка возили на автобусе в другой посёлок, где они присутствовали на казни через повешение шестерых бывших полицаев и одного немца за совершенные в войну преступления на оккупированной территории. Приговоренных со связанными сзади руками поставили в кузове грузовика и зачитали приговор. А потом задним ходом грузовик подали под виселицу, где всем надели петли, после чего грузовик поехал вперед, а приговоренные повисли. Ольга писала, что некоторые зрители этой ужасной сцены плакали, и Ольга тоже, хотя большинство присутствовавших одобряли.
В конце письма Ольга спрашивала, сможем ли мы и дальше жить как муж и жена. Если это невозможно, то Ольга будет считать себя свободной и постарается устроить свою дальнейшую судьбу.
Письмо привело меня в замешательство – я не знал, как ответить Ольге. Можно было бы ей написать прямо «Не жди меня», но это я посчитал для себя слишком грубым. Написать же, что против нашего брака возражают мать и братья, дало бы Ольге повод подумать, что мои родные люди скверные, а я сам человек безвольный. Я придумал, что надо написать письмо от имени моего брата следующего содержания: «Здравствуйте, Ольга! Ваше письмо получили. К сожалению, после приезда Юрия его забрали органы милиции и взяли под стражу, где он и находится до сих пор. Просим Вас на всякий случай не писать к нам больше писем. Если с Юрием всё обойдётся благополучно, мы Вас известим. С приветом: брат Юрия Виталий. 22 августа 1946 года». Брат написал это послание и отправил его Ольге. Надо сказать, что вскоре я устыдился своего поступка, но дело было сделано, и Ольга больше нам не писала.
25 августа я попрощался с родными и направился на железнодорожную станцию Канаш, чтобы ехать в Москву. У кассы была толпа народа. Я попытался узнать, кто в очереди последний за билетом на ближайший поезд до Москвы. Но последнего человека так и не нашел, да и вообще очереди как таковой не было – билеты брали штурмом, а единственный милиционер был бессилен организовать порядок. Все проходившие поезда шли переполненными. Вся надежда у меня осталась на скорый поезд «Казань – Москва», прибывающий в Канаш около 21 часа.
Времени до него было много, и я вспомнил, что мой друг из Донбасса, Роман Никитин, просил меня зайти в Канаше к его брату, передать ему привет и, главное, два куска хозяйственного мыла. Но мыло у меня украли в поезде, когда я добирался домой. Но, несмотря на это, я решил всё-таки выполнить просьбу друга.
Однако брат Романа оказался на работе – на станции, и его жена, которой я представился и сообщил цель своего посещения, пошла со мной к супругу. Я сказал им, что мне надо уехать в Москву, но достать билет невозможно. Брат Романа обещал помочь. Пользуясь тем, что на моём спутнике была форменная одежда железнодорожника, а на мне – военная шинель, мы уговорили старшую проводницу вагона довезти меня, «демобилизованного солдата», бесплатно до Москвы. Проводница впустила меня, но не внутрь вагона, где мест не было, а в тамбур. Как только поезд тронулся, ко мне присоединился один спутник, по-видимому, настоящий солдат, и мы с ним никого больше к себе не пускали. Ночью мы крепко уснули, скрючившись и положив головы на свои вещи. После Арзамаса женщины – контролёры поезда начали обход и в нашем темном тамбуре споткнулись об ноги соседа. Одна из них проворчала: «Ах уж эти солдатики, и приходится им ехать в тамбуре!» А будить нас и просить наши проездные документы они не стали.
В Москве я поехал сначала к Смирновым в Сокольники, чтобы оставить там вещи. В отделе кадров института мне выдали студенческий билет, ордер на вселение в общежитие и карточки. В Доме коммуны еще шел ремонт, и меня временно поселили в общей комнате, где могли разместиться не менее 30 человек.
…К лету 1949 года я окончил институт, получив квалификацию инженера-металлурга и соответствующий диплом. Но еще не раз мое пребывание в плену оказывалось препятствием на пути к той или иной цели. Мне не дали положенного звания техника-лейтенанта, препятствовали моему поступлению в аспирантуру, везде отказывали в приеме на работу в Москве. Наконец в 1956 году партия и правительство приняли решение – признать бывших военнопленных участниками Великой Отечественной войны. Мне вручили медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», затем медаль «За оборону Москвы», орден Отечественной войны II степени, и к 2005 году у меня оказалось 20 медалей. В 1973 году я защитил диссертацию, став кандидатом технических наук.
…Жизнь продолжается: дочь и сын получили высшее образование, растут внуки. Шесть раз мне довелось побывать в ГДР, а пять раз немецкие друзья гостили у меня в Москве. Самой большой потерей в жизни стала смерть моей дорогой жены – Екатерины Михайловны. Ее светлой памяти я посвящаю эту книгу.
Приложение[17]
Список советских военнопленных рабочей команды № 1062 при базовом лагере военнопленных Шталаг IV А в городе Хонштайн, проживавших в деревне Цшорнау под городом Каменц в Саксонии по состоянию на 15 апреля 1945 года (не приведены номера и индексы лагарей, выдавших личные номера)
Список советских военнопленных, выбывших в разное время из рабочей команды № 1062 до 15 апреля 1945 года или отправленных в другие команды или лагеря
Федерякин Михаил Митрофанович
Бердников Петр Романович – сапожник
Капралов Михаил – белорус
Утюк Иван – украинец
Плехов Семен – больной
Карпов Иван
Добринский Тимофей – Ленинградский еврей
Кулешов Сергей Васильевич – москвич, тренер по волейболу
Попков Александр
Игнатьев Иван – моряк из Астрахани
Гудовичев Анатолий Михайлович (прозвище Косолапый) – из Дзержинска Нижегородской области
Русанов Ефим Кузьмич – из Обояни Курской области
Кондратенко – больной
Мирзаев Рахим – ингуш
Харченко Иван Тимофеевич (прозвище Иван Пик) из Таганрога
Мытищенский (фамилия неизвестна)
Убежали летом 1944 года
Селезнев Семен(Сергей) Семенович (у немцев Андреас) – из Твери
Давиденков Н.
Николаенко Н.(Краснолицый)
Отправлены к крестьянам в начале 1945 года
Маликов Михаил
Огиенко А. Н.(Алекс) – бывший повар
Березин Павел
Переяславец Н.
Зенин М.
Письменник В.
Ересько В.
Кравченко В.
Харитонов Л. – кузнец, западный украинец
Шныкин Андрей Дмитриевич (прозвище Комендант Москвы) – москвич
Ковкун Алексей Иванович (Маляр) – киевлянин
Тыртышников Филип Тимофеевич (прозвище Двадцать Лет в Колхозе)
Соколов Иван (Вятский)
Караев Владимир -осетин
Мирзабеков М. – казах
Кирпичев
Глебов Моисей
Назаров Иван – ленинградец
Рощин – смоленский
Лагно И.
Скотний Николай – убит красноармейцами у хозяина-немца в Дойчбазелитце
Чайкин Виктор Иванович – из Гатчины Ленинградской области
Пономаренко Г.
Вклейка
Автор книги Юрий Владимирович Владимиров
Мой отец Владимир Николаевич Напёрсткин – рядовой лейб-гвардии Измайловского полка. Петроград, июнь 1917 г.
Мой двоюродный дядя – военный комиссар Чувашской и Марийской АССР Виктор Данилович Данилов (сидит посередине) на совещании чувашских уездных военных комиссаров. Чебоксары, 1925 г.
Моя мама Пелагея Матвеевна Напёрсткина, 1941 г.
Я ученик 10-го класса. Апрель 1938 г.
Я красноармеец. Февраль 1942 г.
Я снова студент МИС. Август 1946 г.
Мой брат Геннадий, 1941 г.
Мой брат Виталий, 1941 г.
Мой брат Анатолий, 1945 г.
Моя сестра Инесса, 1945 г.
Московский горный институт (слева) и Институт стали (справа). Октябрь 1947 г.
Северный и Южный корпуса жилого здания студенческого общежития «Дом Коммуны». Октябрь 1947 г.
Моя зачетная книжка
Я на братской могиле в селе Лозовенька. 1967 г.
Село Лозовенька. Еще сохранившиеся крытые соломой хаты. 1967 г.
Корпус инфекционной больницы, в которой я лежал в августе-сентябре 1942 г. Днепропетровск,1969 г.
Сорб Никалаус Билк. Бывший часовой лагеря военнопленных в Каменце. 22 июля 1975 г.
Мой старший товарищ по плену Михаил Иванович Снопков. 1940 г.
Мой товарищ по плену Алексей Иванович Ковкун. Киев, 1957 г.
Мой товарищ по плену Андрей Яковлевич Маркин. Новосибирск, 1940 г.
Я и мой товарищ по плену Ефим Павлович Добринский. Ленинград,1959 г.
Я и мой товарищ по плену Анатолий Михайлович Гудовичев. Москва, 1972 г.
Гостиница, в которой располагались казарма военнопленных, помещение для охраны, трактир, карцер, конюшня, уборные. Цшорнау, 1975 г.
Бывшая выходная часть казармы военнопленных. Август 1978 г.
Двор усадьбы Марии Шольце. Дора и Рихард Бессер и Вальтер Шольце. Цшорнау, ноябрь 1969 г.
Вид из окна казармы нашего лагеря военнопленных на луг, по которому нас гонял комендант лагеря. Июль 1975 г.
Железнодорожная станция г. Каменца, где военнопленные часто работали. 1978 г.
Пакгауз, из которого во время работы иногда удавалось выносить в карманах зерно. Каменц, 1978 г.
Очень глубокий карьер, где работали военнопленные. Каменц, 1978 г.
Я, Марина Рехорк и её супруг-поляк Андреас Шатковский. Август 1978 г. У мачехи Марины я работал вместе с ней летом и осенью 1944 г.
Бывшая тюрьма в Каменце, в которой вместе с четырьмя товарищами я содержался с 22 апреля по 3 мая 1945 г. после неудачного побега из плена. Каменц, август 1978 г.
Ратуша в Каменце, 1969 г.
Сарай во дворе гостиницы в Каменце. Здесь я работал на кухне для немецких военных. Стоят: работник горсовета Багер, моя дочь Наташа и супруга Катя. Каменц, август 1978 г.
Я у входа в картинную галерею г. Дрездена. Август 1978 г.