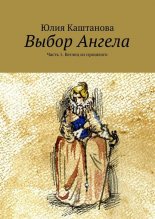Как я был в немецком плену Владимиров Юрий
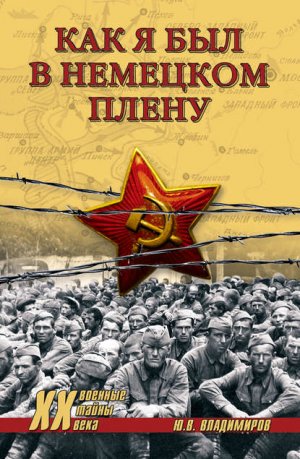
Все бойцы и командиры этой батареи были аккуратно одеты и подтянуты, гладко выбриты и очень дружелюбны. Казалось, будто они живут дома. Мы очень завидовали им. На деревьях возле землянок распевали свои песенки первые прилетевшие скворцы – для них уже были приготовлены скворечники. Вообще в лесу было полно чирикающих и поющих птиц, что вызвало у нас тоску по мирной жизни.
К своему стыду, должен признаться, что, находясь под Решетихой, я ни разу не написал матери. Дело в том, что я сообщил ей из Горького, что мы едем на фронт. На самом деле этого еще не произошло, а написать маме правду я посчитал неудобным.
Кажется, 10 апреля представитель командования 199-й отдельной танковой бригады – батальонный комиссар дал нам знать, что отъезд на фронт может состояться уже в ближайшие сутки. В наш военный городок прислали нескольких шоферов-водителей. На фронте они перевозили орудия и снаряды. Из этих шоферов мне особенно запомнился молодой боец по фамилии Загуменнов, внешне очень похожий на моего однополчанина Бориса Старшинова – бывшего студента МИС, оставшегося в Горьком в запасном полку. А другим шофером, которого я потом вспоминал всю жизнь, был пожилой сержант Журавлев Михаил Дмитриевич, родом из Калининской (ныне Тверской) области, прекрасный специалист своего дела.
В те же дни всему личному составу батареи выдали так называемый «медальон смерти», по существу вовсе и не медальон, а черную эбонитовую капсулу, восьмигранную снаружи и цилиндрическую изнутри. Она имела в длину 50 мм и диаметр 12 мм. Обе ее части плотно навинчивали друг на друга так, что вода или сырость не могла попасть в капсулу. Внутрь капсулы помещали свернутую в рулончик бумажку, на которой каждый боец писал чернилами (а надо было бы карандашом, что дольше противостоит сырости) сведения о себе – фамилию, имя и отчество, год рождения, домашний адрес, адрес военкомата, призвавшего его на военную службу, и главное – адрес близкого человека, кому следовало сообщить о владельце в случае его гибели. Хранили капсулу в брюках на поясе в потайном карманчике.
Мы получили небольшое вафельное полотенце, по куску туалетного и хозяйственного мыла. Зимние шапки нам заменили пилотками из зеленого английского сукна, сильно отличавшегося от отечественного. Многим, в том числе и мне, дали новые шинели взамен обветшавших. Новые, и тоже английского сукна, шинели оказались значительно легче, чем старые, из грубого отечественного материала. Кое-кто сменил себе поизносившиеся ботинки, но у меня они были в порядке.
Пару дней, еще в старой одежде, мы поработали на железнодорожной станции Жолнино, где приняли прибывшие с завода № 92 две новые 37-мм зенитные пушки и три английские грузовые автомашины «бедфорд», предназначенные для тех же пушек. Одна из этих машин была с закрытым кузовом.
Нам пришлось распаковать пушки из-под брезентового чехла и привести их в состояние полной боевой готовности. К каждой пушке мы поставили в деревянных ящиках запас снарядов. В это время автомашинами занимались шоферы.
На запасном железнодорожном пути находилось более двух десятков платформ с легкими танками, полученными по ленд-лизу. С ними возились танкисты нашей бригады. При этом они очень неодобрительно высказывались об этих английских машинах, плохо приспособленных к российским условиям. Некоторые из танков имели карбюраторные двигатели, работающие на бензине, из-за чего их очень легко было поджечь. Как я позднее узнал из специального справочника, эти пехотные танки типа «валентайн», модификаций 1938–1940 годов, были изготовлены фирмой «Виккерс – Армстронг» и предназначались в основном для поддержки пехоты. Танки с дизельным двигателем имели габаритные размеры 5420 2630 2270 мм и массу 18 тонн. Они обслуживались экипажем из трех человек. У них на вооружении имелась одна 40-мм пушка и два пулемета калибра 7,92 мм, включая один зенитный. Внутри машины можно было поместить 41 снаряд и запас из 3300 патронов.
В те же дни мы получили на каждого бойца и младшего командира отечественные винтовки образца 1891/1930 годов и отечественные карабины образца 1938 года. Нас предупредили, что замена, а тем более потеря личного оружия будет очень строго наказываться и каждый головой отвечает за него. Оружие следовало содержать в идеальном порядке и чистоте, чистить шомполом и тряпкой его ствол после серии выстрелов и периодически смазывать соответствующие узлы и детали. Одновременно с личным оружием каждому дали патронташ с винтовочными патронами, который мы надевали на поясной ремень спереди. Но основной запас патронов помещался в особой сумочке, которую носили в вещевом мешке.
Нам выдали еще стальные каски зеленого цвета, изготовленные Лысьвенским и Сталинградским (ныне это Волгоградский) металлургическими заводами. Но на всех касок не хватало, в связи с этим было объявлено, что все каски являются общей собственностью и подлежат хранению на грузовике с закрытым кузовом. Каски полагались тем номерам орудийных расчетов, которые открывали огонь по вражеским самолетам или при появлении другой соответствующей цели. Однако случалось, что пока бегали за касками, цель уже исчезала. Мне на фронте почти совсем не пришлось пользоваться каской.
…Затем мы получили на всю батарею обычные и саперные длинные и с широкой металлической частью лопаты трех типов, пилы, топоры, другие инструменты, несколько брезентовых плащ-палаток и полотен и другие вещи.
14 апреля 1942 года в последний раз в Решетихе нас постригли машинкой наголо. После мы помылись в душевой фабрики, сменили нижнее бельё и в специальной камере «прожарили» одежду. Еще до наступления темноты покинули военный городок, а через час пришли на станцию Жолнино, где находился еще не полностью сформированный эшелон, составленный из открытых платформ с танками, автомашинами, пушками и приспособленных для перевозки людей товарных вагонов-теплушек. В головной и хвостовой части эшелона размещались зенитные орудия. На каждой платформе дежурил часовой с винтовкой или карабином. Все танки и автомашины были заправлены горючим, а в танках находились снаряды и патроны. В эшелоне находились цистерны с горючим.
Нам выдали«сухим пайком» продукты на пять суток и баки с водой, которую периодически пополняли. Бойцы ежедневно получали горячий обед из трех блюд из полевых и переносных кухонь нашего эшелона. Нас стали снабжать всеми видами довольствия по нормам, полагавшимся для фронтовиков.
Многие из нас радовались отъезду на фронт, говоря: «Там-то уж мы не будем больше голодать». Как мы были наивны!
ГЛАВА Х
Эшелон двигался очень медленно. Когда рассвело, первой остановкой поезда оказалась станция Ново-Вязники. На этой станции мы устремились на поиски туалета. Но едва спрыгнув из вагона, мы увидели, что вокруг все было загажено, а единственный выгребной туалет на конце платформы давно никем не вычищался, так что оказалось совершенно невозможно войти туда. Между прочим, во время войны так было едва ли не на всех железнодорожных станциях. Вернувшись в вагон, мы долго оттирали свою обувь соломой.
Наш эшелон долго стоял на станции во Владимире. Там с санитарного поезда выгружали на носилках тяжело раненных. Здоровые бойцы выносили их на привокзальную площадь. Было много покалеченных – без руки, без ноги, на костылях… сквозь марлевые повязки у некоторых раненых проступали красные пятна крови. Всё увиденное произвело на нас очень тяжелое впечатление.
Во время долгой остановки эшелона где-то между станциями Собинка и Петушки нам впервые дали горячую пищу. За ней на кухню отправляли несколько бойцов с ведрами, бачками и большими кастрюлями, захваченными из Решетихи. Принесенную еду распределяли по котелкам и кружкам. В голове всегда была только одна мысль: как бы наесться досыта…
Наша поездка до конечного пункта длилась больше пяти суток. Мы догадывались, что едем на юг, а куда конкретно – не знали. Большие города эшелон в основном объезжал. Только готовя эти воспоминания, я воссоздал маршрут нашего эшелона. Очевидно, мы двигались через Мичуринск – Грязи – Воронеж – Лиски – Валуйки – Купянск-Узловую. Мы двигались в направлении Харькова. Поезд переехал разлившуюся от половодья реку Оскол и остановился на станции Букино. И вдруг здесь на нас налетели немецкие бомбардировщики в сопровождении истребителей «мессершмитт». Наши бойцы моментально выскочили из вагонов и платформ и залегли по обе стороны эшелона. Но на головном вагоне зенитчики, под командованием лейтенанта Кирпичёва, быстро заняли свои места и открыли по самолётам огонь. То же самое сделал и боевой расчет второй пушки в хвостовой части поезда. Еще раньше нас начали стрелять местные зенитчики, и один из истребителей был сбит.
Бомбардировщики сбросили несколько бомб, и осколки прошили стены и крыши некоторых вагонов, попали в ближние дома и строения. У нас и на станции появились раненые. Один осколок угодил в ефрейтора Метёлкина, обслуживавшего пушку в хвостовой части эшелона. Он сразу же скончался. Комиссар Воробьев взял «медальон смерти» Метёлкина, чтобы официально сообщить о гибели ефрейтора. Тело Метёлкина оставили местным работникам для захоронения. Мы даже не успели попрощаться с покойным, поскольку наш поезд уже трогался. Где-то между станциями Диброво и Закомельская последовала команда – всем выгрузиться. Вместе с командиром батареи Сахаровым и нашим комиссаром Воробьевым к нам подошли командир нашей танковой бригады № 199 полковник Матевосян, лет сорока, чернявый, небольшого роста, и комиссар бригады – пожилой, среднего роста, фамилию которого я, к сожалению, я не знал. Они поблагодарили нас, зенитчиков, за успешное отражение атаки вражеских самолетов.
Потом до самого вечера мы разгружали эшелон. Работали без перерыва, чтобы закончить все как можно быстрее, пока немцы нас не заметили. Всё выгруженное немедленно маскировали в чаще леса.
Для всего личного состава батареи устроили в лесу временное «жилье». Оно представляло собой три шалаша из срубленных стволов деревьев и веток. Ветки и листья служили для нас постелью, а шинели – одеялом. Накануне рядом с шалашами вырыли еще небольшие укрытия для себя на случай налета вражеской авиации. Винтовки держали с собой же в шалаше.
Следом за нами стали прибывать и другие эшелоны, разгрузка шла днем и ночью двое суток. К счастью, погода была теплой и сухой.
На следующий день после прибытия я написал письмо маме, сообщив, что жив и здоров. К сожалению, она его не получила, к ней дошла только короткая весточка, которую я послал ей 5 марта из Горького. С того времени для мамы и для моих близких я «пропал без вести» более чем на три года.
За двое суток пребывания на новом месте мы неоднократно видали пролетавшие над нами вражеские самолеты, но нам было запрещено открывать огонь, чтобы не выдать противнику место расположения новых войсковых частей. Вместе с комиссаром Воробьевым я выпустил тогда два «Боевых листка», которые вывесил на дереве. В первом было написано несколько добрых слов о погибшем ефрейторе Метёлкине и немного – о наших успешных стрельбах по самолетам немцев. При подготовке второго «Боевого листка» комиссар сообщил мне, что наша бригада вместе с соседней 198-й входит в состав Шестой армии Юго-Западного фронта, которым командует маршал С. К. Тимошенко. От комиссара под большим секретом я узнал, что Шестая армия скоро должна перейти в наступление с целью освободить Харьков.
Спустя несколько десятков лет в литературных источниках я нашел упоминание, что нашей Шестой армии противостояла тогда Шестая армия немцев, которой командовал генерал-лейтенант танковых войск Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс. 31 января 1943 года в Сталинграде он был произведен в генерал-фельдмаршалы, и в тот же день его взяли в плен.
…Было без объяснений ясно, что наша танковая бригада является одной из многих крупных войсковых соединений, которые накапливались для перехода в большое наступление. На третьи сутки нас с обеими пушками, прицепленными к «бедфордам», отправили дальше на юго-запад. Сначала мы не менее часа ехали по открытой проселочной дороге, а потом по дороге внутри лесного массива. Остановились мы на левом берегу реки Северский Донец, сильно разлившейся с наступлением весны. Здесь нам пришлось вырыть окопы для укрытия от немецких самолетов, а для командного состава – «благоустроенную» землянку. Бойцы расположились в шалашах. Недалеко от шалашей мы установили, хорошо замаскировав ветками, оба орудия и с нетерпением стали ожидать, что скоро нам привезут еще две пушки, которых батарее недоставало.
В глубине леса разместились санитарная часть и кухни, а также склады с продовольствием и автомашины ГАЗ, к которым при переездах прицепляли полевые кухни, а переносные кухни помещали на кузов. Всеми кухнями распоряжалось непосредственно командование танковой бригады.
Горячую пищу из кухонь и прочее довольствие (хлеб, сахар, консервы в банках, концентраты в бумажных пакетах, водку, махорку, иногда – папиросы и некоторые вещи) мы получали сразу на весь взвод или огневой расчет, посылая для этого двух-трех дежурных бойцов с тремя-четырьмя ведрами, бачками или большими кастрюлями и мешками (а вместо них нередко – с брезентовыми полотнами или плащ-палатками). Иногда нам давали перед обедом по сто граммов водки, которую мы разливали из большой стеклянной или металлической тары по своим кружкам. Ежедневную порцию хлеба увеличили до килограмма, но давали только черный и часто несвежий. Каша была в основном пшенной из плохо очищенной крупы. Если получение пищи из полевой кухни было невозможно, нам выдавали банки мясных и рыбных консервов, пачки пшенного концентрата, и мы готовили еду в котелках. Не раз вместо хлеба приходилось обходиться сухарями. Как и в тылу, мы все время чувствовали себя голодными.
В качестве курева нам выдавали главным образом махорку в коричневых бумажных пачках, и нередко для свертывания цигарок и «козьих ножек» нарезанную до нужных размеров бумагу или куски газеты.
На новом месте мы пробыли до 3 мая. Погода стояла теплая и солнечная, поэтому и жить в шалашах было неплохо. Сильно беспокоили лишь комары и мошкара. К сожалению, снова появились вши. Утренних зарядок, которыми нас заставляли заниматься в тылу, давно не было и в помине. Мы мылись прозрачной водой из луж, пользуясь куском простого мыла. В свободное время много разговаривали между собой, вспоминая хорошую жизнь до войны.
На второй день после нашего прибытия на новое место мы стали свидетелями необычного происшествия. Стоя на берегу Северского Донца, мы вдруг увидели, как течение несет две человеческие головы в шапках-ушанках. А над головами белело нечто вроде шлангов. Из воды периодически появлялись руки. Потом возникли в полный рост два человека в шинелях и обуви. На мелководье они шли по дну реки, цепляясь за ветки затопленных деревьев, чтобы передохнуть.
Встретив пловцов, мы увидели, что белые «шланги» были… обыкновенными кальсонами из плотной ткани. Перед погружением в воду их намочили, крепко связали обе штанины и надули воздухом, превратив в самодельный спасательный круг.
Обоих пловцов мы привели к себе, дали им переодеться, глотнуть водки, чтобы согреться, после чего их накормили. Они сказали, что плыли и шли вдоль правого берега Северского Донца от г. Балаклея, расположенного на левом берегу, занятого немцами. Нас всех поразило то, как эти разведчики отважились на плавание в такой холодной воде.
Через несколько дней я и Вася Трещатов, патрулируя с винтовками берег Северского Донца, наблюдали, как в полутора километрах от нашего шалаша саперы начали строить мост. Некоторые из них прямо в обуви и одежде заходили глубоко в ледяную воду и подолгу работали, забивая в грунт сваи, закрепляя бревна и доски, занимаясь установкой понтонов.
Лес для строительства моста вырубали выборочно, так чтобы вражеским самолетам ничего нельзя было заметить. Бревна и доски делали сразу на месте. Работа шла почти без шума, но время от времени сопровождалась матерными ругательствами строителей. К ночи 2 мая мост был готов.
В последние дни апреля в батарею доставили (вместе с шофером) недостающую грузовую автомашину «ЗИС», которая оказалась отечественной, выпущенной Московским автомобильным заводом им. И. В. Сталина (ныне И. А. Лихачева). Но вместо дополнительных двух 37-мм зенитных пушек (у нас имелось только по одной пушке на два огневых взвода, т. е. по одной на два орудийных расчета) прислали… один станковый крупнокалиберный пулемет ДШК 12,7 мм. Этот пулемет, созданный В. А. Дегтяревым и Г. С. Шпагиным в 1938 году, весил 44 кг. Устанавливали его на треноге. Боевой расчет состоял из наводчика-стрелка, его помощника, прицельного и двух подносчиков патронов. Калибр (внутренний диаметр ствола) пулемета был 12,7 мм. Стреляли из него бронебойными и бронебойно-зажигательными пулями, причем через 4–5 патрона следовали трассирующие пули. Число выстрелов в минуту достигало 125. Можно было стрелять короткими очередями – с 2–5 выстрелами. Максимальная дальность полета пуль составляла 7000 м, а практическая – 1800 м.
Обслуживать присланный пулемет в качестве наводчика-стрелка поручили уроженцу тех мест, старшему сержанту украинцу Чижу. В помощники к нему напросился наш Лёня, который был в восторге от этого оружия и почти не отходил от него. Поскольку батарею не обеспечили полагавшимися четырьмя пушками, это привело к тому, что один орудийный расчет оказался лишним, и получилось так, что все расчеты, как правило, работали на двух пушках по очереди, обслуживая также и пулемет, но и в этом случае еще три человека оставались незанятыми.
Перед праздником Первого мая нам вручили подарки от отдельных граждан, предприятий и организаций с трогательными надписями, записками и письмами, содержавшими пожелания доброго здоровья и просьбы крепко бить врага и вернуться домой живыми. Мне досталось по пачке папирос, конфет и печенья. Комиссар Воробьев, вероятно, вспомнил, что у меня в Горьком во время обыска забрали шерстяной свитер, и мне дополнительно дали аналогичный свитер, значительно лучший по качеству. Однако в это время года было уже тепло, порой даже жарко, и я не стал его носить днем, но иногда надевал ночами.
1 и 2 мая нас неплохо покормили. Особенно мне понравился компот из кураги, который я до этого еще никогда не пробовал. Ночью танкисты первыми начали выдвигаться к линии фронта, а утром мы выкатили с позиций обе пушки, прицепили их по одной к двум автомашинам с открытым кузовом, одновременно погрузив в них ящики со снарядами, и установили пулемет на кузов третьей автомашины. Затем с шинелями, свернутыми в «скатки», с вещевыми мешками, противогазами и личным оружием мы разместились на грузовиках. Четыре наводчика (первый и второй номера) обоих дежурных орудийных расчетов заняли места у своих расчехленных пушек.
Мы очень осторожно переехали по мосту Северский Донец и через несколько километров остановились у хвойного леса с высокими елями и соснами, росшими на чистом желтом песке. Здесь нашим машинам пришлось пропустить сильно растянувшуюся колонну очень шумных бойцов-армян пехотинцев разного возраста, многие из которых носили черные-пречерные усы. Они были вооружены винтовками, пулеметами и другим оружием, включая даже очень длинные и тяжелые (весом 20,3 кг) противотанковые ружья ПТРС калибра 14,5 мм, образца 1941 года, конструкции С. Г. Симонова. Каждое из этих ружей несли два человека.
Рассказывали, что когда боец-мусульманин бывал ранен в бою, его соплеменники или одноверцы подбегали к нему и кричали, взывая к Аллаху, но ничем не помогая раненому. А в это время вражеский минометчик открывал по ним огонь, в результате чего все погибали. Сказанное не относилось, однако, к христианским народам Кавказа.
Остановившись на поляне и замаскировавшись, мы трое суток занимались обустройством землянок. Но пожить в этих землянках нам не пришлось, что повторялось много раз и в дальнейшем: бывало, только-только закончим рытьё и обустройство капитальных землянок, как сразу поступает команда – двигаться дальше. Становилось очень обидно за бесполезную работу.
…В эти дни я должен был выпустить «Боевой листок». В связи с этим для получения необходимых материалов мне пришлось побывать в штабе своей танковой бригады. По дороге я видел, что и другие подразделения роют землянки. На опушке леса группа бойцов мотострелкового батальона училась… маршировать с пением в строю. Командир этой группы, пожилой старший сержант, по своей внешности и по акценту подаваемых им команд показался мне похожим на чуваша. Я загляделся, как красиво он демонстрировал своим подопечным строевой шаг, держа очень прямо спину и голову. Когда он остановил группу для отдыха, я подошел к нему и поприветствовал его на моем родном языке. Командира это совсем не удивило, и мы разговорились на чувашском языке. Между прочим, он сказал, что воевал еще в Гражданскую войну – был командиром взвода в Чапаевской дивизии и ему не раз доводилось говорить с самим Чапаевым, который якобы владел чувашским языком как родным, так как являлся уроженцем Чувашии.
Рано утром 6 мая после завтрака мы неожиданно получили команду двинуться на северо-запад вслед за танками и мотострелковым батальоном, которые уже отправились в путь ночью. Мы быстро собрались. Командир батареи – старший лейтенант Сахаров – сел рядом с шофером в кабине головной машины, а комиссар – политрук Воробьев – в кабине третьей машины. Между обоими грузовиками, тащившими за собой пушки, ехала машина с закрытым кузовом, в кабине которой находился вместе с шофером старшина Ермаков. В открытых кузовах бойцы располагались на ящиках с боеприпасами. Я в это время занял место в кузове четвертого, замыкающего грузовика, на котором был установлен подготовленный к стрельбе пулемет. Рядом со мной, у края заднего борта, сел командир взвода лейтенант Кирпичёв. Погода была прохладной, поэтому все были в шинелях. Нашим автомашинам пришлось преодолеть большой участок пути со значительным уклоном вверх. Английские грузовики, тянувшие за собой пушки, не были приспособлены к таким тяжелым условиям движения. Поэтому мы ехали медленно, потом остановились, и всем пришлось слезть с грузовиков, чтобы толкать в гору первую машину и прицепленную к ней пушку. В это время лейтенант Кирпичёв, державший какую-то деталь дальномера, нечаянно выронил её, когда машины начали набирать скорость. Пришлось останавливать наш грузовик. Но пока мы стучали в кабину шоферу, машина проехала еще не менее ста метров. Желая помочь командиру, я изо всех сил побежал к месту падения предмета, поднял его и попытался так же быстро вернуться. Однако я не рассчитал, что обратная дорога идет в гору. В результате, сильно ослабевший от недоедания, я вдруг почувствовал, что ноги меня плохо слушаются и сердце бьется учащенно. Я начал задыхаться, голова закружилась. Но я всё же добежал до грузовика, а вот забраться в кузов уже не смог, и товарищи были вынуждены мне помочь.
В тот же день, 6 мая, к обеду наши автомашины благополучно добрались до большого села Лозовенька (местные жители называли его Лозовеньки), расположенного совсем недалеко от передовой линии фронта. Здесь наши командиры, предварительно переговорив с хозяевами, распределили по подворьям боевые расчеты. Каждый расчет занял хату, окрашенную известкой и крытую соломой, с земляным полом и печкой.
Конечно, командиры сразу же заставили нас вырыть в поле окопы и установить, как положено, с хорошей маскировкой, обе пушки и пулемет. Шоферы замаскировали автомашины соломой. Около хат были сделаны убежища для бойцов и приютивших нас хозяев, но они обычно спасались от бомбежек в подпольях.
Командир и комиссар батареи устроились вдвоем в отдельной хате, а командиры взводов – вместе со своими бойцами. Отдельно поселились старшина Ермаков с санинструктором Федоровым. У пушек, у пулемета расставили посты. Лишь после этого состоялся обед.
Основную часть села заняли прибывшие раньше нас танкисты и другие подразделения нашей танковой бригады и еще какие-то войсковые части. Итак, наконец мы, кажется, оказались на фронте…
Глава XI
Большое, типично украинское село Лозовенька Балаклейского района Харьковской области Украины находилось по прямой примерно на 26 км юго-западнее города Балаклея и примерно в 45 км от города Изюм. Село располагалось по обеим сторонам речки, текущей с северо-востока на юго-запад и часто пересыхавшей летом. Километрах в десяти от села эта речка впадала в Северский Донец. Улиц, как таковых, в селе, растянувшемся на расстояние более двух километров, не было. Имелись лишь узенькие проходы к речке.
К концу 1941 года Лозовенька оказалась у немцев, но зимой в начале 1942 года наши войска отбили у них это село и продвинулись на запад на расстояние до 40 км. Между городами Барвенково с юга и Балаклея с севера образовался так называемый Барвенковский выступ Юго-Западного и Южного фронтов шириной около 75 км и вклинившийся в сторону врага (считая от Изюма) примерно на 80 км. Мы же со своей танковой бригадой оказались на северо-западной части Барвенковского выступа, находясь в составе Шестой армии. Разумеется, в те дни и рядовые бойцы, и младшие командиры, и, наверное, средний командный состав обо всем этом и о планах Главного командования ничего не знали и только догадывались, что вот-вот должны пойти в наступление. Все события, совершавшиеся в последующие дни, вошли в историю как Харьковское сражение 1942 года. Они подробно описаны в специальной литературе.
Глава XII
…В Лозовеньке 6 мая после ужина, перед которым нам всем налили из бидона по 100 граммов водки, которую мы с удовольствием «приняли», командир взвода указал каждому из нас место для ночлега. Мне досталось место на самодельной, сделанной из досок кровати, на которой никакой постели не было.
Рис. 3. Боевые действия под Харьковом 12–29 мая 1942 г.
Хозяин, старик лет 70, улёгся на подстилке из соломы на земляном полу под образами, а хозяйка ушла спать в сарай, где имелся погреб. В этом погребе хозяева прятались от бомбежек и артиллерийских обстрелов. А главное – хозяева держали там запас зерна, муки и других продуктов, включая молоко от своей коровы, пасшейся в поле и около двора. Оказалось, что два взрослых сына хозяев находились в армии, летом у них жила замужняя дочь с детьми, оставшаяся без мужа, случайно погибшего в начале 1942 года во время боев за село. Тогда в селе сгорело несколько хат, от которых остались только печи с трубами.
Я улегся на кровати вместе с шофером грузовика Михаилом Дмитриевичем Журавлевым, который в последние дни очень со мной подружился. Мы подстелили под себя шинели, а под головы вместо подушек положили вещевые мешки и сумки с противогазами. Остальные товарищи устроились на полу или на печи, некоторые – в сенях, а также в сарае и других постройках хозяйского двора.
Примерно через пару часов я внезапно проснулся из-за страшного озноба. Пришлось вытащить из вещевого мешка шерстяной свитер, подаренный мне к 1 Мая, и надеть его под гимнастерку, а сверху укрыться шинелью. Но это вовсе не помогло: я стал дрожать, стучать зубами и невольно прижиматься к соседу, от чего тот сразу проснулся. Михаил Дмитриевич привел из соседней хаты санинструктора – медбрата Федорова, предположившего, что у меня приступ малярии, сочетающийся с сердечной недостаточностью. Малярию я мог подцепить от комаров, которых было немало, когда наша часть стояла в лесу на берегу Северского Донца. Медбрат накрыл меня дополнительно шинелью соседа и попросил потерпеть до утра, когда он отведёт меня в медсанчасть танковой бригады для подробного обследования.
На следующий день мы с ним отправились в медсанчасть, располагавшуюся в здании сельской школы, занятия в которой уже давно не проводились. Здесь меня подробно обследовала группа солидных врачей, установивших, что я действительно «схватил» малярию. Мне дали большой пакет белого порошка – хинина, главный врач – специалист в области кардиологии, обнаружил, что у меня «совсем не годное для фронтовых условий сердце». Узнав, что я был студентом IV курса Московского института стали им. Сталина, он очень удивился, как я при таком «статусе» оказался на фронте, поскольку есть закон, согласно которому студентов старших курсов технических вузов по особо важным специальностям, включая металлургию, не берут в армию даже добровольцами. По этому закону меня следует срочно демобилизовать, а по состоянию моего сердца – тем более. Дальше главврач заявил, что он сегодня же поставит перед командованием вопрос о моей немедленной демобилизации, а пока будет поддерживать моё сердце уколами камфоры. До 12 мая мне сделали три укола, что, наверное, меня и спасло.
От врачей я ушёл сильно расстроенный, но командир взвода и командир и батареи решили не заниматься моей демобилизацией, приказав мне не обращать внимания на болезнь, которая, якобы, «сама пройдёт». Комиссар батареи выразил мне сочувствие и помог в выпуске очередного «Боевого листка».
Пока все шло своим чередом: вместе с товарищами я строил бункер для командного состава, периодически находился на дежурствах у пушки или у пулемета, нес караульную службу, помогал хозяевам сажать картошку, ходил за водой на речку, носил из полевой кухни питание для взвода, учился приёмам боя и особенно – стрельбе из орудий и пулемета по самолетам, танкам и прочим целям. Выполнял, конечно, и другие обязанности.
Нам привезли плакаты с изображениями немецких самолетов, которые назывались по фамилиям их главных конструкторов или руководителей фирм-изготовителей. Это были «юнкерсы», «хенкели», «дорнье», «фокке-вульфы», «мессершмитты» и другие. Нам, зенитчикам, очень важно было знать, с какими вражескими самолетами мы имеем дело, чтобы к тому же не спутать их с отечественными.
Как-то меня послали дежурить ночью у телефона в штабном отделении. Я сидел за столом на узкой скамейке, не снимая шинель, меня немного трясло и клонило ко сну, поэтому я несколько раз пытался улечься на скамейке, прислонив винтовку к печке.
К полночи в хате появилась толстоватая, но довольно красивая хозяйка – хохлушка средних лет. Женщина представилась хозяйкой этой хаты и улеглась на широкой кровати.
Я с полным равнодушием смотрел на нее, что, вероятно, задело женское самолюбие. Она вдруг ласково сказала мне примерно следующее: «Ти такiй молоденький та гарненький, сидiш, мерзнеш. Подь до менi, я тобi согрiю. Мабуть нiколи нi спав с дивчиною, так i загинеш, не попробував жiнку. Це не гоже!»
Я прекрасно понял сказанное, но, сильно ослабший физически и подавленный морально, не отозвался на ее приглашение. Кроме того, комиссар батареи предупредил нас, что некоторые местные женщины в оккупации имели интимные отношения с немцами, да и от «погулявших» с нашими военными можно заразиться венерическими болезнями. Я так ничего и не сказал женщине, а вскоре от этой щепетильной ситуации меня избавил товарищ, пришедший мне на смену.
Между тем в село прибывали и прибывали новые воинские подразделения, в основном пехотные, и сразу же начинали окапываться, производить маскировку. Погода была ясной и солнечной, но немецких самолетов пролетало над селом очень мало и они не делали никаких попыток атаковать село и наши позиции, а наше командование приказало зенитчикам воздерживаться от открытия по ним огня.
В эти дни нас хорошо кормили и не было перебоев в получении махорки. Вечером всем давали по 100 грамм водки, однако уже через пару дней она мне опротивела, а потом врач запретил мне пить её из-за сердца. Свои порции «горячительного» я начал отдавать милому Михаилу Дмитриевичу, который был мне за это очень благодарен. Когда мы бывали с ним вместе, он с удовольствием рассказывал о своей семье – о жене, двух дочерях и сыне, по которым сильно тосковал и сокрушался от мысли, что больше их не увидит, так как предчувствовал, что жить ему осталось считаные дни. К сожалению, так оно и случилось.
…Вечером 11 мая после ужина командир нашего взвода лейтенант Кирпичёв распорядился, чтобы перед уходом ко сну мы получили «неприкосновенный запас» продуктов (так называемый энзэ). В него входили: три пачки концентрата с пшенной кашей, мешочек с сухарями из черного хлеба, тушка рыбы холодного копчения, шматок свиного сала, два десятка кусочков сахара и еще что-то. Выдали также щепотку соли, которую я завернул в бумажный пакетик и вложил в сумочку, где хранил дозы хинина.
Стало ясно, что завтра мы наконец пойдем в наступление. И вдруг нахальный боец Кусков спросил командира: «А как же баня? Ведь обещали утром устроить баню и сменить нижнее бельё. Мы давно не мылись и многие завшивели. Ведь нельзя же уходить на тот свет в грязном белье!» Но смутившийся командир взвода Кирпичёв не очень решительно оборвал его: «Молчать, выполняйте приказ!»
На следующее утро нас подняли очень рано и объявили, что начинается наступление. Наспех позавтракав «сухим пайком», запив его сырой водой, мы положили в вещевые мешки котелки и кружки, нацепили патронташ с патронами, флягу с колодезной водой и саперную лопату. С вещмешками за спиной и сумкой с противогазом через левое плечо, взяв винтовку или карабин, мы устремились к грузовикам. Погрузили в кузова скатки шинелей, личное оружие, ящики со снарядами и пулеметными лентами, выкатили с позиций обе пушки и прицепили их стволом назад к двум «бедфордам», пулемет поставили в кузов грузовика «ЗИС». Все заняли свои боевые позиции. Раздалась команда «Вперед!» и колонна двинулась. Замыкал колонну «бедфорд» с закрытым кузовом, где находились командир и комиссар батареи, командир взвода управления, старшина, санинструктор и еще кто-то. На этой же машине были ящики и мешки с продовольствием.
Еще до рассвета совсем незаметно для нас, зенитчиков, вперед ушли танки, а с ними на броне – мотострелковые батальоны 199-й и 198-й отдельных танковых бригад.
Передняя линия фронта находилась от Лозовеньки примерно в 40 км, и поэтому нам следовало преодолеть это расстояние, прежде чем вступить в соприкосновение с противником. А там, на передовой линии на участке нашей 6-й армии, уже с утра вступили в бой пехота и артиллерия, находившиеся на месте задолго до 12 мая.
Сзади нас двигались пешком, на автомашинах, а иногда на тракторах-тягачах стрелковые, артиллерийские и другие подразделения. Однако минометчиков среди них мы почему-то не видели. Обогнала нас какая-то кавалерийская часть, а мы не раз обгоняли большие группы пехотинцев. У многих бойцов на голове были каски. Проезжали мы и мимо обозов с повозками, запряженных лошадьми. Пехотинцы были вооружены в основном старыми трехлинейными винтовками образца 1891/1930 годов конструкции С. И. Мосина, некоторые несли за плечами и полуавтоматы (точнее – самозарядные винтовки) СВТ-40, плохо показавшие себя в боях. Имелись у бойцов также хорошо известные станковые «максимы» и ручные пулеметы конструкции В. А. Дегтярева. Противотанковые ружья ПТРС пехотинцы тащили вдвоем. Естественно, у всех бойцов имелись ручные гранаты трех типов – оборонительные, наступательные и противотанковые. У командиров были пистолеты и револьверы (наганы). Общий вес груза, включая одежду и обувь, который несли на себе пехотинцы, достигал 40 кг. У зенитчиков груз весил несколько меньше. Мы видели немало автотранспорта с боеприпасами, горючим, продовольствием и другими грузами. Большое удивление вызвал у нас грузовик, на котором ехали военные музыканты с духовыми и другими музыкальными инструментами.
С запада доносились звуки артиллерийской канонады, всё более и более усиливавшиеся по мере продвижения батареи. Часам к 10 утра канонада стихла: стало ясно, что артиллеристы и минометчики закончили интенсивный обстрел позиций немцев – огневую подготовку для пехотинцев. Едва мы вошли в село Михайловское, над нами в сопровождении пары вражеских истребителей Мессершмитт-110 появилась группа пикирующих бомбардировщиков-штурмовиков Юнкерс-87. Резко снизившись под большим углом к земле, они с устрашающих воем сирен, атаковали наши колонны, дали пулеметные очереди и побросали небольшие бомбы. И тут, не дожидаясь команды, наш боевой расчет начал стрелять «на глазок» длинными очередями по немецким самолетам. В тот момент никто совершенно не обращал внимания на свистевшие вокруг пули и падавшие осколки. Вслед за нами открыла огонь пушка второго взвода под командованием младшего лейтенанта Алексеенко и застрочил пулемет наводчика Чижа. Самолеты, к сожалению, благополучно улетели, убив двоих и ранив нескольких пехотинцев. Из нашей батареи получили ранение трое. Один тяжелое. Их с другими ранеными в сопровождении медицинской сестры отправили на повозке назад. Наконец мы увидели наши истребители, и, по-видимому, из-за этого немцы не возобновили налёт. Воспользовавшись затишьем, к нам приехала полевая кухня, и мы получили хороший обед из трех блюд.
К вечеру, когда мы прибыли в небольшую деревню и остановились на её единственной улице, опять начали налетать немецкие штурмовики и истребители, по которым обе наши пушки и пулемет почти с ходу открыли огонь. На этот раз мне и моим товарищам по орудийному расчету, не занятым на пушке, не осталось ничего другого, как вести по воздушным целям стрельбу из личного оружия. Стрелять пришлось так много, что ствол моей винтовки сильно разогрелся и жар от него доходил до ладони, несмотря на теплоизолирующую деревянную накладку. Стрельбу мы производили с примерным учетом скорости движения и направления полёта самолетов: посылали пули не точно в цель, а несколько вперед, чтобы попасть в носовую часть самолета.
Один из вражеских самолетов загорелся, и из него с парашютом выбросился летчик. Мы были твердо уверены, что это заслуга всей нашей батареи, и радовались успеху. Остальные самолеты улетели, но успели причинить большие потери воинским частям, двигавшимся впереди и сзади нас.
Вечером поступила команда приостановить дальнейшее движение и остаться ночевать в деревне. Здесь перед наступлением темноты мы почистили стволы пушек, пулемета и личного оружия, замаскировали соломой и ветками автомашины и готовые к бою орудия с ящиками боеприпасов, отрыли саперной лопатой индивидуальный окопчик и дождались приезда полевой кухни, получили ужин, 100 граммов водки, от которой на этот раз я не отказался.
Побыл час на карауле и принял дозу хинина, улегся спать, не расставаясь с винтовкой, противогазом и саперной лопатой, даже не взяв с грузовика скатку своей шинели. Как и многие другие бойцы, я лег прямо на землю возле своего окопчика.
День 13 мая, как и прошедший, выдался ясным и теплым. Батарея снова двинулась в путь, обгоняя колонны пехоты и других войсковых соединений. Километров через шесть наши автомашины внезапно остановились, так как дальнейшему движению мешала большая толпа военных, перегородившая дорогу. Все что-то с любопытством рассматривали и шумно обсуждали. Оказалось, слева от дороги, в 15 метрах от неё, на стерне лежит труп немецкого солдата. Правда, в немецких военных званиях я тогда совсем не разбирался, но, судя по простоте обмундирования, убитый офицером не был.
Кто-то сказал, что это – немецкий летчик, спрыгнувший вчера с парашютом, и что до приземления его подстрелили из винтовок пехотинцы. Я в этом засомневался, ведь убитый не был одет как летчик. На желтых петлицах мундира я увидел изображение птиц, распластавших крылья. Заметил еще, что на правой стороне его мундира на уровне груди имелось изображение взлетающего орла, несущего свастику. И мундир, и брюки солдата были темно-фиолетового цвета, что показывало на принадлежность убитого к связистам.
Местный житель высказал предположение, что солдат, наверное, немецкий разведчик, которого наши бойцы преследовали и почти схватили, но он застрелился. Легкий ветерок трепал его огненно-рыжие длинные волосы. Под головой виднелась лужа крови.
Кто-то из наших снял с убитого добротные сапоги, сшитые из толстой свиной кожи. На крепких подошвах этих сапог поблескивали шляпки множества стальных шипов, называвшихся по-немецки «цвеками». На каблуках были металлические подковы. Из карманов мундира убитого извлекли «Soldbuch» – солдатскую книжку, красную расческу и пачку резиновых презервативов, что вызвало сильную злобу у пожилых военнослужащих, говоривших, что презервативы являются доказательством того, что оккупанты насилуют наших женщин.
На шее у трупа висела на прочном белом шпагате овальной формы нержавеющая бирка – медальон смерти. На обеих его половинках были нанесены личный номер и кодированный номер войсковой части. Как нам объяснил майор-пехотинец, похоронная команда или товарищ погибшего обламывает половинку «медальона смерти», чтобы сообщить о месте его захоронения командованию и родным. При захоронении оставшуюся половинку жетона кладут погибшему в рот, благодаря чему его можно опознать даже через очень много лет. Поскольку наши бойцы похоронили немца с целым жетоном в безвестной могиле, о смерти и месте захоронения никто уже не мог узнать.
По прибытии в следующую деревню нашу колонну остановили и объявили, что командование направляет нас… в баню и на санитарную обработку («прожарку») одежды.
Походная баня (вернее – душевая) располагалась в большой зеленой палатке среди деревьев. Воду для мытья брали из речки с помощью насоса и подогревали на жидком топливе. Вся процедура мытья, а также обработки и «прожарки» одежды длилась примерно 45 минут. К счастью, немецкие самолеты в это время не сделали налёта.
Ночевал я на этот раз возле грузовика, положив рядом винтовку и накрывшись шинелью, что, однако, не избавило меня от приступа малярии, хотя накануне я принял дозу хинина.
Глава XIII
На другой день, 14 мая, после ставшего для нас уже обычным, завтрака «сухим пайком» с запиванием его сырой водой мы продолжили движение. Погода была по-прежнему солнечной. Ехали по разбитой проселочной дороге вдоль левого берега реки Берека, затем мимо села Алексеевка и дальше прямо по полю к цели, намеченной командиром батареи Сахаровым, очевидно, по топографической карте.
Английские грузовики часто застревали в пути, и нам приходилось много раз, отцепив пушки, выталкивать их из ям, толкая сзади. К счастью, нам помогали в этой тяжелой работе шоферы отечественных автомашин, обгонявших батарею, и ехавшие на них военные, а пару раз подсобили пехотинцы, которых мы обгоняли. Нашим автомашинам пришлось ехать по лугу, оказавшимся очень заболоченным. Три наших грузовика более или менее благополучно преодолели это место, а четвертый – застрял. Пытаясь его вытащить, бойцы выбивались из сил, но у них это не получалось. Тогда младший лейтенант Алексеенко стал громко материть их и бить прикладом винтовки измученных бойцов, грозясь расстрелять ленивых. К сожалению, были и такие бойцы, которые только создавали видимость старания.
Километров через шесть мы наткнулись на несколько разбитых автомашин и покинутые артиллеристами окопы. Вокруг валялось много стреляных гильз. Потом мы продвигались по местам, где побывали минометчики, а затем увидели длинные ряды окопов и блиндажей, где раньше находилась пехота. Было понятно, что мы оказались на одном из участков теперь уже бывшей передовой линии фронта, откуда части 6-й армии после артиллерийской подготовки перешли в наступление. Мне вспомнилось, что утром, выступая из Лозовеньки, мы слышали канонаду, доносившуюся, видимо, из этих мест. Один из ехавших с нами пожилых товарищей, уже побывавший на фронте, сказал, что в прошедшие два дня сопротивление немцев было, вероятно, слабым. Мы поняли, что именно отсюда шли и ехали в тыл раненные бойцы, недавно повстречавшиеся нам на дороге.
Прибытие нашей батареи на бывшую передовую линию фронта ознаменовалось тем, что над нами сразу же и совсем неожиданно появилась тройка немецких штурмовиков. Они резко снизились и атаковали нас. Мы даже не успели подготовиться к бою. Пока Виктор Левин и я, ехавшие на пушке, а также другие два наводчика на втором орудии спешно наводили на цель стволы орудий, самолеты уже улетели. Во время обстрела и бомбежки погиб подносчик снарядов из второго огневого взвода и получили ранения разной тяжести трое других бойцов. К счастью, наши пушки и пулемет не пострадали, но осколком бомбы пробило колесо грузовика. Шоферы Журавлев, Загуменнов и другие быстро сменили поврежденное колесо, и батарея, забрав с собой убитого и раненых, поехала дальше.
Скоро мы добрались до юго-восточной окраины населенного пункта. Это было село Берека, расположенное почти у истоков реки того же названия. В селе еще дымились сгоревшие во время боя хаты. Мы видели трупы коров, овец, лошадей, убитых пулями и осколками. Чувствовался противный запах мертвечины, смешавшийся с запахом сгоревшего навоза.
Заезжать в село батарея не стала. Мы углубились в лес километра на два по узкой дороге с большими рытвинами и остановились на поляне, через которую протекала речка с чистой водой. После жуткого запаха мертвечины в освобожденном от немцев селе полным контрастом оказалось благоухание ландышей, росших в этом лесу в большом количестве.
Поскольку мы опять начали строить шалаши и землянки, можно было предположить, что наше пребывание здесь продлится не менее двух суток. И никто не мог объяснить мне причину такой медлительности. По вражеским самолетам, часто пролетавшим над лесом, было приказано огня не открывать, чтобы не выдать этим расположение батареи. Кроме того, всех предупредили, что на северной окраине леса, простирающегося на расстояние не менее 4 км, могут находиться немецкие части, а по лесу – «шнырять» их разведчики.
Спал я в шалаше, подстелив под себя лапник. Меня опять мучил малярийный озноб, длившийся около часа. В это время ко мне приходил Вася Трещатов с просьбой сменить его на посту возле пушки. Но, увидев моё состояние, он вернулся на пост и отстоял за меня еще один час.
15 мая меня разыскали комиссар батареи Воробьев и парторг Агеев, напомнившие мне о необходимости выпустить очередной «Боевой листок», ставший, как оказалось, последним. Комиссар дал мне небольшую заметку об успешном наступлении наших частей с призывом к бойцам – выполнить любой ценой свой священный долг защитников Отечества.
Я немедленно принялся за дело, взобравшись на кузов грузовика, где использовал в качестве стола одну из скамеек. Я дополнил принесенную комиссаром заметку, написав, в частности, несколько добрых слов о погибшем вчера подносчике снарядов и о трех раненных бойцах.
Утром группа бойцов стала рыть необычно длинную и глубокую яму. После обеда к этой яме, распространяя запах разлагающихся тел, подъехали две грузовые автомашины с останками более 20 убитых бойцов и командиров, которых специальная команда подобрала на местах боев, прошедших за последние трое суток. Некоторые тела уже сильно вздулись и почернели. К ним присоединили и тело нашего убитого вчера подносчика снарядов. Всех захоронили в братской могиле. Тела уложили в яму без гробов и в той же одежде, в которой они были при жизни: кто в шинели, а кто лишь в гимнастерке и брюках. Некоторые сильно изуродованные трупы были завернуты в плащ-палатки. Несколько человек, находившихся поблизости с ямой, бросили в неё по горстке земли, и могильщики засыпали яму. На холмик положили несколько пилоток и фуражек погибших и установили на могиле полутораметровый столб из досок в виде усеченной пирамиды, на которой с каждой из сторон были написаны черной краской фамилии и инициалы захороненных. Над столбом закрепили пятиконечную красную звезду из фанеры. Комиссар и командир сказали полагающиеся при таком случае добрые слова о покойных, поклявшись отомстить за них врагу и «уничтожить фашизм в его логове». Десяток бойцов, выстроенных поблизости, дали вверх несколько залпов из винтовок, и на этом церемония похорон закончилась.
День и ночь 16 мая обошлись без чрезвычайных событий, все несли обычную службу. Утром снабженцы привезли для нашей батареи дополнительное количество ящиков со снарядами и патронами. Мы перенесли их с интендантских грузовых автомашин на свои грузовики. Наше командование было недовольно тем, что нам не доставили бронебойных снарядов и не привезли в достаточном количестве осколочных, способных поражать вражеские самолеты и танки. Снаряды были главным образом зажигательными и трассирующими.
В тот день для всей нашей 199-й отдельной танковой бригады и иных воинских частей, дислоцировавшихся вместе с нами, привезли средства, необходимые для ведения наступательных боев, в основном боеприпасы и горючее для танков, бензин для автомашин, продовольствие для всего личного состава войск, медикаменты и прочие вещи. Весь день бойцы разгружали привезенное. Но один из командиров отметил, что топлива для танков явно недостаточно, его хватит не более чем на пару дней. Своему товарищу он также пожаловался, что придется экономить снаряды.
День 17 мая оказался очень беспокойным. Нас разбудили очень рано и, не дав позавтракать, заставили немедленно сняться с места. Многие не успели даже свернуть шинели. Мы положили в карманы два-три кусочка сахара и пару сухарей, чтобы позавтракать на ходу. На машинах мы подъехали к железной дороге, связывающей, по-видимому, Харьков на севере и Лозовую на юге. Перед нами открылась уже знакомая картина: убитые пехотинцы в залитых кровью шинелях, трупы лошадей, так и оставшихся запряженными в разбитые повозки. По-видимому, и люди, и кони погибли вчера при нападении немецких штурмовиков. Оружия рядом с убитыми не было.
Переехав железную дорогу, колонна двинулась на запад по проселочной дороге к Ефремовке, селу, расположенному на реке Орель, впадающей в Днепр. (В настоящее время река Орель с притоками входит в систему канала «Днепр – Донбасс».) По состоянию дороги, по которой мы двигались, было видно, что совсем недавно по ней в очень большом количестве проехали танки. Через некоторое время стали слышны выстрелы танков, артиллерийских батарей, а потом – минометов и стрелкового оружия. Было понятно, что вот-вот появятся вражеские самолеты. И действительно, мы увидели более десятка немецких самолетов. Не дожидаясь команды лейтенанта Кирпичёва, мы быстро открыли по ним огонь. Но самолеты быстро улетели, нанеся немалые потери залегшей пехоте и автомашинам, направлявшимся на линию фронта. Где-то впереди они атаковали наши танки, но там самолеты были недосягаемы для снарядов наших орудий, и мы ничем не могли помочь танкистам и мотопехоте. Оставалось только возмущаться, что на небе тогда не оказалось ни одного советского истребителя.
К вечеру мы остановились в чистом поле, заехав в широкий овраг, получили с полевой кухни и обед, и ужин одновременно. Затем каждый сделал себе окопчик, который застелили остатками прошлогодней соломы, собранной с поля. Перед отходом ко сну многие бойцы скрутили по «козьей ножке» и покурили, прикрывая ладонью огонь от цигарки, чтобы его не смог увидеть неприятель. Хотя всполохи на небе и звуки выстрелов прекратились, раздавались очереди немецких автоматов и одиночная стрельба из винтовок с нашей стороны, и небо периодически освещали ракеты. В этот день мы оказались рядом с линией фронта – на расстоянии, наверное, не более трех километров. Недалеко от нас встали на ночь танки 199-й отдельной танковой бригады. В овраге, где мы устроились на ночлег, разместились полевые и переносные кухни. Повара ночью совсем не спали, готовя нам завтрак. Утром нас накормили горячей вермишелью с мясом, компотом и свежим черным хлебом, и мы рванули вперед. Кухню, обслуживавшую нашу батарею, командование оставило на месте, чтобы она приготовила и потом доставила нам обед.
Ещё до рассвета утром 18 мая наши танки с мотопехотой уже выехали на передовую и открыли огонь по позициям немцев. Они двигались, прикрывая своими корпусами мотопехотинцев, соскочивших с брони на землю, и бойцов основной пехоты, поднявшихся из окопов. Немцы отступали, обстреливая пехотинцев из автоматов, пулеметов и минометов, а танки – из противотанковых орудий. Разумеется, мы этого не видели, но хорошо себе представляли по рассказам товарищей, непосредственных участников тех боев.
Сначала мы доехали до линии, откуда вели огонь артиллерийские орудия, затем и до мест, где находились минометчики. Стоял неимоверный грохот, и нам опять пришлось увидеть нескольких павших бойцов и около десятка раненых, которых вели в тыл их товарищи, а также передвигавшихся самостоятельно. Три-четыре вражеские мины разорвались и перед нашими автомашинами.
Вскоре батарея остановилась перед лесом. Там раньше нас побывала пехота, и в результате боя немцы и здесь покинули свои окопы и ушли, отстреливаясь короткими автоматными очередями и бросая гранаты. Пехотинцы преследовали их только редкими выстрелами из винтовок. Наши бойцы на английских танках не могли помочь пехотинцам, потому что в лесном массиве эти танки не были способны передвигаться.
Командир батареи Сахаров приказал установить обе пушки и пулемет в овраге на расстоянии примерно 200 метров от леса. Он ожидал, что вражеские самолеты опять начнут налет. Не успели мы выполнить этот приказ, как самолеты действительно появились, но спокойно пролетели над нами, не обратив внимания на посылаемые нами снаряды и пули. А танки и автомашины, замаскированные накануне в лесу, они, видимо, не заметили.
Лишь к вечеру появилась полевая кухня, предоставившая нам, как это уже не раз бывало, и обед и ужин одновременно. После «трапезы» я, Вася Трещатов, Виктор Левин и еще ряд бойцов отправились в лес, чтобы там найти воду. На обратном пути мы подошли к брошенным немецким окопам. Здесь наше внимание привлекли обрывки красивых упаковок и остатки продуктов – в основном это были мясные и рыбные консервы, включая великолепные шпроты из Португалии в овальной металлической банке, различные колбасы, окорока и сосиски, сливочное масло, белый хлеб, а также шоколад, печенье, пирожные, джемы, кофе, какао и прочие деликатесы, о которых мы и мечтать не могли. Один из пожилых военных уверял, будто у немцев, долго готовившихся к данной войне, белый хлеб мог быть выпечен заранее и годами храниться в плотной упаковке.
Обнаружили мы и остатки сигарет (раньше я их никогда не видел), пузырьки из-под одеколона, уже опустошенные бутылки рома, коньяка, сухих вин и других напитков. Мы подобрали газеты и богато иллюстрированные журналы с четкими черно-белыми фотографиями, графическими рисунками и карикатурами. Там были уродливо изображены И. В. Сталин с огромными усами, У. Черчилль с сигарой во рту, Ф. Рузвельт в инвалидном кресле, американские капиталисты, красноармейцы в буденновках, «жиды-комиссары» с длинными острыми носами и другие. Немецкие издания были напечатаны на хорошей бумаге, но она, к великому сожалению многих бойцов, оказалась совсем не пригодной для цигарок.
Я подобрал в окопах несколько немецких газет и журналов и, вытащив из нагрудного кармана гимнастерки свой маленький немецко-русский словарь, начал с его помощью читать и переводить для окружающих заголовки и подписи под иллюстрациями. Некоторые бойцы просили перевести для них заинтересовавшие их тексты.
К моему большому удивлению, среди таких лиц любопытствующих оказался и… пожилой комиссар мотострелкового батальона нашей танковой бригады, и лейтенант-танкист, командовавший танковым звеном. Я с удовольствием выполнял эти просьбы. К нам стали присоединяться все больше и больше людей, поэтому батальонный комиссар приказал всем разойтись, а меня по-доброму предупредил, чтобы я больше «не занимался чтением вражеской литературы» и не привлекал к этому товарищей, иначе возникнут «большие неприятности». Он посоветовал также молчать об этой находке и коллективном чтении.
Глава XIV
19 мая к рассвету темные дождевые тучи быстро рассеялись, и, как и в предшествовавшие дни, погода выдалась солнечной и жаркой. Но утром из-за прошедшего дождя было несколько свежее. Нас разбудили, как всегда, очень рано, и позавтракать пришлось в быстром темпе кашей и чаем. Предстояло опять двигаться за танками и мотострелковым батальоном. Первый орудийный расчет, к которому я относился, лейтенант Кирпичев определил в тот день быть запасным, а работать на пушке назначил второй расчет. Меня он послал на помощь пулеметному расчету в распоряжение старшего сержанта Чижа, с которым я, как и почти со всеми товарищами по взводу, был в очень хороших отношениях. С основными личными вещами я перебрался со своей автомашины на грузовик, на котором находился пулемет.
Пулеметный расчет, в котором, кроме Чижа, был также любимец всей батареи – мальчик Лёня, принял меня радостно. Обычно малоразговорчивый, Чиж был тогда сильно возбужден: смешивая, как обычно, украинские и русские слова, он заявил, что, возможно, сегодня мы освободим от немцев его родную деревню, находящуюся совсем недалеко – километрах в 5–6 от нас. Тогда он обязательно забежит в свою хату, обнимет супругу, детей, родителей и других близких.
…После завтрака батарея, снявшись с позиций, двинулась за танками 199-й отдельной танковой бригады и за её мотострелковым батальоном. Они добрались до реки Берестовая и форсировали её на разных участках, оставив позади несколько деревень и сел. Одно из них имело очень необычное название – Парасковия. На противоположном берегу Берестовой танки и пехота с ходу вступили в бой с немцами, имевшими на этом участке крепкие оборонительные позиции. На этот раз нашим танкам и пехоте не удалось преодолеть позиции противника, так как он открыл сильнейший огонь из противотанковых и других орудий, минометов, пулеметов и ручного автоматического стрелкового оружия. Немцы также бросали из окопов на танки связки гранат и зажигательные средства. Атаковавшие части понесли значительные потери в живой силе и технике. В результате на некоторое время бой прекратился.
Наша батарея не доехала до реки Берестовой километра три и часам к 10 остановилась в примыкавшей к ней балке, где протекала узенькая и почти пересохшая речка. Вода в этой речке появлялась только ранней весной и во время дождей. Обе пушки вместе с ящиками для снарядов мы установили на правом берегу упомянутой речки. Расстояние между орудиями было около 100 метров. Выше уровня речки метров на 10 и в отдалении от орудий метров на 50 разместили на наклонной правой стороне неширокого сухого оврага, расположенного поперек к балке и заканчивающегося в ней, грузовую автомашину ЗИС с зенитным пулеметом. Два «бедфорда» водители поставили вдалеке от орудий, по разные стороны от них.
…Между тем за рекой вновь раздался сильный шум боя. Это танки и пехота снова предприняли атаку на позиции немцев. Но сейчас положение атакующих было значительно хуже, чем в первый раз, так как на них налетели несколько пикирующих бомбардировщиков-штурмовиков. При этом мы, зенитчики, снова не открыли огонь, так как цели находились слишком далеко от нас и мы не хотели расходовать боеприпасы впустую.
Многие танки оказались подожженными или подбитыми, а остальные машины прекратили движение и отъехали на безопасное расстояние. В нашей 199-й отдельной танковой бригаде пострадали в основном те английские танки, которые имели карбюраторный двигатель. Потеряли много танков также 198-я отдельная танковая бригада и действовавший юго-западнее села Староверовка 23-й танковый корпус вместе с двумя приданными ему отдельными танковыми бригадами. Остановились все пехотные части. Почти полностью утихла стрельба из минометов и полевых артиллерийских орудий. Снова не обошлось без потерь убитыми и ранеными, главным образом – среди пехотинцев, наступавших вместе с танками. Примерно к полудню все атаки наших частей были прекращены.
В это время по балке мимо зенитной батареи проехали назад около десятка отечественных танков 199-й отдельной танковой бригады. Они тащили за собой на буксире при помощи тросов несколько не очень сильно поврежденных в бою английских танков, которые можно было восстановить силами самого экипажа. Пару таких танков их водители упросили оставить для ремонта недалеко от расположения нашей батареи, что вызвало недовольство командира – старшего лейтенанта Сахарова. Он посчитал это опасным: оба танка с воздуха могли обнаружить самолеты противника, что причинило бы большие неприятности и зенитчикам. Однако танкистам все же позволили заниматься своим делом на прежнем месте.
Вскоре лейтенант Кирпичёв пришел проверить готовность к бою нашего зенитного пулемета. Потом он неожиданно отвел меня в сторону и сообщил плохую весть. Оказывается, танкисты Сахарову сказали, что будто бы получен приказ о прекращении дальнейшего наступления на нашем участке фронта и о переходе исключительно к оборонительным боям. Глубоко в тылу 6-й армии оказались немецкие танки и, возможно, нам придется отступать, чтобы не попасть в окружение.
После 14 часов я, стоя на кузове грузовика ЗИС рядом с пулеметом и ожидая появления давно ожидавшейся всеми полевой кухни с обедом, увидел вдалеке, что, форсировав реку Берестовую, в тыл движется большая колонна танков. По-видимому, это был 23-й танковый корпус. Позднее я узнал, что высшее командование решило перебросить его на помощь войскам Южного фронта. Самолеты неприятеля могли обнаружить танки и поэтому зенитчикам следовало приготовиться к отражению налета. И действительно, самолеты не заставили себя долго ждать: над батареей появилась со страшным воем эскадрилья пикирующих бомбардировщиков-штурмовиков. Но истребителей с ними не было, так как наши самолеты, способные противостоять вражеской авиации, уже давно не летали.
Оба зенитных орудия и пулемет, который обслуживал и я в качестве помощника наводчика и подавателя лент с патронами, без промедления открыли по целям огонь. Однако стрельба не дала положительного результата. Самолеты, как и вчера, пролетели, не трогая нас. Но через некоторое время – на обратном пути – они принялись за нас, а также за стоявшие недалеко автомашины и ремонтируемые танки. Сделав на небе пару разворотов, они дали несколько пулеметных очередей и побросали небольшие бомбы. Мы открыли по ним огонь.
Особенно хорошо постреляла пушка второго взвода, на которой «колдовал» первым наводчиком мой земляк и соплеменник старший сержант Василий Алексеев. Возможно, благодаря Василию и к великой радости всех нас, один из пикирующих бомбардировщиков загорелся и рухнул на землю на воздухе где-то на северо-западе, подняв огромный столб пламени и дыма.
Самолеты разбили пару автомашин, убив и ранив водителей, повредили машину медсанчасти и ранили несколько других лиц, не сумевших вовремя и надежно укрыться. Была легко повреждена наша английская автомашина, однако совсем не пострадали оба ремонтировавшихся танка. Но самым плохим последствием налета оказалось то, что бомбами уничтожило полевую кухню вместе с ее грузовиком, на котором находился бидон с водкой. К счастью, водитель и повара успели быстро укрыться и не пострадали.
О несчастье с полевой кухней нам сообщил подошедший проведать своего подопечного – мальчика Лёню – старшина Ермаков. Всему личному составу батареи пришлось ограничиться «сухим пайком». Пулеметчики достали из вещевых мешков вяленую рыбину, сухари и несколько кусочков сахара. Я ограничился тем, что выпил немного воды из фляги, а напиться досыта не решился, так как найти поблизости воду было трудно. Замечу, что из-за болезни я совсем потерял аппетит и даже чувствовал отвращение к пище. Мне чаще всего хотелось пить, вероятно, потому, что я ежедневно принимал хинин. В результате с каждым днем я слабел физически.
…В тот день танки вместе с мотострелковыми батальонами покинули передовую, оставив там только пехотные части. Теперь, по логике, и нашей батарее предстояло сняться с позиций и последовать за 199-й отдельной танковой бригадой, так как мы входили в её состав. Но зенитчикам приказа об этом еще не поступало.
Вдруг мы заметили, что к ремонтировавшимся танкам подъехала грузовая автомашина, на открытом кузове которой сидели два красноармейца с винтовками, а между ними – человек без оружия. К этой машине стали собираться бойцы. Старший сержант Чиж попросил меня и еще двух солдат узнать, в чем там дело. И мы побежали туда. Оказалось, на машине находились часовые и пленный немецкий солдат. Он был молоденьким и, как я, тоже худеньким.
Сегодня утром его нашли в том самом лесу, где вчера немцы покинули окопы. Якобы он более суток сидел на дереве. При нем оказались рация и автомат, из которого он почему-то не стрелял. Многие из окруживших грузовик с пленным громко кричали на него, грозились прикончить фрица, но часовые не давали этого сделать. Особенно негодовал пожилой водитель танка, попытавшийся даже взобраться на грузовик. Он кричал, что его семья осталась в оккупированной Смоленской области, и, может быть, ее уже нет и в живых. Пленный дрожал всем телом и, не понимая ни слова по-русски, молчал, бросая на всех беспокойные и умоляющие взгляды темных глаз.
Мне удалось протиснуться к грузовику и задать пленному по-немецки первый пришедший в голову вопрос: «Infanterie?» (Пехота?) И тут все окружавшие автомашину вдруг затихли, удивившись моему поступку, и стали ждать ответа от немца. «Nein, nein. Funker» (Нет, нет. Радист), – произнес тот, почувствовав какую-то надежду на лучшее в своей судьбе. «Значит, он был разведчиком и сообщал своим о наших передвижениях», – определил кто-то.
После ответа на мой вопрос немец спросил, что его ожидает и, не дождавшись ответа, стал что-то говорить и говорить. А я, до сих пор не слышавший живой и быстрой немецкой речи, многого не мог понять. Я хотел дать немцу свой немецко-русский словарь, но тот лишь замахал рукой: «Kann nicht, kann nicht» (Не могу, не могу). Скорее всего, он не знал русского алфавита. У меня вдруг возникла жалость к этому беспомощному пленному.
Дальнейшее общение с немцем на этом прервалось, потому что над нами появилось звено вражеских штурмовиков, и все моментально разбежались кто куда. Лишь двое часовых по-прежнему остались с пленным. Я с товарищами поспешил на помощь Чижу и его напарнику Лёне, чтобы открыть огонь из пулемета. По-видимому, немецкие пилоты были сильно озлоблены из-за того, что накануне нами был сбит их самолет, и потому сразу атаковали нас, метров за 300 до нас головной штурмовик резко спикировал, сбросив бомбы. Мы все хорошо знали, что если бомбардировщик сбросит бомбу, находясь прямо над целью, то она пролетит мимо и упадет где-то впереди в соответствии со скоростью полета самолета. В данном случае все мы отлично поняли, что дело обстоит иначе, и моментально попрыгали с грузовика. За два-три прыжка я достиг окопа и плюхнулся в него, но Чиж и мальчик Лёня не успели скрыться.
Один за другим раздались взрывы двух бомб. И хотя я предусмотрительно открыл рот, чтобы не пострадать от звуковой волны, у меня сильно зазвенело в ушах. Я совершенно оглох и уже не слышал звука падавших вокруг осколков. Всё заволокло пылью, в разные стороны летели комья земли, куски дерева от разбитого кузова машины, металлические части разбитого пулемета, стреляные гильзы и даже пули.
Вдруг до меня донесся резкий запах бензина, вероятно, вытекшего из кабины грузовика. И тут же в голову пришла мысль, что бензин может вспыхнуть и вызвать страшный пожар и даже взрыв. Я мог оказаться в пламени пожара или в очаге взрыва. Поэтому с невесть откуда взявшимися силами я быстро вылез из окопа и побежал в более безопасное место.
Между тем немецкие самолеты развернулись для новой атаки. На миг мне вспомнилось, как однокурсник по институту Лёва Гробман на трудовом фронте при воздушных налетах прикрывал голову металлической частью лопаты. Я автоматически поступил так же и достал из потайного карманчика мамин талисман. Нажав на него указательным пальцем правой руки, я произнес тихо, но уверенно заклинание, которое в переводе на русский язык звучит примерно так: «Я останусь целым и невредимым. Я одержу, одержу победу над опасностью».
Неожиданно рядом со мной оказался старшина Ермаков. Он что-то говорил, но я ничего не слышал. Вдруг метрах в 40 от нас взорвалась бомба. Я почувствовал на правой стороне спины, в нескольких местах, резкую, но не очень сильную боль, будто от уколов тонкими иглами. Позднее выяснилось, что боли в спине и небольшое кровотечение были следствием проникновения в тело очень мелких осколков. Они оставили на гимнастерке и нательном белье почти незаметные дырки. Шерстяной свитер в тот день я не надел, благодаря чему он благополучно сохранился в вещевом мешке. Примерно через полгода две-три осколочные частицы вышли из спины сами, а другие товарищи извлекли булавкой и иглой. К счастью, каким-то чудом слух у меня неожиданно полностью восстановился.
После налета среди обломков грузовика мы обнаружили изуродованные тела Чижа с обширной раной на груди и Лёни. Голову мальчика полностью снесло осколком. Рядом лежали два серьезно раненных бойца пулеметного расчета.
Увидев бездыханное тело Лёни, Ермаков зарыдал, восклицая с отчаянием: «Это я тебя погубил! Зачем я не оставил тебя дома! А где же наши самолеты, почему они не защищают нас!» Я не мог этого вынести и отошел, едва сдерживая слезы.
Грузовик с пленным и его охранниками был также превращен в обломки. Возможно, немцу пришлось принять смерть от своих же самолетов! Но мне было не до того, чтобы выяснять его судьбу.
Оба наших орудия уцелели при налете. Убитых не было. Три грузовика зенитной батареи стояли на прежних же местах. Мне не осталось ничего другого, как явиться в распоряжение своего непосредственного командира – лейтенанта Кирпичёва, и я отравился к пушке первого взвода, боевым расчетом которого при всех сегодняшних налетах командовал лично сам лейтенант. Кирпичёв направил меня на помощь водителю Журавлеву, чтобы привести в порядок автомашину, пострадавшую при налете.
Обходя воронки от бомб, я прошел уже около половины пути, когда вдруг услышал душераздирающие стоны и увидел молоденького, моего возраста тяжело раненного лейтенанта, пытавшегося ползти, лежа на спине. По-видимому, он служил где-то в штабе, так как был одет в новенькую зеленую гимнастерку не с темно-зелеными – полевыми, а с малиново-красными петлицами и в темно-синие брюки-галифе, заправленные в добротные, начищенные до блеска, черные хромовые сапоги. Гимнастерка на нем была посредине разорвана. Широкий («комсоставский») темно-коричневый поясной ремень с латунной пряжкой в виде большой пятиконечной звезды был также разорван. На животе у лейтенанта зияла огромная рана, из которой вытекала кровь, оставляя на зеленой траве красную полосу. Самым ужасным оказалось то, что у раненого из распоротого живота вывалились кишки, тянувшиеся за ним по земле. Заметив меня, несчастный лейтенант стал просить слабеющим голосом: «Товарищ, товарищ, умоляю тебя – ради Бога, застрели меня!» Потрясенный увиденным и не зная, чем помочь обреченному на смерть, я добрался до грузовика медсанчасти, вокруг которого находилось более десятка раненых. «Там умирает лейтенант!
Помогите, помогите ему!» – закричал я, увидев пожилую медсестру и показывая ей, где находился раненый. Едва я добрался до своего грузовика и не успел еще подкрепиться «сухим пайком», как появились два немецких самолета. Мы с Журавлевым бросились в поле в разные стороны. Мне попалась на пути воронка от взрыва, я быстро впрыгнул в нее. Известно, что такое место являлось самым подходящим для спасения, поскольку вероятность точного попадания в воронку бомбы или снаряда ничтожно мала. К счастью, самолеты совершили только облет местности и удалились.
Выбравшись из воронки, я прошел, наверное, не более 20 метров и упал, споткнувшись об кочку. Подняться и идти дальше не было ни сил, ни желания. Я решил немного отдохнуть под теплыми лучами солнца и заснул под щебетание птиц, жужжание пчел и стрекоз, оживших с прекращением оглушительного шума. И мне было все равно, идет война или нет.
Проснулся я из-за того, что кто-то сильно тряс меня. Это оказался Вася Трещатов, звавший меня: «Юр, проснись, вставай! Пойдем хоронить ребят, попрощаемся с ними!» Я с трудом встал на ноги и поплелся с другом туда, куда он указывал.
Эта безвестная могила после войны наверняка не сохранилась, и родные Чижа, вероятно, так и не узнали, что останки их близкого человека истлели в земле совсем недалеко от его родной деревни.
После похорон наших павших товарищей командир батареи Сахаров объявил, что мы должны срочно сняться с позиций и ехать на восток. Бойцы и командиры забрали из машин свои шинели, вещевые мешки, сумки с противогазом и личное оружие. При этом я с ужасом обнаружил, что моей винтовки в кузове нет: по-видимому, её кто-то взял по ошибке, так как в кузове осталась одна винтовка, не имевшая ствольной накладки. Делать было нечего – пришлось взять эту винтовку и надеяться, что подмену не заметят.
Немного отдохнув, весь личный состав батареи занялся снятием с позиций обоих орудий и погрузкой ящиков со снарядами на грузовики. Чистить стволы орудий не стали из-за отсутствия времени. Пока мы вели погрузочные работы, водители автомашин отправились к разбитому при бомбежке грузовику ЗИС и выбрали из обломков отдельные части и детали, которые еще могли пригодиться.
К рассвету 20 мая мы доехали до участка железной дороги между станциями Первомайский и Тарановка и далее – до села Алексеевка, около которого в поле увидели множество больших брезентовых палаток с красным крестом сверху. Оказалось, что там устроен полевой госпиталь. Там мы оставили тяжело раненных, а одного товарища забрали с собой по его настойчивой просьбе. После полудня оказались снова у села Лозовенька. На этот раз нашему взводу отвели для пребывания крайний двор с небольшой хатой, крытой соломой.
К вечеру я совсем обессилел; санинструктор Федоров, измерив мне температуру, нашел, что она упала до опасного уровня – ниже 36 градусов. Я совсем не хотел есть, во рту сильно горчило, всё время мучила жажда, с головы клочьями лезли волосы. Лейтенант Кирпичёв приказал Федорову отвести меня с необходимыми сопроводительными бумагами и приехавшего с нами раненного бойца, которому стало хуже, в полевой госпиталь, находившийся недалеко от нас. Там мы застали страшную картину: внутри палаток и вне их сидели и лежали на земле раненые, везде были лужи крови, грязь и человеческие испражнения. Увидев эту обстановку, я решил, что ни за что здесь не останусь, да и Федоров сказал, что из-за переполненности госпиталя меня – обычного больного, не нуждавшегося в хирургической операции, принять не могут, но дали с собой немного хинина.
Мы вернулись в часть почти ночью. Меня радостно приняли обратно и отправили спать в какую-то хату с разбитыми стеклами. Кирпичев настоял, чтобы я выпил 100 граммов водки, закусив сухариком и кусочком сала. Я выпил с сахаром кружку горячего и крепкого чая, вскипяченного в котелке над костром. Утром 21 мая мне стало гораздо легче, появился аппетит, настроение улучшилось.
Глава XV
21 мая после завтрака лейтенант Кирпичёв приказал нашему орудийному расчету сменить в первом огневом взводе второй расчет, уже находившийся двое суток на боевом дежурстве. Я, как всегда, сел в «кресло» второго наводчика. В то же время смененный боевой расчет приступил к рытью нескольких длинных и глубоких укрытий, а также индивидуальных защитных окопов. Имелось в виду, что при налетах и минометно-артиллерийском обстреле все, кто находился у пушки, могли бы спрятаться.
Мы были твердо уверены, что для немцев не осталось незамеченным скопление в Лозовеньке и вокруг села наших отступающих войск, особенно пехоты, танков и другой боевой техники. Самолеты немцев вот-вот могли начать налеты, пользуясь ясной погодой и полным отсутствием нашей авиации. Немецкие пилоты, конечно, знали и о слабой эффективности наших зенитных батарей. К тому же зенитчики, как я уже упоминал, не имели достаточно орудий и боеприпасов, в т. ч. снарядов, способных полностью разрушить или воспламенить обстреливаемый объект.
Примерно в 9 утра, когда мы только-только закончили очистку ствола пушки, появилось около 15 немецких бомбардировщиков-штурмовиков и самолетов других типов. Они резко снизились и начали атаку. Пикируя, как обычно, с громким ревом сирен, самолеты на бреющем полете обрушились на плохо замаскированные автомашины и на окопы. Они сбрасывали небольшие осколочные и зажигательные бомбы и поливали нас струями пуль.
Наше орудие и пушка второго огневого взвода, которыми на этот раз командовали оба взводных командира – Кирпичёв и Алексеенко, быстро открыли огонь по целям в основном короткими очередями. Нас поддержали зенитчики другой батареи, по-видимому, относившейся к 198-й отдельной танковой бригаде и расположенной на противоположном конце села. Повела огонь и еще одна батарея, стоявшая далеко в поле где-то южнее Лозовеньки. Стали стрелять из винтовок и карабинов орудийные расчеты, свободные от пушек, а также другие военнослужащие. Начался оглушительный грохот от стрельбы и взрывов бомб, поднялась страшная пыль, застилавшая глаза.
Пули несколько раз просвистели рядом с нашей пушкой, однако никого не задели. Не пострадало и второе зенитное орудие, но около десятка хат и дворовых построек, крытых в основном соломой, загорелись от зажигательных бомб. Сквозь грохот послышались стоны раненых и причитания женщин. Громко замычали коровы, завизжали свиньи, заблеяли овцы и козы, закудахтали куры и зогоготали бродившие возле речки гуси. Налет авиации длился около 15 минут, а мы постреляли по самолетам не более 10 минут, экономя снаряды. Ни одного самолета сбить не удалось. Потери убитыми и ранеными от воздушного налета понесли главным образом пехотинцы. Но среди пострадавших оказались также местные жители, не успевшие спрятаться в погребах или в подвалах. Нас немного утешило то, что никто из личного состава батареи не получил даже маленькой раны.
Когда все стихло, к нам подошел командир батареи старший лейтенант Сахаров, напомнивший нам о необходимости экономить боеприпасы и вести огонь более точно. Комиссар батареи политрук Воробьев, наоборот, вел себя со всеми очень участливо, нашел для каждого много хороших, теплых слов. Он сказал мне, что знает о моем вчерашнем посещении госпиталя и нежелании остаться там. Он поинтересовался моим самочувствием и пожалел, что из-за сложившейся ситуации мы не можем заняться выпуском «Боевых листков».
Пришло обеденное время, однако после пережитого и гибели товарищей у многих не было аппетита. Но я заставил себя поесть, чтобы окончательно не обессилеть. К удивлению многих, и первое и второе блюда были мясными, и в них находилось даже больше мяса, чем следовало. Оказалось, что это конина. Одну из наших лошадей тяжело ранило осколком бомбы, а потом бойцы пристрелили ее, чтобы бедное животное не мучилось зря. С раненными лошадьми на фронте почти всегда поступали аналогичным образом, так что кониной мне пришлось питаться много раз.
После обеда мы рассчитывали немного передохнуть, однако сделать это не удалось: снова появились немецкие самолеты. И опять все происходило почти как в первый раз: мы постреляли немного и снова безуспешно, стали свидетелями гибели людей, автомашин, пожаров и т. д. В этот раз я заметил, что самолеты, пролетая над полевым госпиталем, где я вчера побывал накануне, почему-то не сбросили на него ни одной бомбы. Неужели они обратили внимание на большие красные кресты на палатках и проявили гуманность?
При этом налете я лишился своего старшего товарища – Михаила Дмитриевича Журавлева. Как мне рассказали очевидцы, Михаил Дмитриевич и молодой шофер Загуменнов, с «бедфорда» второго огневого взвода, занимались у речки ремонтом грузовика. И как раз в это время налетели самолеты, которые сразу засекли четкий объект для нанесения удара. Бомба разнесла автомашину и тяжело ранила в грудь Михаила Дмитриевича. Случайно уцелевший Загуменнов прибежал к санинструктору Федорову и вместе с ним принес на носилках истекавшего кровью Михаила Дмитриевича, который находился в полном сознании. Он отказался от отправки в госпиталь, заявив, что ему все равно больше не жить, и попросил его не тревожить. Он успел попрощаться с товарищами и скончался на их глазах. Услышав о смерти друга, я не смог сдержать слез: мне было очень жаль друга и горько, что не сумел побыть с ним в последние минуты его жизни.
Вечером без особой церемонии прощания – без речей и оружейного салюта – погибших завернули в шинели и зарыли в окопе. Было сказано, что это временная могила и что позже всех перезахоронят. Посетив Лозовеньку снова более чем через четверть века, я убедился, что местные жители перезахоронили тела всех погибших в большой братской могиле в центре села.
В течение ночи с 21 на 22 мая в село и его окрестности продолжали прибывать отступавшие войсковые части, а некоторые из прибывших ранее начали покидать Лозовеньку и двигаться дальше на восток – к реке Северский Донец. До самого рассвета и на западе, и на востоке небо освещали ракеты. После завтрака я отправился на речку умыться и до блеска начистить речным песком котелок, кружку и ложку, а также побить вшей на белье. На речке я неожиданно встретился с Василием Алексеевым. Мы с ним с удовольствием побеседовали на языке своих матерей и милого детства, почувствовав себя как бы в ином мире. Мы вспомнили свою дорогую малую родину. Суждено ли нам вернуться туда после войны? Василий сказал, что наши судьбы целиком находятся в руках Всевышнего – Асло Туро: как Он решит, так и будет. И с этим мой соплеменник удалился, и больше никогда я его не видел. Что с ним стало, не знаю…
Вскоре на село опять налетела большая группа немецких самолетов. Как мне тогда показалось, они атаковали берега речки, заросшие кое-где зеленой лозою или ивой (наверное, отсюда село и получило название – Лозовенька) где сосредоточились пехотинцы. И снова повторилось почти то же самое, что и вчера: налет длился не более 20 минут, пока самолеты не израсходовали полностью свой смертоносный груз. Обе пушки постреляли по ним короткими очередями, но толку от огня, как и раньше, не оказалось никакого. Хорошо еще, что осколки от бомб и пули не задели орудия и грузовика. Ранения получили: тяжелое – парторг батареи Агеев, а легкое – трое бойцов. Двух раненых отнесли на носилках, а двое других пошли своим ходом в полевой госпиталь, посещенный мною два дня назад.
Через 2,5 часа после первого налета, наверное, те же самые самолеты повторили свои атаки и опять натворили много бед. До наступления темноты они налетали на село еще два раза и с такими же ужасными последствиями. Трижды они улетали от нас безнаказанно. Как же мы тогда проклинали их, а особенно – командование наших войск, не пославшее против вражеской авиации хотя бы пару истребителей! И невольно возникал вопрос, есть ли у нас вообще какая-нибудь авиация?
Если главными условиями успеха в той войне, в которой мы тогда участвовали, были в первую очередь количество задействованных самолетов, умение организовывать операции на основе данных хорошо поставленной службы разведки и полной укомплектованности всех подразделений основными техническими средствами и снабжение войск в достаточном количестве боеприпасами, за прошедшие дни мы все стали свидетелями явного отставания наших вооруженных сил от германских по всем указанным параметрам. Поэтому тогда у меня, как и у многих моих товарищей, появилось большое сомнение в возможности нашей победы в этой войне. Однако никто ни с кем, даже с самым-самым близким другом, не мог поделиться этой мыслью: все боялись друг друга, не имея уверенности, что его не выдадут карающим органам и не накажут посылкой в штрафной батальон или даже расстрелом за «создание или распространение паники».
Немало сомневавшихся появилось среди военнослужащих-украинцев, находившихся тогда у порога своей малой родины. В нашей батарее украинцев было несколько больше, чем русских. Это объяснялось тем, что личный состав 199-й отдельной танковой бригады, куда входила и зенитная батарея, а также ряда других войсковых соединений, был специально подобран так, чтобы в них в основном находились украинцы, которым предстояло освобождать оккупированную Украину. Но среди них встречались и такие, которые желали победы немцам, чтобы благодаря им обрести для своей «Вiтчизни незалежнiсть», т. е. независимость.
…При втором налёте вражеская авиация набросала массу листовок, но их унесло ветром в противоположную от нас сторону. Когда наступило обеденное время, лейтенант Кирпичёв спросил, есть ли желающие сходить на полевую кухню за обедом для первого огневого взвода. Вызвались пойти я и вечно всем недовольный и всегда голодный Кусков. По дороге мы наткнулись на множество трупов военнослужащих. Некоторые трупы пролежали на земле свыше суток и успели вздуться из-за жары. Над ними роились мухи, в основном зеленые. Я нечаянно наступил на оторванную ногу с остатками брюк.
Поближе к кухням мы увидели белевшие на зеленой траве немецкие листовки. Пару этих листовок мы подобрали и прочитали. В них, обращенных к бойцам и командирам Красной армии, было напечатано, что наше положение безнадежное – мы в «мешке», т. е. в полном окружении немецких войск, и путь к отступлению закрыт. Нам предлагалось: «перебить жидов-комиссаров и сдаться в плен частям доблестной Германской армии, которая гарантирует всем жизнь и достойное обращение, включая также достаточное для жизни питание». Особо отмечалось, что данная листовка служит пропуском для перехода через линию фронта к немцам.
Я хотел было взять листовку с собой, чтобы передать ее командиру взвода Кирпичёву и комиссару батареи Воробьеву, поскольку они ко мне всегда хорошо относились и я не боялся каких-либо неприятностей с их стороны. Но все же я отказался от этого намерения.
Мы подошли к кухне, предназначенной для обслуживания зенитной батареи, и назвали поварам взвод, от которого прибыли. И первое и второе блюда, как и вчера, содержали много конины. Кусков попросил раздатчика дать ему поесть что-либо дополнительно прямо на кухне. Тот налил Кускову в какой-то котелок густой суп, который мой напарник быстро съел, а я от предложенного угощения отказался. Затем мы с Кусковым выкурили по цигарке и поплелись назад. Во время наших остановок Кусков открывал крышку кастрюли и вытаскивал из компота по несколько крупных сладких ягод, а стыдил его за это, говоря: «Ведь ты объедаешь товарищей! Как тебе не стыдно!» Но он вовсе не желал меня слушать.
Нам осталось идти совсем немного до конечного пункта, как в третий раз за этот день заревели и завыли немецкие штурмовики. Они летели совсем низко и как раз над речкой. Я успел поставить ведра на землю и юркнул с крутого обрыва и спрятался под ним. Один из самолетов полоснул оба берега пулеметными очередями и улетел в сторону полевых кухонь. Когда я покинул свое убежище, я ужаснулся увиденному: Кусков лежал, прошитый пулей в голову, кровь хлестала из его раны, а кастрюля с компотом стояла рядом и из неё через пробоины вытекали струйки коричневатой жидкости. Мне стало не по себе оттого, что совсем недавно я упрекал товарища за его, как мне теперь казалось, незначительный проступок, а Бог почему-то слишком жестоко наказал за это провинившегося.
Я снял со спины Кускова окровавленный вещевой мешок с хлебом, нацепил его на себя и прибыл в расположение своего взвода с двумя полными и еще теплыми ведрами в руках. Наши бойцы уже успели «очухаться» от налета и с большим нетерпением ожидали обеда. Все удивились, что я появился один. С трудом удерживая слезы, я доложил Кирпичёву, что Кусков погиб и теперь лежит у речки вместе с пробитой пулями кастрюлей для компота.
Все затихли, и обед прошел в полном молчании, а потом мы занялись похоронами Кускова. Его вещевой мешок с кисетом с махоркой и бумагой, а также с ценным для курящих кресалом, вместе с другими вещами отдали его землякам. Противогаз, винтовку и часть патронов покойного отнесли на наш грузовик, водить который теперь назначили вместо покойного М. Д. Журавлева молодого шофера Загуменнова, чью машину накануне уничтожило бомбой.
Вечер, как всегда, закончился налетом немецкой авиации. На этот раз стрельба по самолетам дала нам желанное удовлетворение: один из бомбардировщиков, совершавших ковровую, т. е. сплошную без выбора конкретной цели, бомбардировку, загорелся и улетел на запад, но его падения мы, однако, не увидели.
Во время налета ко мне в окоп прыгнул взволнованный лейтенант Кирпичёв. Он только что узнал очень плохую новость: наши войска почти полностью окружены, и надо было сделать всё возможное, чтобы не оказаться в котле, т. е. успеть отступить до того, как кольцо замкнется.
Что касается меня лично, то я решил полагаться на предначертанную мне свыше судьбу и поступать по принципу: «Куда кривая выведет». Если же попаду к немцам в плен, то кончать жизнь самоубийством, как всем велено сверху, наверное, не буду. Этими размышлениями я поделился с командиром совершенно открыто. За эти слова командир мог расстрелять меня собственноручно в соответствии с имевшимся у него правом, однако он только заметил, что немцы большинство пленных расстреливают: «Тебе же все равно придется погибнуть». Я возразил: «Всех не перестреляешь! Не думаю, что при Гитлере немцы стали совсем уж зверями».
Пользуясь случаем, что мы с командиром были наедине, я решил выяснить, как мне поступить в связи с подменой моей винтовки. «Нашел, о чем тужить, – ответил Кирпичёв, – воюй с подмененной или выбери любую оставшуюся от погибших ребят. Можешь взять даже карабин. А при проверках говори, что я разрешил». Я успокоился, однако решил, что останусь с той же винтовкой, которая имелась у меня. Подумал: «Это судьба, а против судьбы не стоит идти».
Кирпичёв крепко хлопнул меня по плечу и предупредил: «О нашем разговоре – никому ни слова! Не говори ребятам об окружении. Я им сам объявлю».
Вечером состоялся ужин. Для меня и многих моих товарищей он стал последним. Всем налили по 100 граммов водки, которую на фронте я уже больше не видел. Затем всем нам выдали на несколько суток продукты «сухого пайка».
Очень рано утром 23 мая всех разбудил Кирпичёв и дал команду подготовиться к отъезду. Поступил приказ высшего командования всем войсковым соединениям в Лозовеньке и вокруг неё срочно сняться с позиций и как можно скорее двигаться на восток, пока немцы не закрыли путь до реки Северский Донец. Если же окружение уже произошло, то необходимо прорваться из него.
Сначала мы проследовали на запад вдоль северной окраины села, переехали по мостику речку и вскоре оказались у глубокого оврага, расположенного поперек речки. Этот овраг еще с полуночи был заполнен передвигавшимися танками и автомашинами, а также пехотинцами, среди которых находились и минометчики, двигались обозы с лошадьми. Благодаря перемещению внутри оврага мы были в какой-то мере скрыты от противника, пока не появилась его авиация.
К счастью, самолеты пока не появлялись: вероятно, авиация имела другую задачу – «утюжить» отступавшие части, которым уже удалось приблизиться с запада к правому берегу Северского Донца, где предстояло переправиться на другой берег и соединиться с остальными войсками.
Движение на восток войсковых частей от Лозовеньки начали танки. В нашей 199-й отдельной танковой бригаде, прибывшей на фронт примерно с 50-ю британскими и отечественными танками, после боев их осталось не более 25-ти с достаточным запасом горючего, смазочных материалов и боеприпасов. По меньшей мере половине личного состава мотострелкового батальона места для посадки на броню этих боевых машин не хватало, и половине бойцов пришлось двигаться на автомашинах или пешим ходом.
Зенитной батарее удалось выехать из оврага лишь примерно к 9 часам утра. По каким-то соображениям командир батареи Сахаров посчитал возможным вывести своё подразделение к Северскому Донцу не по той проселочной дороге (рис. 4), по которой поехали наши предшественники, а прямо по нераспаханному полю – севернее деревни Марьевка (сейчас она, вероятно, носит другое название – Вольное). Но когда до Марьевки оставалось около двух километров, вдруг вокруг нас начали падать и рваться мины. Это означало, что мы и другие войсковые части, особенно вышедшие вслед за нами из Лозовеньки, теперь полностью находимся в окружении противника. Позднее стало известно, что часть войсковых соединений, не успевших 23 мая покинуть Лозовеньку, продолжала вплоть до 28 мая пытаться отдельными группами выходить из образовавшегося котла, но лишь немногим военнослужащим удалось выйти из окружения.
Рис. 4. Движение и действия зенитной батареи и других войсковых частей в районе Лозовеньки и деревни Марьевка 23 и 24 мая 1942 года: на схеме указаны стрелкой движение зенитной батареи 23 мая и в ночь на 24 мая (– –) движение остальных войсковых частей (включая танки и пехоту) в тот же период (……….) мое движение днем 24 мая (–. –. –. –) – движение колонн наших военнослужащих, сдавшихся в плен, под немецким конвоем утром 24 мая; 1 – место расположения зенитной батареи с 20 по 23 мая у села Лозовенька; 2 – длинный, глубокий и широкий овраг с изгибом его переднего конца на восток; 3 – полевой госпиталь в больших брезентовых палатках; 4 и 5 – первое (мое) и второе орудия; 6 и 7 – грузовики к этим орудиям (из них 7 – с закрытым кузовом); 8 –индивидуальные защитные окопы (из них 8а – мой); 9 – стог соломы; 10 – места боев и сдачи в плен пехоты и других войсковых подразделений в ночь на 24 мая и рано утром того же дня; 11 – место моего пребывания в лесу днем 24 мая; 12 – расположение войсковых частей противника; 13 – немецкие танки, направление их движения и стрельбы по нашим орудиям; 14 – место моего пленения немцами вечером 24 мая; 15 – мое движение в плену в сопровождении двух немецких конвоиров вечером и ночью 24 мая; 16 – движение нашей пехоты в ночь на 24 мая и рано утром того же дня
Вслед за обстрелом минами началась интенсивная перестрелка из оружия разных видов между немцами и нашими войсковыми группами, двигавшимися впереди нас. В это же время шёл бой за Марьевкой в 8–10 км от Северского Донца. Его вели, наверное, те части, включая танковые с мотопехотой, которые ушли из Лозовеньки значительно раньше, чем мы – зенитная батарея.
…Во время нашего движения к Марьевке мина взорвалась метрах в 10 от нашей пушки, крупный осколок со звоном пробил насквозь одну ступицу в двух сантиметрах от моей ноги. Наши грузовики резко развернулись на 90 градусов, чтобы орудийные расчеты смогли определить, откуда стреляют минометы, и начать ответную стрельбу снарядами. Пушки не стали отцеплять от автомашин, чтобы при необходимости можно было быстро поменять их местами или отъехать. Почти все находившиеся в кузовах машин свободные люди разбежались по полю и начали окапываться. А мины продолжали падать, и их осколками уже поранило двух или трех человек. Пастухов и Мишин соскочили с грузовика, сняли с него пару ящиков с боеприпасами и быстро поднесли их к платформе орудия, чтобы передать снаряды заряжающему пушку Егору Зорину.
На орудии нашего взвода Виктор Левин и я на глазок определили место, откуда стрелял миномет: оказалось, он занимает позицию посредине деревни перед небольшой белой хатой. На оптическом устройстве пушки мы навели штриховой крестик на цель и нажали на педали-гашетки орудия, причем Левин чуть опередил меня. Автоматически последовали друг за другом пять выстрелов. По огненному следу, оставленному светящимся трассирующим снарядом, мы увидели, что снаряды (зажигательный и осколочный) попали не в сам миномет, а на крышу хаты, которая тут же загорелась. Но выстрелы, сделанные из другой пушки, где первым наводчиком, как я уже упоминал, был мой соплеменник Василий Алексеев, получились точными, и цель была уничтожена. Однако с северного конца Марьевки начал стрелять другой миномет. Обоим орудиям пришлось пострелять по нему, пока падение мин не прекратилось.
Убедившись, что для нас дальнейший путь на восток закрыт, и чтобы не расходовать впустую снаряды, командир батареи Сахаров дал команду больше не стрелять и отступить в сторону Лозовеньки. По-видимому, командир решил отложить на ночь попытку вывести батарею из возникшего кольца окружения и до наступления полной темноты подержать своё подразделение на месте, более или менее безопасном от вражеских обстрелов как с земли, так и с неба.
Принесенные от грузовиков подносчиками снарядов к пушкам лишние ящики с боеприпасами погрузили обратно в кузовы тех же автомашин. Оба грузовика, двигатели которых во время стрельб оставались невыключенными, повернули опять резко вправо на 90 градусов и вместе со всеми людьми, которые раньше на них сидели, и с орудиями стволом снова назад поехали по полю обратно на запад в направлении к Лозовеньке. Пересекли ту же проселочную дорогу, проехали еще немного по её южной части, и грузовики остановились на поле между Марьевкой и Лозовенькой, где мины, снаряды и пули противника не могли нас достичь. Грузовики встали примерно в 10–15 метрах в южную сторону от проселочной дороги, на стерне убранного в прошлом году поля. Все ехавшие слезли с грузовиков и платформ орудий, отцепили от автомашин пушки, сняли с себя и положили на землю скатки шинелей, сумки с противогазами и вещевые мешки и отложили в стороны винтовки и карабины. Затем номера орудийных расчетов с помощью товарищей, не имевших прямого отношения к пушкам, отрыли для них позиции и вкатили туда оба орудия. Около них же сложили близко для подносчиков снарядов почти все ящики с боеприпасами, снятые с кузовов автомашин.
Позиция для пушки нашего взвода оказалась в метрах 20 севернее от большого стога прошлогодней соломы, которую оба орудийных расчета и водители грузовиков почти наполовину растащили для тщательной маскировки своих объектов с воздуха и со всех сторон на земле. Расстояние между обоими орудиями выбрали около 50 метров.
После того как мы установили пушки на позициях и зарядили орудия полным комплектом снарядов, практически все бойцы и даже командиры отрыли себе маленькими саперными лопатами поблизости от пушек или грузовиков индивидуальные окопы длиной около двух и глубиной более одного метра. Грузовики поставили на относительно безопасном расстоянии от орудий. Я отрыл себе окоп между пушкой и большим стогом соломы. От орудия до окопа расстояние составляло около 15 метров. Дно окопа я застелил толстым слоем сухой соломы, принесенной со стога несколькими охапками. И той же соломой замаскировал окоп. Но как потом обнаружилось, я сделал большую ошибку: положил слишком много этого очень легко загорающегося материала, что позже едва не стоило мне жизни.
Затем снаружи окопа на слое соломы на брустверах разложил свои винтовку с патронами, патронташ, шинель, сумку с противогазом, саперную лопату и вещевой мешок. В этом мешке, кроме продуктов «сухого пайка», кусочка мыла, полотенца, кисета с махоркой и курительной бумагой, перевязочного пакета с бинтом и марганцовкой, пакетика с хинином, карандашей, авторучки с чернилами, котелка и кружки, находились еще в особой сумочке дополнительные обоймы с винтовочными патронами. Патроны в мешке, патронташе и винтовке вскоре также оказали мне очень плохую «услугу».
Закончив обустройство себе индивидуального защитного окопа, почти каждый из нас успел немного поесть что-то из продуктов «сухого пайка», запить съеденное водой из фляги и перекурить.
Пока мы занимались обустройством, над батареей большой группой пролетели вражеские самолеты, которые дважды провели мощные безответные атаки на покинутую нами Лозовеньку.
Глава XVI
Около 15 часов бои, шедшие впереди нас, утихли. Солнце сильно грело, в небе заливался жаворонок. Мне хотелось спать. Вдруг Вася Трещатов, возившийся с вышедшим из строя прицельным устройством, закричал: «Танки, танки идут!» Действительно, вдали, в километрах двух от нас, по полю шли немецкие танки. Первый снаряд, посланный головным танком, разорвался совсем недалеко от пушки нашего огневого взвода, осыпав всё пространство осколками.
Виктор Левин и я быстро поставили ствол орудия в сторону цели и нажали на гашетки. По огненному следу снаряда мы увидели, что попали точно в башню танка. Но наши снаряды, будучи не бронебойными (они у нас давно кончились), а осколочными, совсем не повредили цель. Они просто взорвались, ударившись о танк. Совсем близко от первой пушки разорвался другой снаряд, и опять вокруг нас посыпались осколки. Мы снова произвели пять автоматических выстрелов. На этот раз наши снаряды попали в левую гусеницу второго танка, и он остановился.
Куда в это время делся лейтенант Кирпичёв, я не обратил внимания, и больше никогда в своей жизни я не увидел своего командира, как и командира батареи Сахарова и комиссара Воробьева. И мне не довелось услышать, как сложились их судьбы. Не знаю также об участи командира второго огневого взвода Алексеенко, старшины Ермакова и санинструктора Федорова.
Пока мы отстреливались от танков, шедших от Лозовеньки, другая группа немецких танков приблизилась к нам с юго-востока. Левин же продолжал считать необходимым обороняться от первой танковой группы, открывшей пулеметный огонь. Внезапно Левин крикнул мне: «Юра, прощай!» Я увидел, что с левого виска у него стекала струйка алой крови. В тот же момент громко застонал и упал с платформы тяжело раненный заряжающий пушку Егор Зорин. Прицельный Вася Трещатов и оба подносчика снарядов – Пастухов и Лёша Мишин – поползли прочь от орудия. Я вмиг сообразил, что теперь бесполезно оставаться на пушке, и пополз по-пластунски к своему защитному окопу.