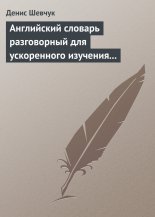Город на воде, хлебе и облаках Липскеров Михаил
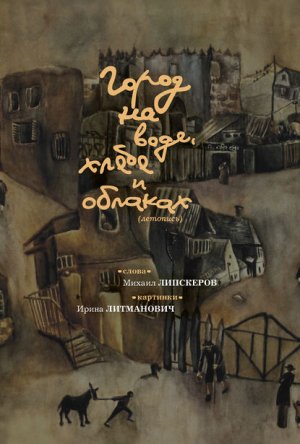
История улицы Спящих красавиц
ЧАСТЬ ВТОРАЯ (как выяснилось)
– Раньше, Моше, эта улица не имела названия. И была просто улицей, по которой ходили пешие люди и проезжали отдельные повозки с отдельными проезжими людьми. И в стародавние времена, когда Гилель бен Халиль только привез меня в Город, на этой просто улице была пошивочная мастерская портного Зиновия Гурвица. И что я говорю «была», когда она есть и сейчас. И был портной Гурвиц весьма зажиточным евреем, а если быть честным до конца, он и сейчас не беден. И был он по этой причине, а также по причине красивости носа, такого носа не видел никто со времен Карлика Носа. Верите, Моше, посмотреть на его нос приезжали даже из Петербурга, а император Петр Алексеевич даже хотел определить по смерти Зиновия Гурвица его нос в кунсткамеру, но помер раньше, но место в кунсткамере для него держат. (Там, мой любезный читатель, где в банке с формалином содержится пенис Карлика Носа. Тоже вещь интересная, но с носом портного Зиновия Гурвица не идет ни в какое сравнение. К тому же кому нужен заспиртованный пенис? Так, кое-какие школьницы интересовались. Но лишь для сравнения с пенисом Давида Микеланджело Буонарроти, не в пользу последнего. Я имею в виду пенис Давида, а не Микеланджело Буонарроти. О нем, мой любезный читатель, мне ничего не известно.)
И был этот портной Зиновий Гурвиц холост. Известная в округе сваха мадам Кураж и своих дочерей ему так и так невзначай предлагала, и других девушек на выданье, но Зиновий жаждал любви необыкновенной, любви невероломной, но такой большой, такой огромной, как я не помню что, которую ему не могли дать местные дщери Израилевы, а также дщери Аллаха и Иисуса. И вот когда в Городе уже не осталось юных и не очень дев, которых бы не отверг портной Зиновий Гурвиц, по Городу пронесся слух, что в России за горами, за лесами, за глубокими долами, в глухой дубраве стоит терем, в котором в стеклянном гробу спит заколдованная красавица, покой которой, Моше, охраняют тридцать три богатыря и семь гномов. По очереди, Моше, по очереди. В России, Моше, всюду очереди. И эта спящая красавица ждет витязя, который ее поцелует, и она оживет, юная и вечно прекрасная. Только не надо, Моше, никаких аллюзий. Я вас умоляю. Нет витязя для того, о чем вы подумали, никто не поцелует вашу спящую красавицу. И медведь не проснется, А если и проснется, то не дай вам бог. Навеки вечные уснут красавицы и погибнут витязи, которые должны их поцеловать. И морок упадет на Землю. И падет она к ногам людей с раскосыми и жадными очами. Но не тех, Моше, о которых вы вспомнили, ох, не тех… Но я не об том…
Я об том, что портной Зиновий Гурвиц, услышавший слух о спящей красавице, вознамерился отправиться к этой спящей красавице, чтобы… Ну, читайте реб Пушкина, смотрите реб Диснея, они об этом слухе так живописно рассказали, что только совершенно бесчеловечный человек им не поверил.
И многие витязи, рыцари и багатуры отправлялись в дубраву, чтобы поцеловать спящую красавицу. Но тридцать три богатыря и семь гномов рубили их под корень. Потому что если каждый витязь, рыцарь, багатур будет целовать спящую красавицу на пробу, а она не проснется, то это же, Моше, никаких губ не хватит! Для того единственного, от поцелуя которого она проснется. Но как определить этого единственного, ни один из богатырей и гномов не знал, поэтому рубили всех, как я уже говорил, под корень.
И в эту очередь (я вам говорил о русских очередях?., говорил) витязей, богатырей и багатуров затесался наш совсем не витязь, не рыцарь, не багатур – обыкновенный портной нашего Города Зиновий Гурвиц в жажде любви. Но, Моше, он не то что не затесался в этой толпе, нет – он подождал, когда очередь естественным образом рассосется под мечами богатырей и топорами гномов, и пришел к хрустальному гробу, когда богатыри и гномы обедали обед, чтобы набраться сил перед очередной рубкой. Увидев еврея небольших размеров с большим носом, претендующего на поцелуй с последующим оживлением, охрана долго смеялась. Я бы сказал, Моше, она хохотала. Я бы добавил – до слез. А когда охрана прослезилась и утерла слезы, то увидела, что крышка хрустального гроба откинута в сторону, а спящая красавица уже не спящая, а совсем даже наоборот – обнимающая мелкого еврея и целующего его в неимоверный нос. И Зиновий Гурвиц забрал ее в наш Город, прошел с ней под хупой. И настала первая брачная ночь. И Спящая красавица поняла, что не зря она так долго спала, не зря тридцать три богатыря и семь гномов рубили приходящих богатырей, витязей, багатуров. А почему, спросите вы меня? А потому, что то, что нужно, вполне соответствовало носу портного Гурвица и, вы меня простите, заспиртованному пенису Карлика Носа в кунсткамере города Санкт-Петербурга.
И они родили дочку Шеру. И живут в мире и счастье. И мадам Гурвиц – такая же красавица, каковой была и во сне. И такая же молодая. Во всяком случае, в глазах реб Гурвица. Так почему бы нам с вами, Моше, не посмотреть на нее его глазами? Что, вас от этого убудет? Так когда у вас будет время, подойдите к ней и скажите: «Мадам Гурвиц, вы чудесно выглядите. И дочка ваша, Шера, тоже чудо как хороша». И она зардеется, и захорошеет, и ей будет хорошо, и дочке Шере будет хорошо, и вам будет хорошо. Потому что еврею, а может быть, и другим людям, становится хорошо, когда становится хорошо другим евреям, а может быть, и другим людям.
А главное, станет хорошо портному Гурвицу, и он сошьет вам настоящие штаны. Штаны, интересные людям, а не коровам. И юбку девице, которая шляется туда и обратно из мира в мир, чтобы оба мира наконец увидели, как выглядят ее ноги, укрытые этими коровьими штанами.
И реб Файтель замолчал. Мои песочные часы были готовы.
– Реб Файтель, – спросил я его, – так вы так и не сказали причины, почему нынешняя улица Убитых еврейских поэтов раньше называлась улицей Спящих красавиц. Ведь, в сущности, Спящая красавица была одна. А?
Реб Файтель помолчал, поперебирал песчинки и поднял на меня такие мертвые и такие видящие глаза.
– Моше, каждому еврею, а может быть, и другим людям, хочется хоть раз в жизни поцеловать Спящую красавицу. Но Спящих красавиц не хватает на всех. Так пусть будет хотя бы мечта. Улица Спящих красавиц.
И реб Файтель опять замолчал.
– Тогда почему ее переименовали в улицу Убитых еврейских поэтов?
Реб Файтель опять помолчал, его пальцы выстроили из песка терем. А вокруг стояли могучие дубы.
А потом в окно подвала дома № 6 по Третьему Маккавейскому переулку подул ветерок и сдул терем вместе с дубравой.
– А потому, Моше, что вместе с убитыми поэтами были убиты и спящие красавицы.
И вот как раз тогда, когда я закончил эту повесть, печальнее которой я на свете не встречал, из арабского квартала вернулись братья Фаттахи. Садовник и поэт. Но не одни. А в сопровождении совсем уж замшелого старичка. Точнее было бы сказать, что это они сопровождали старичка, потому что держали его под руки, в то время как два арабских мальчика несли за ним на плечах старичкову бороду. Которой, судя по годовым кольцам, было лет под триста, а то и все 672 года. А может, даже и больше. Потому что, окинув взглядом Город, он остановился правым глазом, который вынул из кармана халата, на полуразрушенном замке пана Кобечинского, запел «От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей раздаются серенады, раздается звон мечей», прошелся в зикре вокруг композиции Осла со Шломо Грамотным, после чего упал ниц на булыжник площади Обрезания. Все это время он что-то вопил по-арабски. А может, по-турецки. Или, упаси господь, на фарси. Уж очень персы в последнее время стали агрессивны. Давеча вон зарезали Александра Сергеича Грибоедова. За триста спартанцев я уж помалкиваю, там хоть какая-никакая, а войнушка шла. А когда он закончил вопить, поэт Муслим Фаттах перевел нам, что вот под этим булыжником лежит с 522 года хиджры его крайняя плоть. Рядом с крайней плотью Маймонида по прозвищу Рамбам, с которым позжее он водил дружбу в городе Кордове на тему испанских девиц и космогонических теорий о вращении Солнца вокруг Земли или сначала – вокруг Юпитера. В общем, хорошие были времена, – завершил перевод вопля старичка поэт Муслим Фаттах. На что садовник Абубакар Фаттах сдержанно кивнул головой.
– И вот для этих мемуаров вы притащили этого сильно пожилого араба, турка, перса на площадь Обрезания, в то время как?!. – почти спокойно спросил этих арабских Кастора и Поллукса Гутен Моргенович де Сааведра.
– Нет, не для этих мемуаров, а для того, чтобы он, вкусив памяти своей молодости, дал совет, как очистить священную площадь трех религий от скверны Осла и Шломо Грамотного, да побрейте же вы его наконец! – И садовник Абубакар Фаттах опять мотнул головой для подтверждения слов. Но мотнул менее сдержанно. Так что от ветра Гутен Моргеновича де Сааведру сбило с ног прямо на надгробие крайних плотей Кемаля уль Ислами (а именно так звали старичка, и был он по должности и по сути имамом арабского квартала) и Маймонида по прозвищу Рамбам. Он упал, но не разбился. А сделал вид, что вот это – то самое оно, на котором он, Гутен Моргенович де Сааведра, мечтал полежать, но за делами все было как-то недосуг.
К тому же головным ветром сдуло и одного из прусских шпионов, который на сей раз выглядел коробейником, только что вышедшим из высокой ржи. И они с Гутен Моргеновичем прямо на могилах крайней плоти двух народов заключили сделку о поставке в Город из Москвы двух вагонов тополиного пуха. Ибо в Городе с недавних пор ощущался дефицит аллергии.
Между тем мусульманский старичок, отвопив свое, замолчал. А почему замолчал, неизвестно, потому что молчание в Городе перевести было некому. Не было у нас в Городе знатоков языка молчания. Вот почтить память минутой молчания – это любой человек. Еврей, араб, перс, турок и даже русский – с превеликим удовольствием! Был бы покойник… А тут покойника нет, а старичок молчит. И жителям это невдомек. Его не для того звали, чтобы он молчал. А чтобы решил, как быть, я уже устал говорить с чем. И в народе начал нарастать гнев. И старичка запросто могли побить камнями. Которые вот они – прямо под ногами. Как на Красной площади. Потому что гнев! Потому что сколько же можно?! Потому что для чего звали?! И вот уже руки потянулись к оружию еврейского пролетариата, но тут Мордехай Вайнштейн заметил, что старичок вовсе не молчит! Просто слова его путаются в бороде, скитаются в ее завитках и, не найдя выхода на свободу, бессмысленно умирают от безысходности в прямом смысле этого слова. И тогда он раздвинул бороду, и слова с облегчением вырвались на свободу. И их тут же стал переводить поэт Муслим Фаттах. С выражением и придыханием:
– И-и-иль, Аллах! Во имя Тебя, Милостивого, Милосердного, что я хотел сказать?.. И где я, Ал-л-ла иль Ал-л-ла, нахожусь… Да сгинут враги его и мои… И четвертая жена Хадиджа пусть тоже и-и-иль Аллах… А вот та, и-и-иль Алла, бисмила, беленька-а-а-а-а-а-ая, пусть не сгинет… Да благословят ее Пророки Мусса, Исса и Мохаммед, да святится имя Его, да пребудет слава Твоя… Хлеб наш насущный дай нам днесь…
На этих словах отец Ипохондрий грохнулся на колени вместе с христианским населением. И с мыслью о свершившемся чуде, но это было временное помешательство имама Керима уль Ислами, и он тут же вернулся к привычному:
– Алла и-и-и-иль Алла!..
И так далее. И всех уже притомил. И опять руки потянулись к… Братья Фаттахи, уловив народное недовольство и памятуя братьев Маккавеев, решили, что гнев евреев страшнее русского бунта, бессмысленного, беспощадного, за которым тоже не надо далеко ходить, вон Алеха Петров уже отложил в сторону баян, заткнули имаму маленький, но громкоголосый рот, прислушались к прорывающемуся сквозь бороду бормотанию, и поэт перевел:
– В пятницу после праздничной молитвы исламский мир Города сообщит свое решение. Именем Аллаха!
После чего имама, закутанного в бороду от легкого ветерка, подувшего с городской свалки отбросов прошлого, оттащили в арабский квартал.
(Убейте меня, если я знаю, что такое «отбросы прошлого», но как красиво звучит!.. А я, милостивые мои государи, как вы могли убедиться, истинный адепт изящной словесности. Красота – это все, в смысле!.. Закончите мысль, пожалуйста, а то тут ко мне пришли. Не перепутайте, ради Бога: ко мне, а не за мной. И кто бы вы думали, ко мне пришли?..)
Девица Ирка Бунжурна ко мне пришли. И я уже не очень хорошо представляю себе, откуда явилось это горе: из собственноручно нарисованной картинки или со съемной квартиры, в которой она осталась одна-одинешенька после изгнания спутника жизни, вечно теряющего свои майки.
Скорее всего, все-таки из картинки, потому что Шломо Грамотный как-то потерянно оглядывался. Почему я говорю «потерянно»? А потому что вид у него был потерянный, а это означает, что не ясно, кто кого потерял: он или его! Вот такая вот экзистенция, вот такое вот курикулум вите. (Это еще что такое? Несут меня кони…)
– Михаил Федорович, нет, спасибо, я завтракала… Как чем?.. Ну, кофе с этими… печенюшками…
– И сколько было печенюшек?
– Ну что вы, в самом деле, – что я, считала?..
– А если честно?..
– Если честно, то я бы съела омлет…
– С помидорами?
– С помидорами.
– С вымоченным в молоке хлебом?
– И с копченым окороком.
– Ты же не ешь копченый окорок.
– Ну, Михаил Федорович, что вы цепляетесь за мелочи? Вчера я не ела, а сегодня у меня разгрузочный день.
– Это ты называешь разгрузочным днем? – задал я ей вопрос, разбивая яйца, нарезая помидоры, хлеб и окорок.
– Да. Называю. Я разгружаюсь от диеты. Яиц, пожалуйста, пять штук… И окорока тоже еще пять кусочков. А помидоры небось израильские?
– На них что, звезда Давида нарисована? – не шибко съязвил я.
– Нет, это я к тому, кошерные они или трефные?
Я отложил нож. Так, на всякий случай, чтобы не поранить кого невзначай. Стиснул зубы и сквозь них КАК МОЖНО мягко спросил:
– Скажи, пожалуйста, Крошечка-Хаврошечка, что со мной сделают на Преображенском рынке, если я задам вопрос о кошерности помидоров?
– Ну, Михаил Федорович, откуда ж мне знать… В следующий раз спросите и узнаете, что вам ответят.
Из картины донесся рев Осла. Я глянул в нее. Осел сплюнул и вытер копытом рот. Рядом с ним валялась обертка от печенья «Юбилейное». А когда я отвернулся от картины в комнату, сковороды с яичницей не было. Как не было и девицы Ирки Бунжурны. А когда я отвернулся от комнаты, то Осел и Шломо Грамотный ели яичницу с помидорами, хлебом, вымоченным в молоке, и копченым окороком прямо со сковороды.
– Кошерный? – спросил Шломо Грамотный Осла, показывая кусок окорока.
Осел присмотрелся и отрицательно покачал головой. Потом посмотрел на Шломо Грамотного. Шломо Грамотный посмотрел на Осла. Оба задумались. А так как они на площади Обрезания были не одни, а, почитай, в окружении всего города, то вот все и задумались, кошерный окорок или трефной. С одной стороны – трефной, как и всякая свинина, а с другой… может быть, и кошерный.
Как это может быть? – спросите вы. Я понимаю, что не все мои читатели осведомлены о тонкостях кашрута – еврейского питания, поэтому поясню, что свинина, выращенная на досках, уже как и не совсем свинина и очень даже может быть кошерной. И вопрос стоит лишь в том, чтобы узнать, выращена свинина на досках или не на досках. Но ни Ирка Бунжурна, держащая сковороду в картине, ни я, сидящий в своем кресле, ответа не знали. И ни она, ни я не в силах были разрубить гордиев узел соответствия копченого окорока правилам кашрута.
И это была тягчайшая проблема для обитателей Города еврейского происхождения. Христианский люд этой проблемой был не сильно отягощен, однако, уважая чувства верующих другой конфессии, усиленно делал вид, что также отягощен. И неизвестно, сколь долго длилось бы отягощение, а окорок меж тем остывал, и положение становилось отчаянным, ибо какая может быть сытость у двух здоровых мужчин без окорока. А в здоровости Шломо Грамотного и Осла сомнений у обитателей Города не было.
И взгляды горожан обратились к Богу. Каждый – к своему. Не так чтобы уж совсем напрямую: Бог, мол, так и так… Такая вот фигня… И что делать, на ум взять не можем!
Нет. Не так в лоб, а опосредованно. Вон они стоят рядышком, отец Ипохондрий и раввин реб Шмуэль Многодетный, и беседуют, будто их это не касается! Будто вопрос копченого окорока вообще!.. Как будто никакого окорока нет! Как будто и проблемы Осла тоже нет! И вообще вокруг сплошной идеализм, и этот самый окорок, и Осел, и все-все суть продукт нашего воображения! И молчат. А между прочим, из-за такой вот ерунды может все!.. Что угодно!.. Вон, где-то там одна баба предложила людям, вместо хлеба есть пирожные. И не учла, дура, даром что королева, что среди народа масса диабетиков. Вот головку ей и того. И мужику ее тоже. Хотя он ничего такого не предлагал. И вообще был не при делах. Ну и что, что король… Королей без головы не бывает. Вон, у бубнового вполне себе очевидная голова. У трефового похуже, но ведь голова ж!..
Так что в Городе вот из-за такого остывающего копченого окорока вполне могла бы произойти революция, если бы не Гутен Моргенович де Сааведра. Во всеобщем молчании он вздохнул и произнес фразу, которая в несколько измененном состоянии прошла в века и осталась в них навеки.
– Не человек, – произнес он, – для окорока, а окорок – для человека…
Город вздохнул, и на этом вздохе последние куски не вконец остывшего окорока исчезли в Осле и Шломо Грамотном.
Город зааплодировал, а прусские шпионы, превратившиеся в радиорепродукторы, крикнули «Браво!».
Меж тем до пятницы, до послепятничной молитвы, когда мусульмане Города должны были вынести свой, а других пока не было, вердикт по поводу пребывания на площади Обрезания Осла, точнее, по путям вывода этого самого Осла с этой самой площади Обрезания, оставалось три дня. И встал вопрос, как провести эти самые три дня. Тут, мой читатель, у тебя может возникнуть подозрение, и я тебя понимаю, что автор может снова-заново по второму кругу затеять церковно-синагогальные коллоквиумы, чтобы, во-первых, убить время, не работать же, когда тут такое, а во-вторых, довести это повествование до приличных размеров, дабы получить за него приличную копейку, чтобы там ни говорили о самовыражении, о творчестве как о способе познания. Так-то оно так, но плату за продукты питания никто не отменял. А овес, как говаривали в старые времена в еврейских местечках, нынче дорог. И в размышлении о дальнейшем течении творческого процесса я глянул на календарь, нарисованный девицей Иркой Бунжурной, для еврейской диаспоры города Москвы, и обнаружил, что завтра у нас 1 июля 2012 года по РХ и 1 Тамуза 5772 года по Сотворению мира. И по странному совпадению я родился в один день и по еврейскому летосчислению, и по христианскому. И этому событию была посвящена картинка в календаре. А изображено на ней было мое родное местечко, находящееся в двух верстах от Города. В какую сторону ни глянь, в какую сторону ни пойди. И спросите меня, что мешает мне с вами провести один денечек из оставшихся трех (вы не забыли о пятничной молитве и так далее?., ну и славно), а именно – вторник, на моей малой исторической родине, в штетле под названием Липск, из названия которого выклюнулась моя нынешняя фамилия и откуда вышли многие разные евреи. Рассеянные по всему миру. Многие из них носят вполне себе приличные фамилии, не провоцирующие на мгновенное желание дать носителю по поганой, сальной, носатой морде, но часть сохранила в фамилии свои липские корни. Вот и шастают по странам и континентам Липскеры, Липские, Липовецкие, Липскеровы, Липсюковы и просто Липсы. И было у штетла Липска еще одно название, которое вы не найдете ни на одной карте мира. И это понятно. Если на карте мира нет названия Город, а он вполне ничего себе, то о каком названии на карте мира может идти речь о местечке в двух верстах от него? Ни о каком. Поэтому между своими мы называем его Хеломом. И вот из него-то, можете мне не верить, и вышли всякие Эйнштейны, Мендельсоны, Спинозы, Фрейды, Даяны, Шагалы, Ванниковы, сестры Берри, Лавочкины, Мили, Дунаевские и разные прочие Моисеевы (не те, которые Боря, а те, которые ансамбль). А почему мы называем его Хеломом? А почему вы называете Мценск Мценском, а Нижний Тагил Нижним Тагилом, а не, скажем, Верхним Гуданом? Вот так вот!
И было в этом Хеломе семеро мудрецов. О которых еврейский мир слагал легенды, мифы, притчи, былины, большие и малые эдды. И одна из этих легенд, притч, былин, больших и малых эдд гласила о том, как семеро мудрецов из местечка Хелом придумали Город, который нарисовала девица Ирка Бунжурна, который населил я, придумал историю с Ослом, которая и развивается на ваших глазах. А может быть, я не исключаю такой вариант, семеро мудрецов придумали Город, который придумал меня, чтобы я написал о нем. А до того Город при посредстве папы и мамы Бунжурнов придумал девицу Ирку Бунжурну, чтобы она нарисовала придуманный семью хеломскими мудрецами Город, а я его оживил, чтобы вы сейчас мучительно искали смысл в образовавшейся конструкции из хеломских мудрецов, меня, Города и девицы Ирки Бунжурны…
А кому сейчас легко?!.
Итак, я приступаю к истории создания семью хеломскими мудрецами Города.
История создания Города
Начнем с того, что семерых мудрецов было ровно семеро. Не пять, не восемь, не, упаси господь, двадцать шесть. Ибо где же у него наберется мудрости на двадцать шесть евреев из Хелома. Он с семерыми-то замучился. Итак, их было семеро. И вот однажды (я настаиваю на «однажды», потому что это произошло именно однажды, а не в какой либо другой день) мутной осенью, когда в сердце нет места ни для чего, кроме печали, они встретились на улочке Хелома для того, чтобы на ней встретиться. И звали их реб Аарон, реб Метцль, реб Хаим, реб Ицхак, реб Додик, реб Кардан-Штуцер и реб Реб, потому что имени его уже лет триста как никто не помнил. (А вообще-то его звали Эшмиэль.)
Семеро мудрецов осмотрели Хелом, окинули мудрым взором его серые домишки, живо напоминающие русскую деревню в разгар мерзких осенних дождей, если бы только вдали не маячили развалины какого-то то ли монастыря, то ли шинка, то ли замка, разрушенного крестоносцами в отместку за разрушение его арабами в прошлом полутысячелетии, и им пришла в голову, всем семерым, мудрая идея покинуть Хелом, чтобы найти на Земле место для Города, в котором никогда не наступает мутная тоскливая осень.
И каждый из них пошел на свою из всех семи сторон света потому что сторон было именно семь а сколько еще если еврейских мудрецов было семь и абсолютно каждому еврею ясно что на одной стороне света может поместиться лишь один хеломский мудрец потому что двух ни одна сторона света не выдержит и провалится под двойной тяжестью мудрости. Вот почему сторон и было семь, а не шесть, не восемь и, упаси господь, не двадцать шесть, ибо мудрецов у него было семь, а не шесть, не восемь и, упаси господь, не двадцать шесть. Ибо столько мудрости Земля просто не выдержит.
И договорились встретиться через год на этом самом месте, чтобы сравнить места, которые увидят, которые будут хороши, в которых живет мирный человеческий люд, где есть какая-никакая работа, и выбрать среди них одно, в котором найдется место для евреев Хелома. Ну и конечно же, непременным условием было, чтобы в этом месте никогда не наступала мутная тоскливая осень.
Долго ли, коротко ли шли семеро мудрецов по большой-большой земле, жили-поживали в разных местах…
Реб Аарон побывал в Москве, откуда его выперли по причине того, что и так вас уже развелось, типа – евреи, евреи, кругом одни евреи.
Реб Метцль побывал в Сингапуре, где на фоне китайцев выглядел инородным телом, что соответствовало истине, и выперся из него сам.
Реб Хаим побывал в Эфиопии, где на фоне эфиопов выглядел китайцем и не смог доказать, что он не китаец, а еврей, над чем эфиопы лишь посмеялись в уверенности, что не может быть еврея с такой белой кожей. И реб Хаим сбежал из Эфиопии, оставив без обеда семью эфиопского императора.
Реб Ицхак побывал в Великобритании. Побывал премьер-министром Дизраэли, бароном Ротшильдом, но покинул Туманный Альбион как раз по причине его туманности, так напоминающей мутную тоскливую осень Хелома.
Реб Кардан-Штуцер побывал в Лос-Анджелесе, где основал Голливуд, но сбежал оттуда из-за наглости кинематографических евреев.
Реб Додик тоже побывал в Лос-Анджелесе, откуда сбежал из-за наглости реб Кардан-Штуцера.
А реб Реб (Эшмиэль на самом деле) тоже пошел. Небыстро пошел. И сел на пригорок, невдалеке от Хелома. И молился, чтобы остальные мудрецы не затерялись в пространстве, а нашли место, где никогда не будет мутной тоскливой осени. И к нему однажды пришел Господь и сказал, что эта земля будет его, и народа его, и других народов, с которыми он, Эшмиэль, будет жить в мире. И залогом этого взял у Эшмиэля крайнюю плоть. И реб Эшмиэль закопал ее в землю и стал хранителем ее до наступления последних времен.
А все остальные мудрецы, обойдя Землю по кругу, пришли в Хелом. Но не совсем. (Правда, эта история сильно отличается от анекдота о еврее, который из-за душевной тоски ушел из своего местечка, на дороге заснул, во сне перевернулся и на следующий день вернулся в местечко, как две капли воды, похожее на его местечко, нашел дом, женщину, детей, как две капли воды похожих на его дом, жену, детей, стал с ними жить, но всю жизнь тосковал по дому.) Смысл моей истории другой. Из-за вращения Земли вокруг Солнца и лунных приливов, они пришли на место, находящееся в двух верстах от их родного Хелома. И так сложилось, что в этом месте на пригорке сидел реб Реб (Эшмиэль).
Была весна, и ощущение вечности этой весны, а когда пришла осень, она уже не казалась такой мутной и тоскливой, потому что впереди была весна и ощущение вечности этой весны. И мудрецы стали жить в этом месте. В двух верстах от их родного Хелома. Там текла красивая река, плыли песенные облака, пекли душистые хлеба. Там было мало людей. Всего семеро. Семеро мудрецов из Хелома. Потом пришли другие люди. Евреи, русские, арабы, поляки, еще много кого. И я не знаю, сколько лет, веков, тысячелетий прошло с тех пор. Мудрецы назвали место Городом на воде, хлебе и облаках, но до самой своей смерти в душе называли его Хеломом. Ибо где есть хоть один еврей, там и будет Хелом.
А под пригорком, где была закопана первая крайняя плоть, все кому положено стали хранить до последних времен свою крайнюю плоть. И… Впрочем, все это я вам уже рассказывал. За исключением того, что вместе с обрезанием крайней плоти Господь откромсал для удобства речи от имени реб Реба пару букв, и он стал реб Шмуэлем. Раввином синагоги нашего Города.
Итак, за историей возникновения Города незаметно пролетел понедельник. Не хочу сказать, что Город весь понедельник только тем и занимался, что слушал мои сомнительные с исторической точки зрения измышления на предмет истории Города из местечка, появившегося через несколько тысяч лет после возникновения Города, который из него вышел. Конечно, что-то он делал обыденное, но описывать это так же скучно, как потом про это читать. Поэтому я этого и не буду делать, а предоставлю вам возможность выпутаться из позапрошлой фразы, на что, надеюсь, у вас уйдет вторник, и тем самым сокращу время ожидания пятничной молитвы, после которой и должно произойти разрешение мучившей Город проблемы.
Но во вторник произошло событие, которое не позволило Городу и вам поразмышлять о сущности возникновения Города. Шломо Грамотный, волею рока приставленный к упрямому бомжу, остался голодным. Ни Ванда, ни Ксения Ивановна, ни Ирка Бунжурна не принесли Шломо ни крошки хлеба, чтобы наполнить желудок, ни капли воды, чтобы оросить нёбо. А почему? А потому, что Ванда решила, что это сделает мерзкая девица с той стороны мира. Ксению Ивановну перехватил ее якобы брат околоточный надзиратель Василий Акимович Швайко, отнял бутылку перцовки и жареного куренка, которые выпил и съел сам. После чего заснул, приковав Ксению Ивановну к ножке кровати именными наручниками, пожалованными за верную службу князем Ромодановским во времена Анны Иоанновны.
С Иркой Бунжурной дело было несколько сложнее. Она сварила кастрюлю борща и поволокла ее ко мне домой. Чтобы доставить его Шломо Грамотному. Но по пути к ней пристал с нескромными намерениями какой-то старый козел, состоящий из одного профиля. Он сделал ей лестное предложение разделить с ним свадебное ложе в его однокомнатных чертогах на Большой Никитской, но свадьбы перед этим почему-то не предлагал. Вместо этого он доказал серьезность намерений тем, что хватанул ее за попку. Первый раз Ирка это стерпела. Что делать, человек давно не трогал женской попки. Кто ж ему, старому, это позволит. Второй раз Ирка это тоже стерпела. Потому что руки были заняты кастрюлей с борщом. А на третий не стерпела и дала человеку-профилю кулачком в левую сторону лица. Предварительно освободив руки от кастрюли, потому что она была уже без борща, потому что борщ был уже на профиле человека-профиля, который от борща обрел фас, потому что борщ был горячий. Не знаю, что стало с человеком-профилем, но борща, чтобы накормить Шломо Грамотного, у девицы Ирки Бунжурны не осталось.
Вот так и сложилось, что при трех потенциальных кормилицах Шломо Грамотный во вторник остался без еды. И Осел, кстати, тоже, но остался достаточно спокойным, представив себя кораблем пустыни, способным по неделям обходиться без еды и питья. Но он недолго оставался спокойным. Он не учел, что, в отличие от кораблей пустыни, у Ослов нет горбов, в которых хранились бы запасы пищи и воды. Конечно, он мог бы уйти куда-нибудь в поисках пожрать, но для него уже было делом принципа не уходить с площади Обрезания. Из интереса. И из принципа. Ослы очень принципиальные животные. И на исходе ночи вторника на среду он стал просто орать. И разбудил Гутен Моргеновича де Сааведру, который спал в своей квартире над Шломо Грамотным и орущим Ослом. А иначе как бы Осел его разбудил, если бы он не спал?.. То-то и оно.
Ну и хорошо, что разбудил. Потому как настало во всей красе утро среды. А надо сказать, мои разлюбезные читатели, что утро среды – это вам не вечер вторника и уже никаким боком не пятничный полдень. Кто со мной не согласен, приводите свои доводы, и, если это будет убедительно, я соглашусь даже на то, что утро среды – это практически четверговая ночь. Но пока процесс приведения доказательств не произошел, мы будем считать, что утро среды – это утро среды, и не лезьте ко мне с намеками на понедельничьи сумерки. А по средам Гутен Моргенович де Сааведра выходил на площадь Обрезания, чтобы узнать, какие в Городе произошли события за ночь со вторника на среду. Правда, в это срединное утро кое-что ему стало известно не выходя из дома. А что стало известно? А то, что Осел орет. А если он орет, то он чем-то недоволен. Или, наоборот, доволен. Или же орет просто так. Других причин для ослиного крика Гутен Моргенович де Сааведра не видел. Поэтому Гутен Моргенович де Сааведра побрился, съел яичницу с помидорами, приготовленную мадам Пеперштейн, которая, как вы помните, прислуживала у Гутен Моргеновича де Сааведры на предмет заработка, так как реб Пеперштейн отсутствовал и кормить мадам Пеперштейн было некому. А впрочем, помнить вы этого не можете, потому что я вам этого не говорил. А почему я вам этого не говорил? А потому что и сам узнал об этом только сейчас, увидев мадам Пеперштейн, жарящую яичницу в кухне Гутен Моргеновича де Сааведры.
Съев яичницу, Гутен Моргенович де Сааведра оделся в штучные брюки и сюртук от портного Гурвица, надел канотье, оставшееся после героической гибели Бубы Касторского, лакированные штиблеты Моше Лукича Риббентропа и вышел в окрашенный юной утренней зарей Город. Который от этого стал моложе на пару сотен лет. И что же увидел Гутен Моргенович, выйдя из дома? Правильно. Орущего Осла и Шломо Грамотного при нем.
– О чем кричим? – спросил Осла Гутен Моргенович. Не рассчитывая на ответ от Осла, а рассчитывая на ответ Шломо Грамотного.
– Есть хочет регулярно, – ожидаемо ответил Шломо.
Гутен Моргенович задумался на какое-то время. Но потом решительно придушил мысли. Потому что эти мысли, эти умственные скакуны понеслись по наезженной колее, натоптанной тропинке, проторенной дороге, а именно – в сторону синагоги, где и решались подобные вопросы.
– А если, – рассуждал Гутен Моргенович, – мы не могли в синагоге решить вопрос бритья Осла и Шломо Грамотного, то вопрос их пропитания на время до пятничной молитвы в мечети мусульманского квартала и подавно не решить.
А пока он так размышлял, пока Шломо Грамотный за этими размышлениями следил, Осел внезапно замолчал, но ни размышляющий, ни наблюдающий за размышлениями тишины не услышали. Ибо нельзя делать два дела сразу: размышлять и слушать тишину или наблюдать за этими размышлениями и слушать все ту же тишину. Потому что есть время размышлять – и есть время слушать. А наблюдать за размышлениями и слушать тишину можно только на очень сытый желудок. Которого у Шломо Грамотного-то и не было. Не в смысле желудка, а в смысле сытости.
Но всему рано или поздно приходит конец. Так и размышления Гутен Моргеновича пришли к бесплодному концу, и он попытался почесать голову в поисках решения вопроса. И почесал. А потом застыл в недоумении.
– Шломо, – спросил он, – у меня к тебе есть два вопроса. Только не торопись с ответом.
– Что вы, что вы… – поспешил согласиться Шломо Грамотный. А зачем торопиться, если не знаешь куда?
– Вопрос первый, – как-то печально начал Гутен Моргенович, – я вышел из дома в канотье?
Шломо окунулся в свою недавнюю память и увидел Гутен Моргеновича, выходящего из дома в штучных штанах и сюртуке от портного Гурвица, лакированных штиблетах от Моше Лукича Риббентропа и канотье от Бубы Касторского.
– В канотье, – ответил он на первый вопрос и приготовился к ответу на второй вопрос, который не замедлил поступить:
– А где оно сейчас?
Действительно, канотье на голове Гутен Моргеновича не было. Оба-два человека синхронно задумались:
– Как это так…
– Как это так…
– …чтобы канотье…
– …чтобы канотье…
– …вот сейчас было…
– …вот сейчас было…
– …а сейчас нет?
– …а сейчас нет?
А об что еще думать, они не знали, потому задумались не думая.
И тут над своим головами услышали смешок. Сытый смешок! Оба-два человека вздрогнули и поняли, что смешок отменил ор Осла. Они подняли головы и увидели на правом ухе Осла бант от канотье, а в левом краю рта исчезающую в нем соломинку.
И раз Осел, насытившись канотье Гутен Моргеновича, орать прекратил, то Гутен Моргенович мог бы вернуться домой. А это было нужно, так как из Егупца к нему должен был приехать некий Менахем Мендл (не упомню, упоминал ли я его в этой книге, но кто-то в какой-то другой книге его точно упоминал) на предмет продажи для нужд Города двух вагонов воздуха из Егупца. Собственно говоря, это была не чистая продажа, а некий бартер. В обмен на два вагона воздуха из Егупца Менахем Мендл покупал два вагона воздуха Города для нужд Егупца. И какой, спросите вы меня, смысл в этом ченче? Чем уж так хорош воздух нашего Города для горожан Егупца, а воздух Егупца – для горожан Города? А ничем, отвечу вам я. Оба воздуха были вполне себе одинаковы. Но между нами, такие евреи, как Гутен Моргенович и Менахем Мендл, никогда не делают ничего за просто так. Дело в том, что воздух закупался Городом и Егупцем в порядке культурного обмена через банк «де Сааведра и Мендл» в Варшаве, который имел с этого по 10 % комиссионных с каждой стороны. С бюджета Города и бюджета Егупца. Из коих каждый совладелец отстегивал по 10 % комиссионных своему Магистрату черным налом. И при этом подписывался договор о взаимных поставках двух вагонов воздуха. И все были довольны вот уже двести двадцать лет. Все имели свое. Горожане обоих городов радовались укреплению дружеских связей между собой, Гутен Моргенович и Менахем Мендл – полученной прибыли, Магистраты в лице конкретных лиц – 10 % с 10 %. Причем никаких расходов по перевозке вагонов туда и сюда не было, да и откуда им взяться, если железной дороги между Городом и Егупцем никогда не было? А если бы и была, то какой идиот будет гонять вагоны с воздухом туда и сюда? Когда все и так довольны.
Вот такая вот сделка намечалась в то утро. И как раз тогда, когда обнаружилось исчезновение канотье в Осле, на площади Обрезания появился Менахем Мендл. Возникло небольшое недоразумение из-за отсутствия на Гутен Моргеновиче канотье. Которое он по протоколу должен был приподнять двумя пальцами правой руки. И вот все хорошо. И Гутен Моргенович есть, и два пальца есть – а канотье нет. И сделка вот-вот могла сорваться. Потому что голодный Осел под форс-мажорные обстоятельства не подходил. И у каких-нибудь там немцев сделка наверняка бы сорвалась, и международные осложнения всякие, но мы, евреи, народ простой, не мелочный, поэтому сделка состоялась. Но вагон нашего воздуха пошел немного дешевле егупецкого. Ну стоит ли говорить о (коммерческая тайна) рублях?
И коммерсанты это отметили в доме Гутен Моргеновича, где усилиями мадам Пеперштейн были приготовлены фаршированные шейки, фаршированный же карп, суп из куриных грудок с клецками и жареный гусь. А как же без жареного гуся? Без жареного гуся никак. И запах от этих пищ из окон квартиры Гутен Моргеновича словно быстрокрылая птица долетел до ноздрей голодного Шломо Грамотного. И он громко вздохнул. От вздоха вылетели стекла из окон квартиры Гутен Моргеновича, и он вспомнил страдания Шломо Грамотного. И у него к этим страданиям появилось большое человеческое сострадание, и он дал мадам Пеперштейн распоряжение вынести для Шломо Грамотного понемногу от всего. И вот она собрала мисочки, тарелочки, рюмочки, что заняло какое-то время. И этого времени хватило, чтобы к моменту выноса мисочек, тарелочек, рюмочек около Шломо Грамотного обнаружились Ванда Кобечинская, Ксения Ивановна и… Правильно. Девица Ирка Бунжурна.
Как она там оказалась, уму непостижимо. Картинка с Городом лежит у меня на журнальном столике, и попасть в Город, минуя журнальный столик и мои близорукие, но всевидящие Ирку Бунжурну глаза, физически невозможно. Однако вот так оно и произошло. В комнате ее не было, а вот в картинке ее есть. А рядом с этой картинкой лежит другая, свежеотваянная, и в ней тоже отсутствует минимальное представление о путях проникновения ее на мой журнальный столик. А на картинке…
Такая у меня работа.
Рассказ о неведомом еврее
Где-то в невообразимой дали времен в отдаленной части Российской империи, которой суждено прирастать могущество империи, жил один еврей. Почему я акцентирую внимание на словах «один еврей»? Потому что он в этой части империи был единственным евреем, настолько единственным, что окрестное население даже не представляло себе, что имеют среди себя еврея. Они думали, что это такой странный якут. А почему якут? Да потому, что якутов в этой части империи знавали, а вот евреев не было никогда.
Теперь вы понимаете, какая это была глушь. Так вот местное население и решило, что это такой странный якут.
Прибрел он с той стороны, в которую уходит день и с которой приходит ночь. И приход Неведомого Еврея совпал с приходом ночи. С ним не было ничего, кроме маленького саквояжа, что дало населению лишний повод думать, что это такой странный якут. Хотя они до этого никогда не видели саквояжа. Но они себя успокоили, что странному якуту и положено носить такую странную котомку. А иначе чего бы ему быть странным? Мощный нос – это еще ни о чем не говорит. Может быть, основная масса якутов, проживающая вне мест проживания местного населения, как раз и носит такие носы, а якуты с плоскими носами, изредка появляющиеся в местных местах, как раз и являются странностью для якутов, живущих где-то там, в местах коренных гнездовий якутов.
Неведомый Еврей и имя носил неведомое – а раз неведомое, то чего его и запоминать? Разве что для коллекции редких имен, а постольку-поскольку такую коллекцию никто не собирал, то и имя вносить было некуда, а раз некуда, то кого оно вообще волнует! Если ты якут, то и имя должен иметь какое-никакое, а якутское, а какое такое якутское, знать не знаем, ведать не ведаем.
Короче говоря, Неведомого Еврея называли просто Евреем. А как еще прикажете называть странного якута с саквояжем и с именем, не пригодным для хранения?
Еврей нашел себе место проживания в странноприимном доме мадам Синебрюховой в долг, когда он немного развернется. Что такое «развернется», мадам Синебрюхова не понимала, но в тоне Еврея было что-то такое проникновенное, что мадам Синебрюхова ПРОНИКЛАСЬ и поселила его в своей персональной опочивальне, где Еврей расплачивался за кров и стол, читая мадам Синебрюховой безразмерный роман некоего Эжена Сю «Парижские тайны».
Первые дни Еврей ходил по Месту, куда он пришел вместе с ночью, и приглядывался.
Он приглядывался к скотобойне, но не приглянулся местным скотобоям – из-за переизбытка рабочей силы на скотобойном рынке труда.
Он приглядывался к войлочной фабрике и приглянулся г-же Рябоконь, по коей причине сильно не приглянулся ее супругу г-ну Рябоконю, который по совместительству был владельцем войлочной фабрики.
Он приглядывался к пекарне и даже некоторое время проработал там. Но вместо традиционных для России французских булок у него получались лепешки, при виде которых отдельные некоренные жители Места пускались в лезгинку с криками «Асса!», которые пугали русских младенцев. И даже взрослых. А кто не испугается при виде лезгинки с лепешкой в руке и кинжалом в зубах? Так что Еврея из пекарни – «гей вег, жидовская морда». Заметьте проницательность русского народа в отдаленных местах Российской империи: не зная, что такое евреи, назвать предполагаемого якута евреем и жидовской мордой. Из чего я делаю вывод, что жидовская морда живет в крови каждого русского человека.
Много к чему приглядывался Еврей в Месте, пока однажды не зашел по какой-то надобности на почту, которая располагалась бок о бок с винокуренным заводиком Апполинария Иерихоновича Абстинентского, купца второй гильдии. И на почте как раз этот Апполинарий Иерихонович Абстинентский и обретался. Получая из окрестных поселений матерные рекламации по поводу протекания при доставке бутылок белого хлебного вина крепостью 40 градусов. Потому что поставщики пробки из Индии поставляли паленую пробку, изготовленную из простреленных во время восстания сипаев пробковых шлемов. Через эти дырки белое хлебное вино крепостью 40 градусов и протекало.
И в это же самое время на почте самостоятельно обретался курьер градоначальника, действительного статского советника, князя Шмурдяк-Курляндского Филипп. Он забирал для канцелярии пакеты, пришедшие в Место, из уезда, из губернии, из Санкт-Петербурга. И этих пакетов было много! И на каждом пакете было по три большие сургучные печати! Еврей пару-тройку раз попереводил взгляд с винокура на курьера, с курьера на винокура и через минуту понял, что наконец-то пригляделся!
Через час из канцелярии градоначальника в сторону винокуренного завода потянулся ряд возов, нагруженных использованными казенными пакетами, скопившимися за времена градоначальничества в городе Место. Причем некоторые, чтобы не сказать многие, то есть почти все, оказались даже нераспечатанными. А зачем? Ну скажите, какие могут быть общие интересы у Места с уездом, губернией, Санкт-Петербургом? Вот и я так думаю. Но мое мнение не имеет никакого значения. Главное, что его придерживался градоначальник князь Шмурдяк-Курляндский. И только одно письмо оказалось распечатанным. И то только потому, что изначально было не запечатано. Такая берестяная грамотка со словами (даю перевод с берестяного): «Ах, князь, Вы мене смущаете. Какой Вы, право, бесстыдник. Я никак этого не могу себе позволить. Только Вам. Пожалте нонеча после заутрени ко мне в опочивальню. Хоромы графа Петрищева, терем № 3, третий этаж. По приставной лестнице». А другие письма были даже не тронуты.
И вот эти возы с государственной эпистоляркой были разгружены во дворе винокуренного завода Апполинария Иерихоновича Абстинентского. Там же стояли на кострах котлы, сильно напоминавшие котлы из сказки «Конек-Горбунок». Но предназначались они не для живой и мертвой воды, как вы могли предположить, если бы верили сказкам, а для более прозаичных целей. А именно – для переплавки содранных с казенных пакетов казенных же сургучных печатей в обыкновенный банальный сургуч. И в этот сургуч специально обученные люди макали горлышки водочных бутылей с водкой! И водка не выливалась! И это великое изобретение дошло до времен расцвета моей младости. Красным сургучом заливалась водка по 21 руб. 20 коп., на которой просто по-русски коричневыми буквами было написано одно слово – «ВОДКА». Ее пили преимущественно в местах общего пользования типа дворов домов, детских садиков, туалетах стадиона «Динамо», сбившись в стайки по три человека. И это общение называлось по-простому «на троих». А отдельные лингвисты, изощренные в семантике, называли этот же акт свидетельства общинности русского человека «по семь рваных».
А потом людишки изобрели алюминиевые пробки, называемые «бескозырками». Но если пустые бутыли сдавались в пункты приема посуды, то «бескозырки» никуда не сдавались. Я подсчитал, что из «бескозырок» от водки, выпиваемой в СССР за год, можно было бы построить до… (много) самолетов ТУ-104 и захватить лидерство на мировом рынке пассажирских авиаперевозок. Но до этого было далеко.
А тогда водка-непроливайка винокуренного завода Апполинария Иерихоновича Абстинентского заполонила российский рынок белого хлебного вина крепостью 40 градусов и выплеснулась на мировой рынок, где ее стали называть попросту «Смирновской». И Апполинарий Иерихонович был вынужден сменить фамилию на «Смирнов». И с каждой бутылки Неведомый Еврей, принимаемый за неправильного якута по прозвищу Еврей, за свое изобретение получал по 3 копейки. А вы знаете, мои любезные читатели, добравшиеся до этой части моей книги, что такое 3 копейки с выпитой в России бутылки водки? Это означает до… (много) денег. Неведомый Еврей выписал себе из Житомира (наверно, у него с Житомиром было что-то связано) невесту, женился на ней, но детей завести не успел, потому что бывшая невеста, а ныне жена сбежала от Неведомого Еврея по неведомой причине неведомо куда.
И с тех пор в Месте о ней ничего не было слышно.
А Неведомый Еврей чудовищно запил, благо было что, и помер. Для похорон искали какие-никакие документы, чтобы что-то написать на чем-нибудь могильном. И нашли. И написали. Прошли времена. Что-то могильное почти ушло в мать сыру землю, но до сих пор на нем видна полустершаяся надпись «ПЕПЕРШТЕЙН».
А теперь, господа-товарищи, слезы текут ручьем от этой печальной истории доселе отсутствовавшего в моей повести об одном Городе господина Пеперштейна, в отличие от присутствующей в ней мадам Пеперштейн. И было бы странно, если бы я об отсутствующем в повести рассказал, а присутствующую проигнорировал. Как-то это неправильно.
История мадам Пеперштейн
Итак, господа, история мадам Пеперштейн началась тогда, когда закончилась история господина Пеперштейна, то есть тогда, когда она от него сбежала. Ну, в этом не было бы ничего необычного – мало ли жен, девиц сбегали от своих вполне себе приличных мужей в неведомую даль, за туманом и за запахом тайги, за любимым в ночь, гусаром, драгуном, кавалергардом. Бывали случаи и похуже. Одна мужняя жена, покинув мужа с положением, убежала на соседнюю улицу, к забулдыге мелких размеров и непонятных достоинств, которого она кормила, поила, опохмеляла и даже подставляла щеку, если тот в связи с потерей по нетрезвости ориентации в пространстве не мог по ней попасть. И так жила с ним много лет в грехе, пока он не умер, после чего она нашла охламона еще мельче, еще грязнее, еще паскуднее. И жила с ним, пока он, утомившись от ее стойкости, не подрос, не помылся душой и телом и не расстался с паскудством. И тут она, поди ж ты, слиняла к совершенному ничтожеству, о котором вообще ничего сказать невозможно. Как нечего сказать о повстречавшейся куче говна в салоне мадам Шерер. Совершеннейшая мерзость. И эта мерзость в конце концов пустила даму на донорскую кровь, отчего та скончалась. И от нее осталась лишь улыбка на устах, которую и сжег в местном крематории ее первый муж с положением. И эта непонятная, кретинская, неосмысленная улыбка летает по белу свету, заставляя вполне себе достойных женщин все бросить и бечь, бечь, бечь в невозможную бестолочь и дичайшую мраку. Вот за это самое я их люблю. А вы, господа, как хочете, и я не понимаю, какого рожна вам еще надо. Когда над Божьим миром туда-сюда чайкой-стрижом полетывает непонятная женская улыбка.
Но от экзистенциальных исканий возвернемся назад и загоним себя в рамки повествования, чтобы оно обрело хоть какой-либо смысл. Итак, мадам Пеперштейн, выписанная из Житомира для создания семейного очага господина Пеперштейна, семейный очаг покинула вскорости после создания и убежала из Места на запад, а потом на юг. Она не знала, куда и зачем бежит. Просто тяга какая-то тянула ее сначала на запад, а потом на юг. И эта самая тяга притянула ее в земли, пахнущие детством ее предков, о которых ей ничего не было известно, и этот запах провел ее сквозь постоянные бегства из одной земли в другую, из одного времени в другое, из одной печали в другую, от одних слез к другим и в конце концов привел ее к рваным шатрам, в которых жили ее предки, измученные тяготами рабства, в котором они пребывали долгие годы. И она осталась с ними, потому что слезы, источаемые этими людьми, были ее слезами, мозоли на их руках были ее мозолями и пот их был ее потом. И пахла она им. Но однажды среди всех запахов тонкий нос ее услышал запах пота, от которого между ног ее стало мокро.
Вы спросите у меня, где запах пота, а где – мокро между ног. И тогда я отвечу вам, что вы обратились не по адресу. Не знаю, ничего не знаю. Обратитесь к матерям вашим, к женам вашим, к дочерям, ставшим женщинами, может, у них найдете ответ, но, скорее всего, нет, потому что, наверное, они и сами не знают ответа на этот вопрос, и ответ на него известен лишь, сами знаете кому. И этот запах заставляет женщин бросать все на свете и идти за ним, и пропади оно все пропадом.
Так и бывшая мадам Пеперштейн услышала этот запах и поняла, что именно он и заставил ее бросить все (я имею в виду г-на Пеперштейна в Месте) и уйти в другие земли и в другие времена.
Его звали Иуда. Он также услышал ее запах. А потом их запахи перемешались и стали одним великим, запахом. Запахом, который две плоти делает одной бысть. И было им счастье. Но как-то так случается, что счастье у моего народа не бывает долгим. Но это не значит, что оно становится менее счастьем. Мой народ знает, что такое краткость счастья, и ценит каждую его секунду, и возносит хвалу Господу за нее, и не слышал я от еврейских женщин стенаний: ах, зачем эта ночь так была хороша, не болела бы грудь, не стонала душа.
И Иуда и мадам Пеперштейн долгие секунды жили вместе, и счастье их пребывало с ними, пока однажды народ, в подчиненности у которого находился мой народ, не пришел к ним за очередными податями и «так погулять». То есть попить на шару вина, дочерей и жен народа моего понасиловать в меру сил, а мужчин увести с собой в рабство на строительство водопровода. И изнемогший народ готов был уже, как и положено, склонить головы под ярмо, а дочери и жены его покорно взошли на супружеские ложа, чтобы, как и положено, осквернить его вынужденной неверностью, а потом заполнить собой лупанарии и термы покорителей.
И тут случилась маленькая лажа. Мадам Пеперштейн, долго жившая в России (ныне Украина) и каким-то образом (пролетал как-то во времена молодости ее матери через штетл под Житомиром отряд то ли запорожских, то ли донских, то ли кубанских казаков) кровь имела достаточно буйную, что доказывает ее побег из сытого дома г-на Пеперштейна через земли и века на запах Иуды в его рваный шатер. И она никак не захотела осквернять ложе, на котором она провела несчетное количество счастливых секунд, и уж никак не желала заполнить своим телом лупанарии и термы. А потому, когда воин в шлеме с конским хвостом вошел в шатер, чтобы в закономерной последовательности войти в нее, и прижал ее к супружескому ложу, она языком нащупала его яремную жилу, и зубами прокусила ее насквозь. Мужское воина, уже готовое заполнить собой ее женское, опало от потери крови, а сам он захрипел и свалился с ложа. А голая мадам Пеперштейн откусила его бывшее и, держа его над головой, вышла из шатра, залитая чужой кровью, и пошла туда, где чужие воины связывали мужчин ее народа. В том числе и мужа ее Иуду. И увидев ее с чужим над головой, муж ее Иуда разорвал веревки, выхватил из ножен вязавшего его воина меч и пошел рубить врагов направо и налево. А если вы подскажете мне еще какую-нибудь сторону, то и там Иуда рубил своих врагов.
И отогнал врагов от шатров своего и моего народа.
И в конце концов вместе с братьями изгнал их из Ханаана. А по прошествии времени умер от старости на руках у мадам Пеперштейн. А она взяла с собой его запах и пошла туда, откуда пришла.
А так как времён прошло много, то позарастали стежки-дорожки, где проходили ножки мадам Пеперштейн из Места, и след ее подзастерся временем, вместо Места, откуда она ушла, ноги привели ее в Город, который не так давно основали семеро хеломских мудрецов. И в котором только-только начали образовываться некие подобия улочек и переулков. И одну из улиц мадам Пеперштейн назвала Маккавеевской – в честь мужа своего Иуды Маккавея, а три переулка нарекла Маккавеевскими – в честь братьев мужа своего Иуды.
А когда один из хеломских мудрецов, не будем тыкать в него пальцем, а просто скажем, что это был реб Метцль, сделал себе недовольное лицо, мадам Пеперштейн показала ему откушенный мужской конец. Реб Метцль не понял, что это означает: то ли его употребят этим концом, то ли ему отрежут его собственный. Но так как оба варианта его не устраивали, он снял свои возражения. И таким образом, в Городе появились улица и переулки имени Маккавеев, а в отсутствии в цивилизованном мире достаточного количества откушенных мужских достоинств в качестве угрозы стали показывать средний палец.
Чем жила мадам Пеперштейн, не могу сказать достоверно, но чем-то же жила, иначе как бы она могла столько времени оставаться живой. А когда в Городе появился Гутен Моргенович де Сааведра, то она поступила к нему в услужение и услужала, услужает и будет услужать. Сколько надо. А почему нет?
Вот такой вот краковяк.
Меж тем за моими рассказами утро среды незаметно перевалило в день опять же среды, а затем и в вечер.
Есть, я заметил, такое вот свойство у дня. Он вылупляется из утра, а потом тихо-тихо вползает в вечер. И я готов мазать на что угодно, что после вечера наступит ночь. А потом – утро. И что интересно – следующего дня! Каково?!. И все это время около дуэта Шломо-Осел в застывшем состоянии застыли юная Ванда Кобечинская, Ксения Ивановна, девица Ирка Бунжурна и мадам Пеперштейн. И все они пришли, дабы утолить голод Шломо, которому нужно было до решения (возможного) своей участи додержаться до пятницы, когда арабы в своем квартале, вволю отмолившись, решат наконец, как разорвать сложившиеся отношения промежду Шломо Грамотным и Ослом, скотиной такой, обезобразившие светлый образ площади Обрезания и внесшие сильное беспокойство в умы местного населения.
Шломо, оказавшись в окружении четырех дам, пришедших для его окормления, оказался в сильном моральном затруднении: пище которой из дам отдать предпочтение и таким образом внушить ей некоторые надежды? И он решительно не понимал, как выпутаться из этого сложного положения, пока не сообразил, что единственная из четырех дам, НЕ ПРЕТЕНДУЮЩАЯ, была мадам Пеперштейн. А сообразил он это потому, что мадам Пеперштейн, некоторое время стоящая со своими судками, мисочками, тарелочками в безразличном положении души, решилась уходить. Потому что Шломо Шломо, а кровать Гутен Моргеновичу де Сааведре стелить, кроме нее, некому. Других женщин, способных застелить ему постель, в доме не было. Да и неспособных тоже. Вообще никаких. И в этом таилась некая тайна. Какая-то таинственная тайна, которую я пока еще не придумал. Но есть у меня такое ощущение, такое шебуршение в мозжечке, что вот-вот чего-то набухнет в моей седой волюнтаристской голове, и выплеснется на вольную волю, и загуляет на свободе, и разрешатся чьи-то судьбы, и к кому-то вот-вот подберется то самое оно, и все, у кого-то вот-вот яркими красками, и прочее – вспышки там разные, просветление, радость несусветная (а сусветная есть?), и вот образуется то, что я придумаю. И будет это хорошо. Потому что очень хочется придумать что-то хорошее, а не тоску-печаль всяческую, и думаю, что это рано или поздно произойдет, потому что в этом есть свойство моего народа. Из тоски-печали производить что-то хорошее. А куда деться? Если ты сам не придумаешь что-то хорошее, то никто тебе этого хорошего не даст.
Ну да ладно. Этот буриданов Шломо застыл среди четырех баб с едой, и опять возникла финальная сцена из сатирической пьесы Николая Васильевича Гоголя «Ревизор», да простит великий Адонаи ему все, что ему будет угодно простить.
И тут на площади Обрезания появился Альгвазил, которого давно никто не видел, потому что эта паскудная девица Ирка Бунжурна его никак не нарисовала, мотивируя тем, что никогда не видела альгвазилов и даже не представляет, что это такое, и писал я его во первых строках моего письма исключительно по наитию, и вот именно это наитие и появилось на площади Обрезания, ко всеобщему изумлению. Появилось, грохоча латами и щелкая разболтавшимся забралом. Оно совершал свой многовековой бессмысленный обход Города, и, кто знает, может быть, из-за этой бессмысленности Город уже много веков продолжал свою многовековую жизнь. А потому что, милостивые господа, из многовековой бессмыслицы в конце концов выкаблучивается такая мысль, что всем мыслям мысля, типа солнышка, цветов, зверей и гадов, и даже мужика с бабой. Вон оно как бывает. И этот Альгвазил, судьбоносно проходя через площадь Обрезания, остановился у собравшегося на данный момент населения Города плюс неидентифицированного Осла, и все собравшееся на данный момент население Города плюс неидентифицированный Осел услышали глухое клокотание, доносящееся из-под лат Альгвазила в том месте, где под ними подразумевался живот. А щелканье забрала заглушило клацанье зубов (оказывается, они у Альгвазила были, кто бы мог подумать – за столько веков сохранить зубы, а чего им бы не сохраниться, если ими ничего не делать). И женщины поняли.
А чего ж тут не понять, если у условного мужчины (а почему условного, а потому – кто может понять, кто там под латами, мужчина или кто-то другой, типа, скажем, Жанны Д’Арк, которая тоже уважала по делам разгуливать в латах) клокочет в животе и клацают зубы. Поэтому мадам Пеперштейн, как женщина опытная в обращениях с латами, в смысле там нож между четвертой и пятой пластиной или стрелу в глазной проем, быстро освободила ротовое отверстие от забрала и влила, вбросила туда содержимое судков, мисочек, тарелок. И клацанье зубов заменилось звуком мельничных жерновов, завертевшихся от мельничного же колеса, на пересохшие лопасти которого наконец-то хлынул поток воды с гор, вершины которых зажмурились от появившегося солнца и пролились слезами растаявшего снега. (По-моему, круто.) И еда от мадам Пеперштейн исчезла в недрах Альгвазила. И в эти же недра последовал свиной окорок, запеченный в пиве Ксенией Ивановной, о котором потом долго печаловался околоточный надзиратель Василий Акимович Швайко.
Так что для Шломо Грамотного, которому четыре дамы несли хлеб насущный в разных воплощениях, осталось лишь то, что принесли уже бывшие в такой ситуации Ванда Кобечинская и горе мое девица Ирка Бунжурна. Мне вот только было интересно, что могло принести это последнее. Потому что, если вы помните, борщ, который она несла для Шломо, оказался на лице человека-профиля, обретшего в результате этой процедуры доселе отсутствовавший фас, что впоследствии потребовалось для дела по харрасменту бывшего человека-профиля к Даме с собачкой, просившей милостыню в вестибюле м. «Краснопресненская». И чем она собиралась кормить Шломо, мне было непонятно. Но она стала его кормить! Из-за рамок картины мне не было видно, чем именно происходит кормление, но хруст костей вселил в меня смутные подозрения. Что-то он мне напоминал. И я вспомнил! Где-то с час назад точно такой же хруст исходил от меня. И хрустели косточки цыпленка-корнишона по 83 руб. 90 коп. с Преображенского рынка, которого в компании еще трех я зафуговал на гриле. И вот эти три должны были находиться в холодильнике, дожидаясь своего логического конца. И вот их смертный час настал вместо моих зубов на зубах Шломо Грамотного. И приблизила его девица Ирка Бунжурна! Которая мало того что незаметно для меня проникла в картину, так еще, сучка эдакая, прихватила из холодильника моих законных цыплят-корнишонов по 83 руб. 90 коп. с Преображенского рынка, зафугованных на гриле!
Бедная Ванда Кобечинская стояла слегка в стороне со своим маленьким узелком, в котором было несколько сухариков с цукатами, сохранившихся после осады замка Кобечинских в 1248 году тьмами Субудай-Багатура и Джебе-Багатура на предмет пограбить с целью насаждения ислама. Но тогда дело сорвалось. На помощь пану Кобечинскому подвалили недобитые то ли половцы, то ли печенеги, которые тоже помыслили просто пограбить Замок без религиозных изысков и наткнулись на конкуренцию. И в конкурентной борьбе в живых остались лишь два человека: братья Абубакар и Муслим Фаттахи, садовник и поэт. Более нужные, на мой взгляд, Земле люди, чем воины. Ибо без войны, не знаю, как вы, а я обойдусь, а вот без садов и стихов мне будет худо. И они основали арабский квартал… В котором в пятницу…
Ну, я несколько отвлекся. От той осады остались сухарики с цукатами, которые, как самое святое, и принесла бедная девочка для своей недостижимой мечты. Но нет. Не суждено. Шломо уже не мог принять в себя сухарики с цукатами, и не только потому, что переел моих цыплят, а потому, что смотрел глазом вороного коня, на шею которого уже накинул уздечку ловкий конокрад. Смотрел на Ирку Бунжурну. И она смотрела на него глазом вороной кобылицы, на… (вот, просила любви – ну и допросилась! Вот она… Шломо Грамотный… И не спорь. Это моя книга! Рисунки, те – да, твои, так давай рисуй! Рисуй, детка, рисуй… Рисуй мне сад, по которому ты со Шломо идешь, осыпаемая вишневым цветом… Рисуй, детка, рисуй… Рисуй мне облако, по которому ты со Шломо плывешь, а сверху вас греет едва проснувшееся солнышко… Рисуй, детка, рисуй… Рисуй мне зимнюю дорогу, по которой ты со Шломо несешься на счастливой тройке… Рисуй, детка, рисуй… Рисуй мне дом на опушке леса, в котором ты варишь Шломо борщ… Рисуй, детка, рисуй… Рисуй коляску, в которой лежит человек, который пока умеет только плакать… А потом ты нарисуешь его смех, его первые шаги и себя со Шломо в той или этой жизни… Рисуй, детка, рисуй… Господь наградил тебя даром, и в твоей воле нарисовать свою будущую жизнь, в которой не будет козлов, разбрасывающих по жизни майки, человеков-профилей и тех мимолетных, мимоскачущих, мимопрыгающих, на время забирающихся в твою жизнь и усвистывающих дальше, оставляя после себя недоумение и с трудом преодолеваемую брезгливость к собственному телу. Так что рисуй, детка, рисуй… А что не получится нарисовать, то я, детка, допишу, а ты уж потом как-нибудь это и проживешь. И, поверь мне, плохо я тебе не напишу. А уж со Шломо и придумывать ничего не надо.
Я по его глазам вижу что он не чает освободиться от этого дикого Осла взять тебя за руку и привести к папе своему Пине Гогенцоллерну и к своим многочисленным кровным братьям и дочкам коими осчастливили Пиню Гогенцоллерна его многочисленные жены и наложницы и провести тебя под хупой чтобы равви реб Шмуэль Многодетный ох уж мне эта еврейская плодовитость прочел положенные молитвы и евреи Города и прочие его люди а почему бы и нет вы что-нибудь имеете против осыпали вас изюмом и деньгами а почему бы и нет и взойти на свадебное ложе и зачать того человека который поначалу будет уметь только плакать и кусать твои соски и это будет почти так же приятно когда это будет делать Шломо и все будет повторяться и повторяться потому что ох уж эта мне еврейская плодовитость а почему бы и нет вы что-нибудь имеете против я знаю у вас есть много способов уравновесить еврейскую плодовитость еврейской смертностью но мы все равно будем жить вечно и в выживших евреях русских арабах англичанах и даже китайцах потому что их корень живет в моем и находится здесь в Городе созданном по Его воле чтобы жил в нем мой народ и его потомки временно носящие другие названия…
Так что, Крошечка-Хаврошечка, все будет хорошо…
А бедная Ванда опустила голову, окончательно и бесповоротно поняв, что Шломо от нее уплыл и некому отдать сухарики с цукатами, сохранившимися с нашествия Субудай и Джебе багатуров, налетов разномастных казаков, с бесконечно давних времен, когда Город основали хеломские мудрецы реб Аарон, реб Метцль, реб Ицхак, реб Додик, реб Карден-Штуцер и реб Реб. А было это в самом начале начал. То есть совсем недавно. В смысле давным-давно. И Ванда Кобечинская, которая за два-три последних века выросла с пятнадцати до шестнадцати лет, поняла, что оставаться юной больше не для кого, высыпала сухарики с цукатами под забрало Альгвазилу, и начала неудержимо стареть на глазах Шломо с Иркой Бунжурной, Осла, жующего соломинку из канотье Гутен Моргеновича, самого Гутен Моргеновича, наблюдавшего за процессом из окна, и как бы невзначай проходивших мимо прусских шпионов, загримированных под небольшое торнадо (на два грима не хватило). И вот Ванда постарела до немыслимого состояния и упала под страшным грузом лет. И уже совсем было исчезла из жизни Города и моей книги (собственно говоря, я так и собирался сделать, но по глазам Ирки Бунжурны, уже слегка погрузившейся в будущее, понял, что толику счастья она готова уделить этой бедной полячке. А я что?.. Действительно, что я?.. Что я могу сделать?.. Не было в моем Городе Сына Его, чтобы воскрешать мертвых, не было живой и мертвой воды, мы же живем в реальном, а не сказочном Городе. Не было принца на белом коне, чтобы оживить Спящую красавицу. Не было ничего! И никого! Стоп. А, собственно, что здесь делает Альгвазил?.. Которого я придумал в самом начале книги для оживления антуража?.. Ведь что-то ж варилось у меня в сознании, под ним и без него?.. Ведь не может же он шастать по Городу и страницам просто так, в целях бессмысленного комикования?.. Не-е-е-е-е-е, ребята, не мо-о-о-о-о-о-о-ожет… И вот он поднимает свое забрало… А там – пожилое лицо благородного идальго с закрученным усами и изящной эспаньолкой. Как и положено испанцу. Не носить же ему бороду лопатой или заплетенную в косички. Он, чать, испанец, а не из Вологды какой или Шаолиня. И вот у него в глазах загорается жгучая страсть, как у всякого благородного идальго при виде благородной дамы. Я имею в виду благородную даму Ванду Кобечинскую. И тут из своего окна Гутен Моргенович де Сааведра задает ему вопрос:
– Может быть, благородный дон скажет, зачем он несколько сот лет шлялся по периметру Города с опущенным забралом, не показывая людям свое приличное лицо? Уж не думал ли благородный дон, что евреи решат ему мстить за изгнание из Испании? Так евреи не такой народ, чтобы так долго носить в себе злобу к благородному дону.
Благородный дон отрицательно покачал головой, мол, нет, благородный дон не думает, что евреи такой народ, чтобы так долго носить злобу за изгнание из Испании. Вот сколько может показать благородный дон простым покачиванием головы. Но и Гутен Моргенович де Сааведра тоже оказался не лыком шит (откуда в нашем Городе лыко?), поэтому он подмигнул правым глазом – и на площади появился отец Ипохондрий в праздничном одеянии, подмигнул левым глазом – и на площади появился Алеха Петров с баяном и вжарил на баяне венчальную чего-то, и всякая пацанва в белых одеждах вокруг завертелась, и народишко понабежал, а Шломо Сирота, естественно, понаехал. Потому что на инвалидной коляске не очень-то понабежишь. И тут кто-то откуда-то выкатил бочку вина, и все стали пить, петь и плясать на веселой свадьбе бывшего Альгвазила, а ныне благородного дона на пани Ванде Кобечинской. И проходящий мимо бродячий художник из Голландии Антонис Ван Дейк зарисовал благородную пару на картинке, которая до сих пор висит в замке Кобечинских, а та, что висит в Лувре или Эрмитаже, уже не помню, была лишь копией, наваянной ловкой рукой реб Аароном Шпигелем, то ли фальшивомонетчиком, то ли ювелиром, для тренировки перед изготовлением банкноты в 1226 фунтов стерлингов, которая была продана им одной супружеской паре из Крыжополя, отбывающей по религиозным мотивам на ПМЖ в Америку на корабле «Мэйфлауэр», и которую у них по религиозным мотивам изъял один пуританин, Оливер Кромвель, которому потом отрубили голову, но не за банкноту, а по религиозным и контрреволюционным мотивам, а также чтобы не простаивал топор. А у выходцев из Крыжополя сняли скальпы индейцы племени сиу – также по религиозным мотивам. Каким – неизвестно. Ну и чтобы томагавк не простаивал.
Ну, вот эта свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли, и общая благость охватила все население Города, и вино лилось рекой, и еда падала водопадом, и раввин Шмуэль Многодетный под горячую пьяную руку уже готов был обвенчать Шломо с Иркой Бунжурной, но встал вопрос: куда деть Осла? И практически весь Город в очередной раз впал в ступор. Кроме благородного дона и пани Ванды Кобечинской, которые интенсивно осваивали свою брачную ночь.
И весь Город пребывал в ступоре всю ночь. И вышел из него от крика муэдзина с минарета мечети в арабском квартале, сзывающего правоверных на праздничную пятничную молитву. После которой мусульмане обещали решить проблему Осла на площади Обрезания.
Но, любезный мой читатель (как же ты мне надоел!), я должен тебе рассказать историю арабского квартала, как и каким образом он образовался в Городе, как вырос из двух братьев Фаттахов, кои волей судеб остались в живых после татаро-монгольского нашествия на Город. Оплоте еврейства и выползшего из него христианства.
История рабского квартала
Итак, после неудачного налета татаро-монголов на Город в живых остались лишь два татаро-монгола, которые, в принципе, были арабами из Медины. Абубакаром и Муслимом. Садовником и поэтом. Садовник долго ходил по окрестностям Города, глядя в землю, пытаясь что-то найти. Хотя, как вам должно быть известно, что-нибудь путное можно найти только на небе. Ибо там, на небе, и живет начало всех начал. И неизвестно, сколько бы он так ходил, если бы однажды не встретил на пути Пиню Гогенцоллерна и реб Бенциона Оскера, вторую неделю обсуждавших, что хотел сказать посетивший некогда Город Екклезиаст стихом «Не познаешь ты путей ветра, не знаешь, откуда кости в животе у беременной, – так и не познаешь и дел Бога, который творит все». И после скитаний сели у постороннего камня, чтобы перекусить яблоком (я вас умоляю, не ищите смысла в слове «яблоко», ибо это было простое яблоко сорта ранет, яблоко для еды, а не для соблазна). И вот они ели это яблоко сорта ранет, а семечки сплевывали на землю. И эти семечки присыпал землей Абубакар Фаттах. Аллах (Господь, кто не знает) опустошил над ними облака. И семечко яблока умерло и в смерти дало жизнь. А пришедший брат Абубакара поэт Муслим произнес над ним стих: «Человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом росток, потом полное деревце. И так вырастает яблоня». Хороший стих. Я же вам говорил, что садовники и поэты важнее воинов. А вот кто важнее: садовники или поэты, я сказать не могу. (Позднее этот стих переделал несколько на свой лад один человек по имени Исса из Назарета. Тоже, между прочим, поэт. И пророк. Убили его за его пророчества. Недалеко от Назарета. И не стало пророка в своем отечестве. Опасное дело – поэзия. Но без нее нельзя. Яблони без нее не растут.)
И вокруг этой яблони, от семян ее, вырос яблоневый сад сорта ранет, который потом нарисовала девица Ирка Бунжурна и в котором от Симы и Гирша бен Гирша некогда произошел Шломо Сирота. И расположилась деревня Хацепетовка. И когда в нее пришло Горе, то остался один Шломо Сирота. И братья Фаттахи, которые и спасли Шломо Сироту. А выжили они потому, что без садовника и поэта не выживет и Земля.
И у меня уже смешалось в голове, что было раньше: девица Ирка нарисовала яблоневый сад сорта ранет, а потом его посадил Абубакар Фаттах, а озвучил Муслим Фаттах или все было наоборот, – но какое это, я вас спрашиваю, имеет значение, ибо вот вам сад, вот вам садовник и поэт Фаттахи, а где-то в Городе живет Шломо Сирота. И там же на площади Обрезания жители Города ждут, чем закончится арабское совещание в арабском пригороде после пятничного намаза. Ах да… Я обещал вам рассказать, как в нашем Городе образовался арабский квартал.
А вот так вот и образовался. В яблоневом саду. Тот, который на небе, привел в него женщин и мужчин, которые за века после хиджры устали от резни друг друга и других, чтобы они чуток поуспокоились и пожили рядом с теми, кого резали, и подумали… Был среди них такой пророк – Абу Али ибн Сина, который рассказал, что лучше лечить, чем резать. И вот уже много веков в нашем Городе рядом с евреями и христианами живут арабы.
«Аллаху Акбар»,
«Аш-хаду алла илаха иллалах»,
«Аш-хаду анна Мухаммад Расул Аллах»,
«Хайа ‘ала-с-Салах»,
«Хайа ‘ала-л-фалах»,
«Аллаху Акбар»,
«Ла илаха илла-лах», –
кричал муэдзин с минарета, и к мечети со всех концов Города заструились его обитатели в надежде, что наконец-то будет решен вопрос об изводе со священной для всех площади Обрезания всем осточертевшего Осла.
Целый ряд арабов, исключая братьев Фаттахов и имама Кемаля уль Ислами, не участвовавших в предыдущих событиях, были изумлены появлением в квартале такого количества иноверцев и стали готовиться к беженству, предварив его небольшой интифадой, переходящей в джихад. И вот уже были вынуты сабли, сохранившиеся от Салах-эд-Дина, пушчонки от султана Османа, оживили скелет Джавлета, которого таки достал Саид, ну и подсобирали булыжничка, оружия арабского пролетариата. Детишки закатали рукава, женщины натянули на глаза хиджабы, никабы и прочие паранджи, а мужчины сняли башмаки и зашли в мечеть, чтобы помолиться перед джихадом. И забрать хранившиеся там «Калашниковы».
Неверные, увидев не совсем дружественные приготовления, вытащили из-под полы лапсердаков «Узи». А должен вам сказать, несмотря на весь свой российский оружейный патриотизм, что «Калашников» супротив «Узи» – все равно что плотник супротив столяра. И вот-вот могла завязаться кровавая битва, и никакого вам намаза, и никакого мирного сосуществования конфессий, а за дружбу народов я бы даже и не заикался. И если вы в такой ситуации что-нибудь вякнете на предмет Осла на площади Обрезания и связанного с ним одной цепью Шломо Грамотного, то дуэт «Калашникова» и «Узи» это вяканье может сильно заглушить. И вот вам третья мировая война в одном отдельно взятом городе. Вам оно нужно? Вот и мне тоже совершенно нет. Мне война эстетически не близка. Вот поэтому я и выпускаю на арену моего любимца и в какой-то (не знаю в какой) степени альтер эго маклера Гутен Моргеновича де Сааведру. Как вы помните, в нашем Городе его одинаково хорошо принимали и в церкви, и в синагоге. Так почему бы его так же хорошо не принять и в мечети? А? Как вы думаете? Нет, я вам ничего не навязываю. Но если человек в пятницу утром приходит к мечети на зов азана в чалме и задолго до входа снимает лакированные чувяки от Моше Лукича Риббентропа, то ведь на них же не написано, что это глубоко еврейские чувяки. Вполне себе международные чувяки. И выглядит Гутен Моргенович так, как будто только что отзавтракал с имамом Али. И с десятью другими имамами ожидает прихода двенадцатого. По имени Махди.
Я понимаю, что это имя вам, людям, далеким от ислама, ничего не говорит, но я вам намекну, что это мусульманский Иисус. Только к христианам он уже пришел, и уже ждут его второго пришествия, а к этим пацанам он еще даже и по первости не наведывался.
Так вот, появление Гутен Моргеновича отменило третью мировую войну, и мусульмане, поснимав башмаки, сапоги и чувяки, вошли в мечеть. И оттуда послышался практически треснувший голос имама Халиля уль Ислами, вещающий что-то невыносимо божественное.
И тут в толпе раздался голос Пини Гогенцоллерна:
– Евреи, очень похоже, что к этой мусульманской обуви приложил руку Моше Лукич Риббентроп. Более того, я вам скажу: больше к этой обуви руку никто не прикладывал…
Евреи, к которым обращался Пиня Гогенцоллерн, посмотрели на мусульманскую обувь и увидели, что она ничем не отличается от иудейской. А еще через секунду к такому же выводу пришло и христианское население. Только по отношению к христианской обуви. Включая и прусских шпионов, на сей раз загримированных под правый и левый ботинок от Моше Лукича Риббентропа.
И теперь скажите мне, если вам есть что сказать: какой смысл в межрелигиозных распрях, если на всех про всех есть всего один сапожник?
И в моем Городе воцарился мир. Все было бы замечательно, если бы не пресловутый Осел на площади Обрезания. И вся иудеохристианская цивилизация Города обратила свои взгляды на мечеть в ожидании решения вопроса мусульманской цивилизацией.
И через час выяснилось, что мусульманская цивилизация вопрос не решила. То есть от горячих голов поступали предложения зарезать Осла во славу Аллаха, но холодные головы его отвергли, мотивируя, что вряд ли зарезанный Осел добавит Аллаху, Милостивому и Милосердному, лишней славы…
И все, господа, это был финиш.
Ну и что прикажете делать в таком состоянии? Нет конца истории моего Города, нет ее завлекательного завершения. Чтобы все было хорошо. Чтобы катарсис накрыл все своим умиротворяющим лоскутным одеялом. Шекспир, Лопе де Вега, социалистический реализм. Ничего нет.
Город застыл в молчании у мечети арабского квартала, хотя я предпочитал бы увидеть его в повседневной многовековой суете на площади Обрезания, а я тоскливо смотрел на него из своей комнаты через монитор ноутбука. И тут из него раздался голос:
– Михаил Федорович, я придумала! Протяните мне карандаш…
Я протянул в монитор карандаш, который внезапно появился на моем столе. Он исчез в глубинах монитора, и на экране опять воцарилось темное молчание.
И тут его прорвал торжественный, как первомайский салют, крик Осла. Экран вспыхнул ослепительно-слепящим светом. Я закрыл глаза, а когда их вновь открыл, через мою комнату к двери на черкизовские просторы под звуки баяна Алехи Петрова шествовал дымящийся Осел с весьма и весьма пикантной юной Ослицей. И таки прошествовал. Во всяком случае, в комнате этой раскаленной пары нет.
На экране ноутбука промелькнули картины бытия моего Города, о котором вы только что прочли (если прочли). И напоследок мне подмигнул интернациональный Гутен Моргенович де Сааведра. А потом экран погас, потому что я не трогал мышь, боясь что-то спугнуть. И только справа горел зеленый огонек, показывая, что ноутбук работает. А я сидел и ждал…
Появится или нет?
Скажет словечко или нет?
Хоть как-то обозначит себя или нет?
Была она или нет?