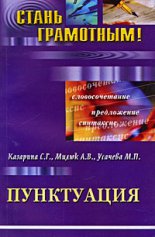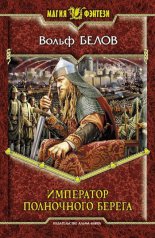Избранное. Наука о культуре и императивы эпохи Маркарян Эдуард
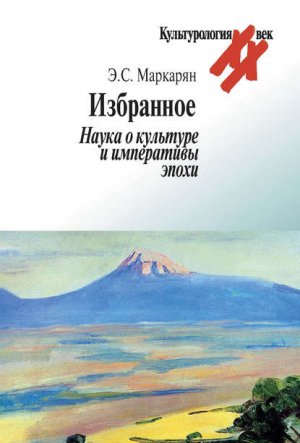
Книга N. прекрасная. Но одно сучье стихотворение, одна чайная ложка дегтя в бочке меда, и вся книга изгажена. Так — для меня. Нельзя стремиться к тому, чтобы нравиться всем.
Июнь 74
Читать — соблазнительнее и легче, нежели писать. Я в гораздо большей мере читатель и «размышлятель», нежели писатель. Хотя писать хочется больше, чем читать. Но это «хочется» — далеко от действия. Брать бумагу, возить пером по бумаге — тягостно. Я писать не умею. М<ожет> б<ыть> у меня как у Далчева: «Мысль моя — робкая птица…» (это из его прозы). <…> Но если силы будут, все же хочу «вспоминать», записать. Боже, сколько всего было в жизни! Страданья людей, и от людей чаще радости, чем огорченья. <…>
Июль, ночь. 74
…Господи, хоть бы Толя выздоровел! Занялся бы Пушкиным. И вообще первой половиной XIX в. Историк ведь. И так понимает поэзию. Поэт ведь в сущности. Страшная вещь ностальгия, как я боялась ее для Толи. Но то, что происходит, превзошло все мои ожидания.
30 ноября, 74
Читая Аксакова, «Знакомство с Гоголем»:
(Фома Кемпийский — Фома Опискин; пустяковое наблюдение, но все же… Было ли кем-либо замечено? Не знаю что-то.) Но какая книга, каков Аксаков! Книга вышла в 1960 г., а я только теперь ее читаю. (И книга-то моя, собственная!) Книга замечательная.
Перечитывала письма Гоголя разным людям и очень рассмешила Арину, сказав: «Хуже меня письма писал только Гоголь». И сколь ни невероятно, но это почти так.
О Цветаевой.
Много думается о ней. Вчера перечитала ее «Искусство при свете совести». Много верного (пушкинского) о назначении искусства. Но то, о чем Пушкин писал просто, кратко, ясно, точно (см. его «Заметки на полях» о статье Вяземского об Озерове), — у Ц. путано, вычурно, невыносимо. Она пересказывает лишь Пушкина (к сожалению, без ссылки на него, — мысль о вне-нравственности искусства, о его вне-поучительности, о его единственном законе: поэтичности). Не расставалась с Пушкиным всю жизнь (кроме 6 лет после смерти Ахматовой — не могла к нему прикоснуться, такое было сиротство)…
Какие чудесные стихи были у молодой Цветаевой. Сколько истинного новаторства, сколько счастливых находок — в ритмах, в интонации. Уверена, что Пушкин восхитился бы. А потом?
Все эти «попытки» — поэмы с мучительным (и на читательский вкус вымученным) синтаксисом, смутные в мысли, натужные, напряженные, негармоничные. Новаторство — внешнее[17]. Но все — не выдуманное, подлинно-голое ломаной-переломаной души. Но уже совсем — вне-пушкинское. И для него, конечно, неприемлемое. Это не сознательные эксперименты в русском языке, русской речи, в русской поэзии, выверты В. (не-поэта), грешно было бы и сопоставлять. У Цветаевой и в этих мучительных поэмах — душа и голос большого поэта. Но вымученного до такой степени, когда нет и не может быть гармонии, все — анти-гармония, т. е. слово изломанной души. Бедствие. Вот из-за этой же анти-пушкинской стихии Ахматова и говорила, что «ее (Цветаеву) нельзя близко и подпускать к Пушкину». <…> В ее — цветаевских — наблюдениях — есть и верные (хотя бы о «Пугачевском бунте» и «Капитанской дочке» — поразительно), но каким противоестественным языком это все высказано. Нельзя о Пушкине так писать.
- Но все, кому не лень,
- Вторгаются в мой день
- И рвут его на клочья.
- А ночью… Что же ночью! —
- Беспомощная тень
- Плетется еле-еле.
- Ей лишь бы до постели
- … … … … … … … … …
- Пустые разговоры
- И это день за днем
- И это год за годом
- И это до могилы
- И это навсегда
… … … … … … … … …
- Я получаю письма от старух.
- Все то, чего сказать не смеют вслух,
- Не только вслух — и мысленно не смеют —
- Сама перед собой душа робеет…
- (… … … … … … … … …)
- В ожогах сердце. Чем помочь могу?
- Я перед ними в горестном долгу…
… … … … … … … … … … … … … … … …
Господи, помоги мне. Пусть будут стихи — столько раз слышала их, сквозь меня, сквозь сердце шли потоком — только записать, а мне лень было встать, взять тетрадку — думала — не забуду, запишу. А теперь — столько месяцев — молчание — глухое, мертвое. Господи, дай мне услышать.
- В нелегком одном разговоре
- Совсем, о, совсем не со зла,
- Вы мне пожелали горя —
- Конечно, я Вас поняла.
- Вы видели то, что другие
- Не видят. Спасибо, мой друг.
- Вы видели, что летаргия
- Не вовсе невинный недуг.
- Вы мне пожелали горя
- В надежде: а вдруг оживу?
- Не сгину в моем затворе,
- А вновь буду жить наяву.
- … … … … … … … … …
«Фантастика Гоголю не дается» — писал Белинский. Ну что на это скажешь? Какое непостижимое сочетание у этого автора полнейшей тупости с тонкой проницательностью. А вот прочтешь такое заявление — и руки опускаются, плюнуть хочется: тупица, тупица. Юмора не понимал, изящества не ценил. Пушкинское гениальное свойство говорить главнейшее, важнейшее мимоходом, легко, будто едва касаясь — разве Белинский понимал это? Унылая морализующая тупица и — проблесками — зоркость удивительная. Он был туп и груб — «неистовый Виссарион». Улыбка, летучая легкость были ему непонятны. Юмора он не воспринимал. Ему нужна была «идея». Неумеренные восторги по поводу «Бедных людей» сменились грубыми, издевательскими насмешками над «Двойником».
«Бедные люди» — в композиции и во многом другом совершеннее «Двойника». Но, пожалуй, в «Двойнике» при всех его несовершенствах и, прежде всего, крайней растянутости — впервые ощутимы масштабы Достоевского.
…Статьи Асмуса о Пушкине-теоретике замечательны.
- Сожжете иль просто схороните — это неважно.
- А страшно — и это и то, разумеется, страшно.
- Но если забудете вовсе могилу мою —
- Я в чертополохе, в крапиве себя отстою.
- (По правде сказать — я не жалую чертополоха,
- Но в клён превратиться пожалуй что вовсе неплохо.)
1976. 31 июля.
За месяц — ни строки. Читаю, читаю, читаю. Читаю «Прометей», статьи о Пушкине. С Пушкиным — не расстаюсь и только этим жива, — чуть-чуть жива.
сентябрь
Прочитала новую книгу Конецкого. Впечатление сильное и сложное. Он большой писатель.
- Зачем способности, коль нет призванья?
- Да и способностей, пожалуй, нет.
- Когда-то были. А на склоне лет
- Что мне осталось? Только жажда знанья.
- Неутолимая слепая страсть —
- Узнать побольше. Чтенье, чтенье, чтенье.
- Ее огромной тенью
- Скрываюсь, прячусь от самой себя.
- Себя самой боюсь. И этот страх
- Страшней, неодолимей прочих страхов.
- О как мучительно не спит
- Моя ошпаренная совесть!
Мне стоило рождаться на свет хотя бы только ради того, чтобы одно из моих стихотворений помогло Н. в ее чудовищные дни.
Поразительно, что Пушкин стихи Радищева ставил выше его прозы! «Стихи его лучше его прозы».
Пушкин написал «Путешествие из Москвы в Петербург» в 1833—34 гг. (даже в январе 1835 г.). Но читал и знал Радищева, конечно, гораздо раньше. В своем «Путешествии…» («Тверь») он пишет: «В главе, из которой выписал я приведенный отрывок, помещена его известная ода. В ней много сильных стихов». Пушкин называет радищевскую оду «Вольность» известной одой, и это уже говорит о том, что он был с нею знаком ранее.
Невозможно допустить, чтобы Пушкин до 1833 г. не читал радищевского «Путешествия».
Пушкин знал стихи Радищева с юных лет. Еще в 1814 году в поэме «Бова» он писал: «Петь я тоже вознамерился. Но сравняюсь ли с Радищевым?».
Когда он впервые прочел «Вольность»?
«Онегинская строфа» Ода «Вольность»
Пушкин Радищев
перекр. перекр.
а (ж) а (ж)
б (м) б (м)
а (ж) а (ж)
б (м) б (м)
парн. парн.
в (ж) в (ж).
в (ж) в (ж)
г (м) _______
г (м) _______
опояс. опояс.
д (ж) д (м)
с (м) е (ж)
е (м) е (ж)
д (ж) д (м)
з (м) _______
з (м) _______
У Пушкина: 1-е четверостишие — перекрестная рифма (ж — м); дальше — 2 парные женские, потом — две парные мужские. Потом — опоясанное четверостишие и 2 мужские.
У Радищева 1-е четверостишие — перекрестная (рифма) (ж — м); (потом) 2 парные (женские) и четверостишие опоясанное.
- Мне жизнь уже не тяжела.
- Я смерть свою пережила.
- Хоть верьте, хоть не верьте —
- Все это после смерти.
- И все-таки хожу, гляжу,
- Совсем как вы, живые.
- Уныния не навожу
- На тех, кто здесь впервые.
- Я одиноко дни влачу,
- Таюсь почти что в келье.
- Мешать живым я не хочу,
- Печалить их веселье.
- Кто это умер? Ты ли, я?
- Сказать вернее — оба.
- Но моего небытия
- Змеится путь особо.
Сентябрь 77 г. Ночь. Не спится.
Ничего не успею.
А необходимо —
написать о Владимире Васильевиче[18].
Об Анне Андреевне.
(М<ожет> б<ыть> немного о Мандельштаме.)
О Борисе. О Цветаевой.
М<ожет> б<ыть> немного — о детстве.
О юности — о курсах.
И — разные мыслишки.
Не спится.
Читаю превосходную книгу Лакшина об Островском.
Только и могу что читать, больше ничего.
Не спится. Не спится многогрешной.
Главное — себя не потерять, не потерять мысль.
Надо написать Карякину об его книге, Галлаю об его книге, Леве об его книге. И потом Лакшину.
- Не даете мне покою,
- Недописанные строки!
- То как будто под рукою,
- То как будто за рекою,
- Где закат горит далекий.
- Всю-то жизнь меня губили
- Ваши горькие упреки.
- Я боюсь, что и в могиле
- Не дадите мне покою
- Бессловесною тоскою.
- Хоть бы вы меня забыли,
- Недописанные строки!
- …Но у вьюги лучше получалось,
- Оттого-то мне и замолчалось.
<…> Ахматова была гениальным читателем Пушкина. Точность ее прозрений ни с чем не сравнима. Она — дар Пушкину, драгоценный дар. (Особенно если подумать о беспомощности пушкинистов-профессионалов. И все же благодарность им — С. Бонди, Т. Цявловской за многое).
Дело не только в «силе родства биографий» — в силе ее несравненной любви к Пушкину и несравненном понимании.
В ненависти к Н<аталье> Н<иколаевне> я с Ан. Ан. всегда была единодушна. И если теперь сиротство мое непоправимо, то больнее всего оно здесь. Ни одна душа на свете не знает, чем Ан. Ан. была здесь — в любви, в узнавании, в понимании П<ушкина> для меня, да и я для нее была в этом — всех ближе. Не стихами, а именно этим я ее иногда изумляла и была близка. Тут я совсем осиротела. Нет ни одного человека на свете, с кем могла бы я об этом говорить.
Очень я огорчалась, когда Б<орис> Л<еонидович> лишился своих лошадиных зубов. Они его не портили — была совсем особая красота: коня и человека. Но об этом уже писали — и в стихах и в прозе.
В переводы лир<ических> стихов Ан. Ан. не верила. Она ведь в переводе была буквалисткой. Она переводила много, но переводчицей никогда не была.
А вот насчет маршаковских сонетов она (Ахматова) не совсем права. Поди разбери в английском «он» или «она»? А по всему контексту — как говорил мне Маршак — получается все-таки — она. Да и по содержанию: ведь тут часто трое — двое мужчин и одна женщина. Один из них ее любит, другой ревнует, говоря упрощенно. Маршак — великий разъяснитель. В прозаических кусках пьес Шекспир говорил — на теперешнее наше восприятие — очень смутно, вычурно, витиевато. Так же, вероятно, и в сонетах. М<аршак> все прояснял, высветлял смысл, м<ожет> б<ыть> — схематизировал. Конечно, если говорить о 66 сонете, перевод Пастернака неизмеримо сильнее и точнее.
- Что помнится? Торцовая Тверская,
- У Иверской мерцанье свечек ярых,
- Садовое кольцо — кольцо бульваров,
- … … … … … … … … …
- Как быстро сгинуло твое величье,
- Как быстро изменила ты обличье,
- Полвека — малый срок
- … … … … … … … … … … …)
- Не зная, не любя,
- Калечили тебя, Москва родная,
- Увечили тебя.
- … … … … … … … … … … …
- Вдыхая жадно пыль твоих развалин,
- Как, вероятно, был доволен Сталин,
- Что нет Москвы
- … … … … … … … … … … …
- Я в ранней юности еще застала
- Следы былых веков.
- … … … … … … … … … … …
- Их поубавилось, но было много,
- И колокольный звон
- Еще звучал, хоть глухо и убого,
- Почти не запрещен.
- На Якиманке он звучал по-царски,
- Весь воздух серебря.
- Езжал на Якиманку Луначарский
- Послушать звонаря.
- … … … … … … … … … … …
- Он был от Станиславского, из МХАТа,
- И очень знаменит.
- Глубокий, переливчатый, богатый,
- Тот звон в ушах стоит.
- То новой власти было лишь начало —
- Девятая весна.
- Давным-давно та церковь замолчала,
- Быть может, снесена.
… … … … … … … … … … …
Стала я часто сердиться, — это плохо. Впрочем, всегда ли плохо? Перечитываю Петра I-го. Как все это давно было: II МХАТ, моя жизнь — этим спектаклем.
Влюбленность в Петра — Готовцева.
А сердилась я с утра, вспоминая, как в конце 40-ых годов N. блудил с версией о том, что Петр был сыном грузинского царевича, и невнятно ссылался на покойного Толстого. М. б., Толстой и грешил, возможно, и он был не безупречен в смысле подхалимажа? Очень возможно, судя по некоторым записям. Но — не знаю. N. явно рассчитывал, что его болтовня станет известной. Ужасно бессовестный тип. Впрочем — нет, не бессовестный, совесть есть — но он непрерывно ее продает и от этого терзается, т. е. раньше терзался, теперь — не знаю как.
Я правильно сержусь на него.
Конъюнктурщик, карьерист.
- Я в сумерках иду по улице шумящей.
- Мне с неба на плечо садится стрекоза.
- Откуда ты взялась?..
- Как залетела ты из чащи?
- … … … … … … … … … … … …
- Нежданная моя, внезапная краса!
… … … … … … … … … … … …
- Смилуйся, Господи! Мукой любою
- Ты мне воздай за позор многолетний.
- Боже, дозволь мне предстать пред тобою
- С чистою совестью в час мой последний.
Смысл жизни не в благоденствии, а в развитии души.
Если бы я смогла написать статью о поэзии Пастернака — я бы эту статью так и назвала: «Всесильный бог деталей».
- Я счастливее многих
- Я мертвых не забываю
- Сердце мое — кладбище
- без конца и без края.
- Я не лучше других, не чище
- Я только богаче
- Я думаю об умерших
- Как-то иначе.
- Для меня они не умерли
- Не говорю в прошедшем времени
- Я никого не забыла
- Не говорю — любила
- А говорю — люблю.
<…> И в этом деле, как и во всем, — доверие Анны Андреевны я воспринимала как большую оказанную мне честь.
Анна Андреевна иногда советовалась со мной по поводу переводов. Мне хотелось, чтоб Анна Андреевна освободилась от излишнего буквализма, который иногда ее сковывал. Тут, я думаю, сказалось влияние Георгия Аркадьевича Шенгели — Анна Андреевна с мнением Шенгели считалась. <…>…в его переводах — мучительная скованность, стремление запихать в строку весь авторский текст за счет русского языка, за счет свободного дыхания, свободной интонации. <…>
Не знаю, помогла ли я хоть сколько-нибудь Ахматовой. Думаю, что она сама, совершенно помимо тирад моих, пришла к убеждению, что надо ради главного поступаться второстепенным, не решающим. По моим наблюдениям, Ан. Ан. переводила легче, естественнее, когда текст ей нравился, и напряженно — когда был далек (а приходилось ей переводить не всегда близкое и нравящееся — надо было жить и помогать сыну). <…>
- Подумаешь — старость! Не в старости дело.
- А в том, чтоб душа… не скудела.
- Как будто иду впереди и маню
- Куда? Не пугайся. Ко льду и огню.
Язык Пушкина забыт, в полном небрежении. Что творится с языком русским!
- … … … … … … … … … … …
- Горько от мыслей моих невеселых.
- Гибнет язык наш, и всем — все равно.
- Время прошедшее в женских глаголах
- Так отвратительно искажено.
- Слышу повсюду: «я взяла», «я брла»,
- Нет, говорите «взял» и «брал».
- (От унижения сердце устало!)
- Нет, не «пержила» — «пережил».
- Девы, не жалуйтесь: «Он мне не звнит»,
- Жалуйтесь, девы: «Он мне не звонт!»
- Русский язык наш отвержен, не понят,
- Русскими русский язык позабыт!
… … … … … … … … … … … …
- Да не в глаголах одних только дело,
- Дело-то в том, чтобы сердце болело,
- Чтоб восставал оскорбленный наш слух
- Не у одних только русских старух…
… … … … … … … … … … … …
- Русский язык, тот «великий, могучий»,
- Побереги его, друг мой, не мучай…
… … … … … … … … … … … …
Анна Ахматова — умница. «Читая Фета — нельзя определить, при каком императоре написаны эти стихи».
…Есть художники, для которых русский язык и дыхание — воздух — и предмет страсти. Такими были Пастернак и Цветаева. Для Ахматовой русский язык был воздухом, дыханием и никогда не был предметом страсти. Она не знала сладострастия слова. Она иногда делала в языке ошибки. К предполагаемой реформе Виноградова и Реформатского отнеслась совсем равнодушно: они ученые, им лучше знать. Того, что Виноградов академик, уже было достаточно. Ученые чины и звания ее арализовали. Слава Богу, она ценила речь Бориса Леонидовича, восхищалась и Ардовым, его действительно отличным московским говорком.
- Вы горя пожелали мне,
- А счастье на меня обвалом,
- Невероятным, небывалым,
- Не грезившимся и во сне.
- Вы горя пожелали мне,
- Чтобы душа моя очнулась,
- Чтоб снова к жизни я вернулась,
- Не стыла в мертвой тишине.
(… … … … … … … … … …)
- И продолжалось так полгода.
- И эта явь была как сон.
- И голос тот, что телефон
- Донес мне, был он как свобода
- Для смертника. Он мне вернул
- Так просто и непостижимо
- Театра восхищенный гул.
- Тебя — и в гриме, и без грима,
- И вдохновение твое,
- И то, что был ты гениален,
- И то, что бред и забытье,
- Вся жизнь моя среди развалин
- Минувшего. Твой голос был
- По-прежнему широк и молод
- И многозвучных полон сил,
- Не поврежден и не расколот.
- Что скрыто от меня самой,
- В чем я себе не признавалась,
- Вдруг ожило и вдруг сказалось
- Сознаньем истины прямой.
- О как я счастлива была…
… … … … … … … … … …
23/VI 77
Об Анне 3 сентября 1933 г. я впервые увидела ее, познакомилась с нею. Пришла к ней сама в Фонтанный дом. Почему пришла? Стихи ее знала смутно. К знаменитостям — тяги не было никогда. Ноги привели, судьба, влечение необъяснимое. Не я пришла — мне пришлось. «Ведомая» — написал обо мне Н. Н. Пунин. Это правда. Пришла как младший к старшему.
1978, декабрь, начало.
Статья Адамовича о преддуэльных днях Пушкина («Вопросы литературы», № 11). Очень уж предположительно. Главное уже было известно Щеголеву. А слово (ни в каком случае не драться на дуэли и поставить царя в известность, если будут еще осложнения с Д<антесом>-Г<еккерном>) м<ожет> б<ыть> было дано. Во всяком случае, это не та глупость, какую писал Л. П. Гроссман. Но все-таки зыбко. Никаких свидетельств нет. Что встреча была без Бенкендорфа — скорее, верно. Но П<ушкин> знал цену нравст<венным> качествам царя — собственноглазно читавшего его письмо к жене. М<ожет> б<ыть> он сам просил Б. присутствовать при встрече, под к<аким>-н<ибудь> благовидным предлогом.
Но — скорее, Адамович прав.
Сердце ломит, читая все это.
Дорогой Давид!
Я потрясена Вашей книгой и благодарю за нее бесконечно. Когда читала в первый раз — одно только слово было на уме: волшебство. А когда перечитываешь — книга впечатляет еще сильнее. И думаешь о том — откуда это волшебство берется? И видится самое главное — Ваша душа, Ваша бесстрашная мысль, мудрое и щедрое Ваше сердце. Это просторная ширококрылая книга. И Вы все набираете и набираете высоту, Давид! Я счастлива, что до этой книги дожила.
Грустно очень, что наши великие, о которых Вы пишете «смежили очи гении», не прочтут этой книги, при них Ваше слово прозвучало бы громче, сильнее, нежели без них, — было бы кому как следует услышать и понять и порадоваться за русскую поэзию.
А я совсем перестала писать, Давид. Для человечества от этого потери никакой, но душе моей очень больно. Беда, когда есть какие-то данные и нет призвания. Ну, об этом не стоит.
…Внешнюю канву моей жизни Вы знаете. Очень понятно мне Ваше стихотворение про «ветры пятнадцатых этажей». Я живу на 11-м, но это уже все равно что 15-й. Вы про эти ветры написали очень сильно и очень точно. А я очень тоскую по тем, низеньким ветрам — слишком привыкла к ним за всю жизнь.
…Меня, помимо всего другого, поразило Ваше стихотворение «Мне снился сон жестокий…», оно как вдох и выдох — две первые строфы. Все нечетные строки — повышение голоса, все четные — понижение. Четные звучат глуше и глубже. В чем здесь тайна — не понимаю. В третьей строфе смена регистров исчезает, меняется интонация. А в строках — «Холодно. Вольно. Бесстрашно, Ветрено. Холодно. Вольно», — пожалуй, больше всего сказалась душа Вашей книги. <…>[19]
- Ждет путь немыслимо большой
- Там, за чертой, за крайним краем
- Работай над своей душой,
- Покуда мир обозреваем,
- Ты держишься — я поняла —
- На невидимке-паутинке.
- А я слежу из-за угла,
- Как ты в неравном поединке
- То затрепещешь, то замрешь…
- О продержись, о продержись
- Хоть день, хоть два, как можно дольше.
- Ты знаешь, что такое жизнь?
- Дозволь пожить мне, о дозволь же…
- Хоть графоманство поздних дней
- Еще не худшая из маний —
- Скажи, что может быть страшней
- Придуманных воспоминаний?
- Зачем они? Они затем,
- Чтоб уцелеть и после смерти,
- Чтоб не исчезнуть насовсем…
- Ни слову в тех строках не верьте!
… … … … … … … … … … …
- Спускаясь в памяти подвал,
- Оттуда б брали все, что было.
- А там, где памяти провал,
- Писали б: «Я забыл», «забыла»…
… … … … … … … … … … …
- Снять с души такое бремя
- Поздновато.
- Перед всеми, перед всеми
- Виновата.
- Неужели может быть
- Жизнь другая?
- Можно и меня любить,
- Не ругая?..
… … … … … … … … … … …
- Всех, кого обидой кровной
- Оскорбила,
- Всех, пред кем была виновна,
- Не забыла.
… … … … … … … … … … …
В палате почти темно. Ночь. Свет только из приоткрытой в коридор двери. Читать нельзя. Писать почти невозможно. Не вижу — что пишу. Так многое хочется. Ну, об Ан<не> Ан<дреевне> уже много и хорошо написано (и опубликованного и не опубликованного). Пишут и ерунду — люди, не знавшие Ан. Ан., не любившие ее. Два-три раза случайно видевшие ее, сказавшие ей «Здравствуйте» и «До свидания». Ну, уж это «факт их биографии» — сказала бы Ан. Ан. <…> О том драгоценном, что опубликовано, — мы знаем дневники Лиды[20]; воспоминания Лукницкого. <…> Ника — о стихах во сне. «Царственное слово» — Толино[21]. Книга Жирмунского. Восп<оминания> Виленкина — не интересно, но все же 20-е годы. Записи Любы Большинцовой. Публикации Ахм<атовой> — проза. — Эм. Герштейн, где в примечаниях много об Ан. Ан.
Станут известны дальнейшие дневниковые записи Лиды. Есть записи любимейшего друга Ан. Ан. — Ники Глен. Есть превосходно написанные воспоминания Анатолия Генриховича Наймана — он мне их читал. Есть интересные и во многом ценные воспоминания М. В. Ардова. Воспоминания Адмони. Есть небольшая, опубликованная в «Гранях» заметка покойного В. Е. Ардова — о первой встрече Ахматовой и Цветаевой. Заметка, естественно, схематичная, но точная. Не сомневаюсь в том, что есть записи Харджиева, не все пропало из записей В. Ф. Румянцевой.
(Все это я писал почти в беспамятстве, до операции. Слишком тяжко я ранена неведомыми писаниями N. об Ан. Ан., которую N. не знала и не любила. Надо об этом забыть. Все это значения не имеет. Невежество само скажется. Зачем негодовать!)
- Перестал человек писать стихи.
- Почему?
- Потому что ясно стало ему,
- Что слово его ничего не значит.
- Что хоть стар он, но путь его не начат
- И не время его начинать,
- А время молчать,
- И темно, и пора почивать,
- И напрасно тоска неуемная гложет…
- Пожалейте кто может.
Когда-то давно и случайно я оказалась в битком набитой машине К. И. Чуковского, с которым была едва знакома. Машина двинулась-тронулась из Переделкина в Москву.
— Какое десятилетие в своей жизни Вы считаете самым счастливым? — спросил меня К. И.
— Первое, — ответила я, не задумываясь.
— Самый банальный ответ, — усмехнулся К. И.
(И действительно — самый банальный.)
Ну а дальше — с 1918 по 1928?
Еще раньше — вероятно, в 1916 г. мой журнальчик «Весенняя звездочка». Вышло 4 номера. Они пропали на Гранатном. Очень смешной журнальчик — с непрерывной сменой убеждений редактора — он же автор. Стихи и проза. Родственники финансировали мое мероприятие (хотя журнал выпускался в 1 экз.). Иллюстрировала его иногда я сама, иногда Митя или Володя. Обобрав родственников (дядя Ваня дал 3 рубля), я издание прекратила. По правде сказать, чем-то отвлеклась.
- Ночами думала о многом
- В редчайший час
- Душа стояла перед Богом
- В молчанье горестном
- и строгом
- Не поднимая глаз
- И это было как Причастье.
- Так начиналось счастье.
- Недостойной дарован
- Господней рукой
- Во блаженном успении
- вечный покой.
Мария Сергеевна Петровых скончалась 1 июня 1979 года.
Текст эпитафии, написанной 13–14 мая 1979 г., вырезан, согласно воле поэта, на могильном камне.