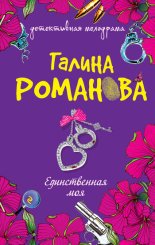Гулливер и его любовь Бычков Андрей

Борис достал сигарету, руки его тряслись.
– Мы должны были лететь вдвоем… но я вынужден был задержаться здесь на две недели из-за контракта… И Чина все же решила лететь одна… Ты же помнишь… какая она… какая она была… Я не знаю… – Борис глубоко вобрал в себя воздух. – Я действительно не знаю… Я просто не могу понять, почему это… это именно так… Почему именно одиннадцатого сентября она решила подняться в мой офис в одной из этих проклятых башен.
Он опустил голову и стал судорожно давить в тяжелой пепельнице незажженную сигарету.
Снег, пушистый и белый, падающий вверх, на кожу ее лица, на кожу руки… Зимний бульвар… Снег на ресницах. Чина просит покатать ее на саночках. Она звонко смеется. Легкая шубка, к которой он, Евгений, все хотел пришить ей завязочки. Да так и не пришил. Чина держит его за руку. Как она держит его за руку, как-то слегка пожимая, слегка подрагивая, как будто что-то хочет сказать. Белые мохнатые деревья. Белый волшебный бульвар. Фонари в снежных шапках, с ледяной бородой. Праздничная Москва. Как открывают шампанское, смеясь и толкая друг друга под руку. Как бросают в небо бенгальские огни. Как эти огни долетают до снега, лежащего на разлапистых ветках, как ветки тяжело и медленно вздрагивают, отпуская легкий призрачный ровно садящийся шлейф.
«Да, на саночках!» – смеется Чина, подрагивая в руке Евгения пальцами…
Словно бы возвращаясь в комнату, он услышал глухой голос Бориса:
– Мы сошлись с ней в конце августа.
Все эти медленные вещи, медленные остающиеся вещи – люстра, стулья, пианино, стол, кресло, кадка с фикусом, все эти медленные, отныне и навсегда, вещи и эти выскальзывающие из-под них тени.
– После вашего разрыва, я позвонил ей сам, – продолжил, глухо покашливая, Борис. – Позвонил через два года после вашего разрыва. Ты же так и не сделал ей предложения. Она захотела встретиться сама.
– Зачем ты ее отпустил…
– Я ни в чем не виноват.
Вещи и их тени, остающиеся в безвоздушном пространстве…
– Ты будешь виски? – спросил Борис, нервно дрожа и открывая дверцу шкафчика. Он помедлил, выбирая. – Джемесон тысяча семьсот восемьдесят, двенадцать лет выдержки.
Евгений посмотрел на его бугристое лицо.
«Как будто на что-то натянуто… И тело тоже как будто на что-то натянуто… На что-то стальное, с пружинами, с рычагами… И с реверсом, освобождающим слова…»
Вот сейчас Борис разольет двум Борисам, и два Бориса выпьют за мертвую Чину.
Он вдруг рванулся и схватил его за рубашку:
– Это ты убил ее!
Но тот неожиданно сильно его оттолкнул:
– Мудак!
На глазах Бориса блестели слезы. Он истерически закричал:
– Убирайся отсюда, идиот!
– Тебя накажет Бог…
Выйдя на улицу, Евгений остановился около дерева, сорвал лист и подумал, что отныне и это дерево, и все остальные деревья, отныне и они, так же, как и он, Евгений, мертвы. Но как это принять, как принять, что кончился воздух?.. Может быть, все это лишь какая-то неправда, лишь какой-то подлый Борисов вымысел? И как гений чистой радости он должен сейчас просто рассмеяться, развеять этот глюк, наваждение, безумие или как там еще это можно назвать, он должен просто рассмеяться, и тогда исчезнет обман? Да, они с Чиной, конечно, рассмеялись бы, глядя на эту уродливую люстру, глядя, как Борис достает алюминиевую стремянку, показательно купленную в одном из своих же магазинов, и неуклюже лезет зажигать, по очереди, все семью семь сорок девять «магических» свечей… Как они с Чиной рассмеялись бы над этим играющим в мага перформером – сеть собственных магазинов, торгующих бессознательным: глюками, снами, психокоррекцией и, конечно же, салатами, да, салатами прежде всего, салатами, вылетающими в окно… Марка непреднамеренности, спонтанность покупки… Следуя своему бессознательному, просто перестать себе запрещать, перестать вытеснять желания, отдаться новизне, существовать в самоподдерживающихся сериях покупок, разнообразных услуг, обратиться наконец к «метафизике» и найти те самые «старинные», однокоренные со словом «вещь», слова. Вещий, священный! О, да! И ведь их, вещи, теперь, слава Богу, можно просто купить…
«Да нет, просто убить, Чина. Просто убить».
19
Через раскрытое окно класса был слышен трамвай, как он словно бы сам настигал свои зловещие ускорения. Сумрак сгущал сиреневость тени. Шевелящиеся в вечерней прохладе деревья отбрасывали на лица Эль и докторши Эм один и тот же зигзаг.
– Ну, теперь расскажи, – доброжелательно обратилась докторша к маленькой медсестре.
Маленькая монашка, как уверенно она теперь сидит на стуле. Эль с горечью подумала, что чем-то она все же похожа и на нее. За эти два года монашка оправилась, психотерапия явно пошла ей на пользу, она даже вышла замуж, хотя… Рок по-прежнему чертит свою спираль… И «монашка» словно бы опережает ее в своих несчастиях? Как некий вестник… Эль оглянулась на дверь и посмотрела на часы.
«Неужели он не придет?»
– Я все время возвращаюсь в тот день, – начала медсестра Ира.
«Теперь мы начинаем сами и нам даже не надо задавать наводящих вопросов, – печально усмехнулась Эль. – Мы сами рассказываем о своих несчастьях. Мы давно уже не стыдимся их, это словно бы уже предмет престижа, то, что можно предъявить как доказательство своего присутствия в этом мире. И даже – своей силы… Если бы Евгений пришел сегодня и рассказал, то и я, наверное, призналась бы в его присутствии, почему я хотела сделать это с ним… в последний раз… La petit grand mort[21]».
– Накануне они сделали мне укол, – отчужденно продолжала медсестра. – И врач сказал, что у ребенка живот больше головы. И я забеспокоилась, что что-то не так. Я почувствовала себя виноватой перед матерью. Я даже нафантазировала, что она скажет, когда увидит, что ребенок «не такой».
Она вдруг замолчала, вздохнула, и все с тем же отчужденным усилием продолжила:
– На следующий день вдруг потекло… с кровью… Я испугалась, но потом поняла, что это отходят воды. Меня посмотрел гинеколог. И сказал, что у нас, у татарок, всегда что-то не так, а у меня вообще все запущено, шейка не готова, и все такое. Я заплакала. Меня перевели в блок. И там заставляли шагать из угла в угол, и я все делала, как они говорили. Вечером поставили капельницу. А утром начались потуги. Они положили меня, и я все делала, как говорила мне акушерка. Она успокаивала, что все нормально.
Ира опять замолчала, вопросительно посмотрела на доктора Эм, та кивнула, и тогда Ира так же бесчувственно продолжила:
– Ребенок пошел. «Вот уже головка показалась, погладь его», – сказала акушерка. Я погладила… А потом у нее что-то изменилось в лице, и я поняла, что что-то не так…
Ира все же не выдержала и заплакала. С понимающим выражением в лице доктор Эм дала ей большую желтую салфетку.
– Они позвали врача, и меня пересадили в кресло… У них у всех были какие-то не те лица… Потом достали ребенка и отложили его в сторону… Я поняла… Хотя даже его и не видела.
Теперь она говорила медленно, словно бы еле сдерживая крик, и Эль почувствовала к ней какую-то странную благодарность.
– Они сказали, что… голова у ребенка какая-то «не такая»… Да, несколько раз повторили про голову… А потом завернули и… унесли… Потом они вернулись, уже без него, и сказали… что он мертвый… Акушерка спросила, буду ли я смотреть. Я сказала, что нет, потому что знала, что тогда это на всю жизнь… Потом я плакала… Они сделали мне укол… и я забылась… Очнулась я уже в палате, рядом сидел муж… Снова пришли они и спросили, будем ли мы забирать или как… Мы отказались.
Она поднесла к лицу огромную вафельную салфетку доктора Эм и зарыдала.
– Я его так и не увидела…
В классе воцарилось молчание, иногда прерываемое всхлипываниями Иры. Доктор Эм задумчиво поглаживала ее по голове. Эль подумала, что теперь, после перерыва, выйдет она, спокойно выйдет и сядет на «горячий стул» и, глядя на пакет желтых салфеток в мужеподобных руках доктора Эм, также спокойно и отчужденно им все расскажет. Все всем расскажет.
«Потому что он не придет…»
Группа давно уже разошлась и они, Эль и докторша Эм, остались одни. Лязгнула переводящая пути стрелка и синяя искра, срываясь с пантографа, осветила класс. Подрезая на повороте рельсы, трамвай завизжал.
– Ты рассказала то, что должен бы рассказать он? – спросила докторша.
– Я не знаю… Может быть, он здесь и ни причем. Ведь, в конце концов, не он был причиной… А то, что свело нас в той точке…
Эль замолчала.
– Что ты сейчас чувствуешь?
– Не знаю…
Эм все же осторожно продолжила:
– Что это за «не знаю»?.. Какое оно?.. Где?
– Мне кажется… я не должна была признаваться… так же как и устраивать весь этот спектакль с отсрочкой… Мы должны были умереть… Тогда, возможно, перед смертью мы оба что-то поняли бы… Мы смогли бы собраться и как-то собрав эту силу… все же спасти самих себя…
– О, я прекрасно понимаю тебя, – бодро перебила ее докторша. – Но ты же знаешь, что нас может спасти только сила признания. Вспомни первую сессию с Олечкой. Что мешало ей говорить людям добрые слова? И как она осознала этот свой страх, когда я попросила ее дать метафору, что ей мешает? Помнишь, она сказала про тяжелую крышку люка? Вот и Женя…
«Женя, – усмехнулась Эль и подумала: – Все не то… все какое-то мертвое… Наверное, потому и рождаются мертвые дети».
– … и потом, ведь благодаря этой отсрочке вы остались живы, и Женя даже сказочно разбогател…
– Да, но… – машинально и словно бы уже куда-то отлетая, отозвалась Эль.
– В чем ты не хочешь себе сознаваться? Скажи самое страшное.
Окно было раскрыто.
«Сказать ей, что самое страшное, что вся эта психотерапия бессмысленна?»
– Самое страшное…
Эль посмотрела в окно.
«Как та бабочка, уже давно подхваченная этим безличным потоком… раскалившиеся за день стены… все выше и выше… как легкий дым…»
– Самое страшное… надеюсь… уже позади.
Сказать и… вернуться домой.
Последовательность операций… «Квинт», солнечный алкоголь, крэк, затем разобранная луна, теперь уже под электрической лампой, насмешка черного вечера, священное отныне отвращение к жизни, смерть, покончившая сама с собой, смерть, так запросто оставшаяся в живых, фасад определений, бесполезные отныне сотрясения воздуха, всего-навсего слова и при этом уже невозможность себе признаться, эта игра в Григория, заботливый злак психотерапевтически прорастающей процедуры, «психотерапевт» Евгений, посредством которого «пациентка» Эль разрешает себе, наконец, вернуться в сердце своей любви, тайная горечь зла, так сладко обманывающего в лучших своих побуждениях, потому что обманываться надо, потому что жизнь это обман…
Лежа сейчас поверх одеяла, как бы без себя, лишь как своя же собственная одежда, Эль почему-то вспомнила про Амстердам, город чистый и светлый, и какой-то даже слегка дрожащий в своей искусственности, как будто его и нет. Добрый старый Амстердам, где даже улицы красных фонарей оказались не так уж страшны. Долгие школьные годы этот город жил в ее воображении как какое-то невинное сердце разврата, куда она почему-то всегда, не признаваясь себе самой, так мечтала попасть, чтобы избежать стерильности жизни своих родителей, спавших в отдельных комнатах…
Лежа сейчас поверх одеяла, она снова входила в тот памятный кофе-шоп, где неподвижные туристы из разных стран так неподвижно затягивались тогда марихуаной, словно бы были совсем не людьми, а адептами некоего бога, на время оставив здесь, в этом мире, свои тела и отдаваясь ему где-то там.
– Хотите попробовать? – по-русски спросил ее молодой человек, словно бы вырастая из своих слов в ее обостренном ожидании.
Этот внезапный молодой человек, легко, как дым, вошедший тогда в ее жизнь.
– Григорий или просто Гриша. А вас?
Легко вращая педали, они знакомились все ближе и ближе, по спирали объезжая на велосипедах кварталы этого счастливого города тьмы.
Через несколько дней он пригласил ее в свою квартиру на берегу канала, старую амстердамскую квартиру, которую он снимал, и где она так невинно осталась, и где потом, через пару дней, они так естественно двигались совершенно голыми. «Голыми до невероятности своего присутствия», – как однажды выразился Григорий. До этих слов она позволяла ему себя только ласкать. У нее еще не было мужчин, и она никак не могла решиться.
Эта пустая амстердамская студия, где она все же отдалась ему на четвертый день, на черной простыне, на которой ее первая кровь осталась почти незаметной… На другом берегу в высоком прозрачном здании сидели за экранами компьютеров клерки. А здесь, на этом, в старинном доме лежала она, закутавшись в зеленое верблюжье одеяло, думая о том, почему она почувствовала наслаждение вместе с болью и что это значит? Это и значит, что она теперь стала женщиной? Спрашивая себя еще и еще раз, пока Григорий раскуривал новый, купленный в кофе-шопе, кальян.
В тот вечер, вечер того дня, когда она стала женщиной, они пошли ужинать в один из тех загадочных ресторанчиков, где при входе вежливые, совсем не настаивающие на превосходстве своего товара, негры, товара под именем кокаин, словно бы пропускали их в их же собственные сны. Чуть позже, часа через два, Эль со странным смешанным чувством зависти и отвращения разглядывала в витринах «фантазмы королев», подсвеченные разноцветными огнями, квартал, куда Григорий повел ее после ужина на экскурсию, и где, зайдя в интим-шоп, она так неестественно весело издевалась над грустными приспособлениями для стареющих одиноких избранниц. Чем еще был памятен этот вечер, вечер того дня, когда она стала женщиной? Удаляющийся на лошади полицейский, умирающий за мусорным баком бомж, его желтый стекленеющий глаз, искусственные розы, облитые из витрины желтым искусственным светом…
Она пригубила Квинт. Амстердам уходил в янтарь.
«Но все же это была любовь…»
Григорий, оживший было в магическом стекле, застывал теперь в абстрактном знаке воспоминаний, застывал и… рассеивался, становился ненужным, хотя и привычным, подобно вещи, которая взята когда-то с собою как талисман и, забытая, остается просто сувениром, отчужденно пылящимся на полке.
Кто-то другой, неотвратимо поднимаясь из черного заоконного мрака, уже входил в ее комнату.
– Но разве я не предала и тебя, и себя на жизнь?! – закричала она.
Она знала, что в комнате никого нет, и что она разговаривает лишь сама с собой.
Вновь посмотрев на привезенный когда-то из Амстердама янтарь, она не увидела теперь в глубине его светящихся волокон ничего кроме трещины.
– Оставаться отныне так и только так. Как бы живой. В своей омертвелости… Вместо того чтобы жить, пусть недолго, но ярко… в своей смерти.
Она посмотрела на черный бессмысленный телефон, словно бы уже подкрадывающийся к ней из-за пустых коробок из-под обуви, и вдруг почувствовала, что смерть ее все же с ней остается, что ее смерть все же все еще ей верна…
«Но неужели теперь только ты, смерть?»
Нажать на клавиши и спросить, просто спросить, почему он не пришел, так неотвратимо обрекая ее на свое присутствие? Ведь отныне, в каждый из моментов неисчислимого в этом своем порочном послесмертии времени, он сможет, когда захочет, также запросто взять ее с полки, зевая, повертеть в руках и переставить с места на место. Ей показалось, что она сходит с ума.
На полу лежала разобранная на части луна. Евгений посмотрел на Эль сквозь дым ее сигареты, Евгений подошел ближе и присел на кровать. Протянув руку, Евгений провел по ее волосам.
– Ты останешься? – с надеждой спросила Эль.
И тогда он засмеялся. И квадраты луны на полу привстали, словно бы какие-то магические карты.
– Да… До тех пор, пока ты меня не убьешь.
– Если бы я не предала тебя, – так же жестоко засмеялась и Эль, словно бы снова становясь собою и только собою, – я бы ни за что не поверила, что это и в самом деле возможно.
20
Он сидит на террасе. Жаркий зной отделен черной полоской тени от нависающего карниза. Напротив него толстушка сажает в привезенную издалека землю какие-то ссохшиеся заморенные цветы, обильно поливая их из яркой оранжевой лейки.
С Эль они договорились встретиться в половине десятого. Она должна будет подъехать на такси.
«От меня ей нужно только это… Она же все равно не любит меня… Она любит своего Григория также как и я Чину?».
По телефону она говорила с Евгением как-то слишком уж весело, так, что он обо всем догадался. У него не возникло сомнений в цели ее визита.
Эти белые кружочки, неподвижно лежащие сейчас перед ним в развернутых лепестках фольги, напоминают ему какие-то странные жестокие цветы. Быть может, перед ним и в самом деле лежит нечто, чему он еще не успел дать имя?
«Если она приедет до заката, мы еще успеем немного погулять в лесу… Бред!»
Он все же вспоминает Клейста, великого поэта и неудавшегося офицера, застрелившегося со своей возлюбленной у озера. Сначала Клейст выстрелил ей в сердце, а потом себе в голову. Хотя, может быть, и не так. Может быть, наоборот. Ей в голову, а себе в сердце. Потом эту историю можно рассказывать по-разному.
Он думает, что умереть на природе, вместе с солнцем, все же что-то есть в этом, что-то все же в этом остается поверх старой и доброй романтики, несмотря на то, что слова давно уже отделяются от того, что они описывают, и уже не остаются нашей последней надеждой.
Он кладет таблетки в карман и возвращается в комнату.
Здесь прохладнее, чем на террасе. Окна выходят на север и потому не так жарко, как в тех комнатах, окна которых выходят на юг.
Теперь он вспоминает Кейджа, его пьесу «4’33’’», когда исполнитель присаживается за рояль, замирает над клавишами на четыре минуты и тридцать три секунды, а потом встает и уходит.
Вчера, вернувшись от Бориса, он перелил остатки вина в графин. Он сам не знал, зачем он это сделал. Как будто хотел все еще что-то сохранить, что-то, что все равно должно исчезнуть.
Звонит телефон, и Евгений берет трубку. Эль говорит, что хочет приехать пораньше. Он не возражает ей и лишь усмехается:
«Пораньше – это попозже? Или пораньше – это пораньше?»
Он наливает себе еще немного вина, думая, что Эль, скорее всего, не сможет сделать это без наркотика, без какого-нибудь безрассудного порошка, лишь бы в эти последние минуты не принадлежать себе, а как бы переложить решимость на кого-то другого, кто сделает это вместо нее, оставляя ее с ее верой, что все же есть этот последний выход, даже если она им и не воспользовалась.
«А на самом деле воспользовалась», – мрачно усмехается Евгений, отпивая пока еще только из своего бокала.
А может быть, это он будет невообразимо пьян, когда Эль, наконец, войдет в его комнату?
«И она будет запихивать мне таблетки в рот… Ха-ха-ха!»
Теперь ему не остается ничего, кроме как рассмеяться не просто мрачно, а зловеще.
Он вдруг вспоминает, что ведь когда-то и в самом деле танцевал. Да, он же всегда был танцующий человек, за что Чина и полюбила его когда-то. «Я поверю только в того бога, который умеет танцевать».
Он выходит на террасу. Направо, вдалеке, виднеется город, где-то там громоздятся дома, и на одном из высотных зданий зловеще вращается рекламный знак «Мерседеса».
21
Эль истерически засмеялась, представляя себе, как она прицеливается и как нажимает на спусковой крючок. Скорее всего Евгений попытается закрыться от выстрела ладонью, выбрасывая ее навстречу. Она решила убить его именно сегодня, раз он так внезапно решил «завязать» с психотерапией, оставляя себе свою мистику. Когда все уже будет кончено, она подарит ему другую смерть, ведь его смерть все же должна остаться для него неожиданностью.
В девять за ней должен был заехать сутенер, тот самый, который привез ее к Евгению когда-то на своем заляпанном грязью «BMW». По телефону она предложила сутенеру двести баксов, чтобы он съездил с ней вечером в коттеджный поселок. Тот спросил адрес и согласился.
Без пятнадцати восемь она подумала, что успеет еще принять ванну. Она бережно выбреет себе лобок, ведь в этот последний вечер тело ее должно быть совершенно. Она подошла к бельевому шкафу и открыла створку, снимая с вешалки свое любимое шелковое платье в косую черно-белую полоску, когда-то она брала его с собой в Амстердам. Может быть, это платье немного старомодно, но все же оно неплохо шло к тем накренившимся домам, к тем наклонившимся средневековым «билдингам», которые в этом городе предпочитают не трогать. Лепные аляповатые фронтоны на улице красных фонарей, украшенные свисающими на Рождество Санта– Клаусами…
«А теперь на улице черных фонарей!»
Когда с агентом было завершено (они просто попили перед выездом кофе, Эль – с лимоном, а он – с клофелином), и когда пистолет, наконец, был выкраден из его грубой мужской кобуры и переложен в ее аккуратную дамскую сумочку, ей вдруг стало страшно. Ведь она готовилась сыграть не свою роль. И, чтобы стать не собой, она все же решила сделать себе инъекцию.
Выходя на улицу, Эль выбросила ключи. Не для того, чтобы эта игра стала еще совершеннее. Она лишь захотела стать так еще ближе к тому, что вскоре должно было произойти.
Пистолет все же оказался довольно тяжелым, и она не рискнула повесить сумочку на плечо. Она держала ее правой рукой за гребешок, останавливая такси левой.
22
За городом солнце касается края земли чуть раньше. Созревшую пшеницу оно окрашивает в винный цвет. Евгений стоит, посреди поля, думая о том, что вот и пришла пора возвращаться.
Солнце опускается все ниже и ниже. Словно бы оно уходит под землю, освещая ее теперь изнутри – невидимо спрятавшиеся среди злаков зла птицы, и там, где самые корни, – всегда дрожащие за свою никчемную жизнь грызуны.
Солнце давно ушло уже в самую глубь земли, и теперь пшеница кажется черной. Евгений садится на обочину, в слепую мягкую пыль, а потом откидывается на траву.
«На прощанье мне все же хотелось бы напомнить тебе твою любимую притчу».
Часть 3
1
Если спрятать пистолет под подушку, то в последний момент, когда Евгений замычит от наслаждения, Люба все же успеет выстрелить ему в сердце. И, принимая в себя последнее из его движений, принимая в себя его последнее семя, она наконец познает эту яркую и благословенную тьму. Ибо блаженны убивающие в любви.
Она будет лежать под ним с закрытыми глазами, уронив ему на спину пистолет. Она станет им, Евгением, своей и его радостью. А потом она подарит и себе эту смерть, выстрелив и себе в сердце.
Она встретит Бога.
«Здравствуй, Бог. Я сама выбрала ад».
И Бог ее простит.
А сейчас, пока Евгений еще не пришел, она медленно разденется. Еще немножечко коньячку и к черту крэк. Она разбросает свою одежду по его бесчисленным комнатам, она включит музыку и будет долго кружиться, пока не закружится голова, и она, смеясь, не упадет в кресло, и пусть его дом будет продолжать двигаться вокруг нее, вокруг нее… А потом она натрется своей умопомрачительной мазью, которую она привезла еще из Амстердама, разожжет камин и будет ждать.
Она положила рядом с собой на кровать пистолет, закрыла лицо ладонями и заплакала.
«Потому что ничего нет… И я убиваю свое отрицание».
Она все же сунула пистолет под подушку, откинулась на постель и снова забылась в волнах накатывающего наркотического обмана. На длинной огненной руке кто-то выносил ее из маленькой комнаты в бесконечно черное и сияющее в своей черноте небо.
– Ты правильно сделала, что не закрыла дверь.
Люба открыла глаза. Над ней нависало чье-то гнилостное, искаженное судорогой, лицо.
– Сука!
Что-то налетело и ударило ее в лоб. Тьма раскололась на яркие сиреневые куски.
– Мразь!
Громадный кулак налетел опять, дробя вдребезги оставшееся.
– Гадина!
Что-то огромное обрушилось теперь на грудь, а потом опять на голову, оглушая густым колокольным боем. Ей показалось, что тело ее лопается, как помидор, и во все стороны брызжет кровь.
– Ты чё мне подмешала, падла?!
Желтый пузырчатый блин заколыхался над ней и задышал ей в лицо чем-то отвратительно кислым.
Люба попыталась собрать себя, вынуть и сложить хоть в какие-то осмысленные куски из этого мучительного распада.
– Не бей… ради Бога, – еле слышно прошепелявила она окровавленными губами, и наконец из блина отчетливо проступило дрожащее от ненависти лицо сутенера.
– Че-го?! – проревел он, обрушивая на нее очередной удар. – Где пистолет?!
Теперь, сквозь какие-то сдвигающиеся массы, Люба поняла, она наконец все поняла. Стальные рельсы неумолимой реальности и безжалостный поезд причины и следствия, безличные колеса и безличные рычаги, не рассеиваемые ни крэком, ни коньяком. Боль, невыносимая боль снова ломилась в ее сознание и разламывала ее тело.
– Пистолет… здесь, – тихо выговорила Люба, взглядывая тяжело в два угла комнаты.
– Где?
– В тумбочке.
– Обманешь, разрежу на куски.
Он достал нож и щелчком выкинул лезвие. Широкое и острое, оно словно бы сгустило вокруг себя в своем тусклом и тупом блеске нечто невидимое и уже неотвратимо натягивающее на себя. Плоское, с вырезом-канавкой для крови, лезвие тянуло к себе и притягивало.
И, как в каком-то кристалле, отталкиваясь в отчаянии от этих невидимых намагниченных линий, исходящих из этой безличной бритвенной остроты, вдруг сверкнуло:
«Или он меня, или я».
Она незаметно пошевелила пальцами правой руки, тайно обрадовавшись присутствию тела и его готовности броситься.
«Когда откроет тумбочку».
Сутенер сделал шаг назад, не сводя с нее глаз.
– Ссать будешь кровью, гадина, если наврешь.
Зловеще улыбаясь, он сделал еще два медленных шага спиной назад, вытягивая перед собой нож. Ткнулся в тумбочку и, не оборачиваясь, стал нащупывать ящик.
В каком-то отчаянном превозможении этой безжалостной и словно бы уже нанизывающей на себя намагниченности Люба рванулась к пистолету. Сутенер гаркнул, бросаясь вперед и выбрасывая перед собой нож.
И в этот, последний момент она выстрелила.
2
Он очнулся в поле. У леса еще низко стелился ночной мрак. Пролетал сонный стриж… Ему приснилось, что отец его жив, и что вдвоем они все же захватили этот проклятый «самолет». Они взяли управление в свои руки и разбили вдребезги гильотину… Ощущая щекой покалывание злака, Евгений поднял голову и отлепил двумя пальцами от щеки заломившуюся соломинку. Он вспомнил, что, уходя на прогулку, не запер коттедж, написав Любе на листке, что скоро вернется.
«Как бы она там не наделала глупостей».
Быстро поднялся с земли. И снова вспомнил, что привиделось.
«Что отец жив. А впереди – башни-близнецы…»
Свет фар заставил его прикрыть глаза рукою. По шоссе в сторону коттеджей пронеслась заляпанная грязью машина.
Подходя к чугунным воротам и глядя в сонную рожу охранника, переводя взгляд на громоздящиеся за его спиной черными башнями особняки, исполненные тьмы ритуала, имя которому Стоимость, Евгений вдруг подумал:
«Но разве выигрыш в этом?»
Увидеть себя спрыгивающим с чаши весов, и снова, как когда-то, во времена своей легкости… И пусть другая чаша, нагруженная этими коттеджными гирями с уханьем провалится вниз…
– Чой-то поздно-то так? – подобострастно спросил охранник и улыбнулся с плохо спрятанной неприязнью; возвратил пропуск.
Мельком Евгений заметил стоящий на стоянке, заляпанный грязью, «BMW».
– Ко мне никто не приезжал?
– Нет, никто. Только девушка на такси, как вы еще вечером сказали.
Тяжелые ворота загудели и медленно разошлись. За мостом вдалеке высился особняк Евгения. И словно бы опять этот его коттедж наливал его своей тяжестью, как будто бы Евгений снова вступал на свою чашу. Он вдруг представил себе, как эти громоздящиеся вокруг особняки бесшумно взрываются, словно бы в фильме Антониони, как лопается и его дворец, освобождая его от своей давящей оболочки.
Он улыбнулся:
«Как просто отменить мир. Стоит лишь тайно сосредоточиться».
Подходя к мосту и поднимаясь по лестнице, опрокидывая лицо навстречу падающей звезде, как когда-то открывая заново кристально черную ясность неба… Его и вправду словно бы опять настигало острие какой-то тайной иглы.
«Если мы с ней хотим остаться живыми, то, значит, нам больше и не нужны эти тяжелые громоздящиеся вокруг галлюциногены».
Он спустился с моста и пошел дальше. Косое окно в конце аллеи, косое окно, в которое он заглянет, как нарождающийся месяц. Он все ей скажет. Он скажет ей, что им надо очистить и очиститься…
3
Люба сидела на кровати, держа пистолет перед собой. На ковре, у тумбочки, в луже крови, быстро ссыхающейся в косичках ворса, корчился сутенер. Он был ранен и тяжело дышал. Нож выскочил на паркет и теперь одиноко блестел на твердой ровной поверхности. Люба чуть не выстрелила в Евгения, когда тот открыл дверь.
– Что случилось?!
– Он хотел меня убить, – заплакала она, выпуская из рук пистолет и едва не теряя сознание.
Евгений едва успел подхватить ее.
– Ты ранена?
– Нет.
– А лицо?
– Он бил меня.
Евгений прижал ее к себе. Она разрыдалась.
– Успокойся… Ну, успокойся.
Раненый замычал. Евгений пристально посмотрел на него, пытаясь вспомнить, где же он его видел:
– Кто это? Что ему здесь надо?
– Я украла его пистолет.
– Украла? Зачем?