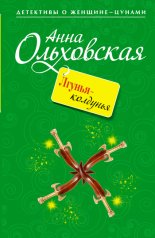Бестолковые рассказы о бестолковости Ненадович Дмитрий

Вот подкараулило военных как-то ночью в трампарке лицо военнокомендантствующее (про него военные сочинили в свое время загадку: «Лысый череп, взгляд тупой, кто стоит на проходной?»). Лицо это было неисправимым карьеристом и мечтало к пятидесяти годам своим наконец-то получить высокое воинское звание, майором называемое. Подкараулил карьерист военных, всех переписал (это у военных один из самых устрашающих актов — перепись нарушающих дисциплину фамилий по всегда имеющимся у военных документам) и потребовал немедленно прибыть на вверенную ему для охраны военного порядка территорию. И немедленно растиражировал свой охотничий успех всем высоко военноначальствующим настойчиво требуя при этом публичных наказаний. Спектакля ему, видите ли, захотелось. Тот еще был театрал.
А застигнутые врасплох военные оказались самыми что ни на есть махровыми «сынами», один из них при этом оказался даже делегатом какого-то съезда ВЛКСМ. Была такая веселая молодежная организация в резерве серьезной коммунистической партии. Впоследствии резерв этот разогнал со всех постов своих старших некогда товарищей и по непроверенным слухам даже приватизировал партийный общак.
Но это когда еще будет. А сейчас родная наша КПСС еще в великой своей силе. И, что? У этой силищи в резерве одни ночные безобразники, скрывающиеся под личиной обучаемых военных? А делегат этот что, днем на съезды ходит, заседает там, в высшем органе управления комсомольским движением, реализует, так сказать, принципы демократического централизма, а ночью в каком-то трампарке водку пьет и растлением рабочей молодежи занимается? Да в своем ли вы уме? Идите и подумайте.
Нечем было думать военнокомендантствующему. Так и остался этот военнокомендантствующий капитаном до окончания дней своих, во всяком случае, служилых своих дней (все дело в том, что некоторые из особо продвинутых военноначальствующих, закончив службу продолжали получать очередные воинские звания и даже награды. При этом эти исключительные военные никогда и никому не показывали никаких подтверждающих звания и награды документов. Видимо, документы эти были секретными. И была у секретных званий и наград одна общая характерная особенность — были они тем выше, чем полнее был налит стакан у повествующего о своих подвигах военноначальствующего в запасе, либо в отставке пребывающего. А виной тому, что порой награды и звания находили своих героев только после окончания службы была излишняя военная принципиальность, часто наблюдаемая у особо продвинутых военноначальствующих. Сильно мешает порой эта принципиальность крутизне военной карьеры. Но, так уж получалось. Натуру, да еще такую продвинутую, ее ведь с бухты-барахты не переделаешь.
А во втором случае так называемых «происшествий» фигурировали уже совсем другие военные. Шли они ночью из законного на сутки увольнения. Шли, уставшие сильно. И подвела их чисто военная страсть ко всему блестящему и, в частности, к значкам. Военные любят ведь, чтобы все блестело, и очень уважают различного рода значки. Для военных ведь что особенно всегда важно — это когда в радостные минуты праздника захотят им вдруг сделать что-то такое действительно приятное (конечно же, для того, чтобы сделать военным что-либо действительно приятное, их необходимо для этого предварительно построить), военным необходимо так все обустроить, чтобы выводили их в торжественной очередности из празднично блестящего строя и прямо так каждому следующему очереднику-счастливцу и говорили: «Служил, дескать, дурачок — ну получи же ты, наконец, за это от нас ну хоть какой-нибудь значок!» и прикалывали к каждой широкой груди военной какую-нибудь блестящую в бесполезности своей фитюльку.
А впоследствии, некоторые из прикалывающих ничего не стоящие фитюльки циников набирались наглости еще и стишки писать издевательского такого характера о детских, чистых в непорочных слабостях своих, доблестных таких военных:
- И на груди его могучей,
- Сияя, в несколько рядов,
- Одна медаль висела кучей
- И то, за выслугу годов.
Так вот, шли-шли усталые эти военные и набрели на какой-то из многочисленных ларьков «Союзпечати», в которых в те приснопамятные времена осуществлялась советская торговля различными правдивыми газетами (приторговывали в ларьках этих несколькими видами различной «правды»: просто «Правдой» (партийной правдой от самого ЦК КПСС) и далее по нисходящей — «Комсомольской правдой», «Пионерской правдой», «Биробиджанской правдой» и т. д., в общем, у каждого издательства она была своя). И мелочевкой всякой тоже торговали, в том числе и злополучными значками. Ночью, конечно, не торговали, но и окна не зашторивали, чтобы ночные прохожие тоже могли на какую-нибудь «правду» посмотреть, каждый на свою.
Уставших военных «правда» вовсе не интересовала, ее с избытком хватало им на различных политических занятиях, но, увидев большое количество всевозможных значков с изображением сразу всех вождей лидеров международного коммунистического движения, военные пришли в сильное волнение. Не замечая в молитвенном экстазе естественных преград, тянулись они к священным своим реликвиям, овладевали ими в больших количествах и заполняли ими большущие свои военные карманы. А когда на витрине не осталось не одной блестящей реликвии, вдруг овладело военными чувство глубокой апатии, плавно перешедшей в глубокий сон. А что тут удивительного? У военных часто так бывает. Нападает после экстаза на них апатия. Это ведь не только у военных так происходит. В народе ведь какое определение апатии дают? Апатия — это отношение к сношению после сношения. А народ зря говорить не будет. Народ, он ведь не врет никогда. Большей частью почему-то безмолвствует. Но чтобы врать — никогда.
Вот и уснули уставшие военные, покачиваемые волнами окутавшей их апатии в этом злополучно-искусительном ларьке. Как назло, кому-то из проживающих неподалеку граждан срочно понадобился утренний глоток свежей, бодрящей такой, утренней правды. Этому гражданину пройти бы к какому-нибудь другому ларьку за глотком этим. Ан нет, зануда утренняя пошаркал к ларьку, охраняемому спящими военными. Пришаркал, раскричался, целительный глоток требуя, получил в глаз от так и не проснувшегося военного, почему-то обиделся и вызвал зачем-то милицию. Недопрочухавшиеся до конца от усталости и не вовремя разбуженные военные приняли милицию за обычных ночных воришек, покушающихся на святые лики вождей пролетариата на значках начертанные. Не имевшим при себе оружия военным ничего больше не оставалось, как бить нападавших по лицу. Ночные «воришки» временно отступили и вызвали подкрепление. В последующей неравной битве военные были взяты в плен. Начались разбирательства.
Оскорбленная действием милиция попыталась представить все произошедшее в более для нее привычном, мелкоуголовном аспекте. Но с милицией не согласились высоко военноначальствующие, быстро придав делу политическую окраску: «Какая-такая мелкая уголовщина? Это не знающую препятствий любовь к нарисованным на значках вождям вы называете мелкой уголовщиной?!»
В общем, вопрос был поставлен очень правильно. И поэтому сразу все уладили. Потому как, если бы не уладили, крепко не поздоровилось бы высоко военноначальствующим. Спросили бы их тогда еще более высоковоенноначальствующие с присущим им пафосом: «Мы зачем вас на должности такие поставили? Чтобы высокообразованных и несокрушимо идейных защитников Отечества готовить или пьянствующих ларечных воришек плодить?» Сначала бы только спросили пафосно, по-столичному так спросили бы, через надутую губу. А затем обязательно приехала бы какая-нибудь высокая комиссия и комплексно в объективности своей все тщательно проверила — всю, без исключения, военную жизнедеятельность. Особо скрупулезно бы высокая комиссия остановилась на изучении продуктов военной жизнедеятельности. А там столько всего интересного! И все это интересное обязательно будет внесено в завершающий акт. Просто размазано будет все это интересное по завершающему акту. И такой сразу шлейф пойдет по всей округе!
А дальше все просто, по налаженной годами схеме: «Предупреждаю вас, товарищ высоковоенноначальствующий о неполном вашем соответствии занимаемой вами должности», и нате вам еще вдогонку строгий выговор от родной нашей коммунистической партии Советского Союза. А с таким вот комплектом частных определений ожидала высоковоенноначальствующего в самом ближайшем будущем дальняя, унылая такая дорога в нелюбимый всеми военными, ставший даже нарицательным для них — дорога в безнадежный Безнадежнинск. Навсегда. Правда, весьма возможно, что на более высокую должность. Но навсегда.
Вот поэтому все так быстренько и уладили. Всегда бы так воспринимали военноначальствующие неприятности, изредка случавшиеся у военных. Всегда бы воспринимали бы так — как свои личные неприятности. Тогда бы было все правильно. По справедливости было бы. А то чуть что — сразу происшествие им подавай.
Ночные диалоги
А еще очень любили военные затевать между собой различного толка диалоги, диалоги вообще и диалоги вполне конкретного толка, в частности. Многие и смысла не понимали слов, вокруг них летающих, но все равно, им было все про все и всегда интересно. А все потому, что лишали их в рутинной военной обыденности этого незамысловато-развивающего действа. Все больше стремились приучить военных к прослушиванию странных и однообразно тупящих их монологов.
Сильно перебарщивали в этом стремлении различного рода военноначальствующие лица, сильно злоупотребляли они вниманием еще не испорченных до конца, и поэтому все еще пытливых военных. Совершенствуясь в своем артистизме, военноначальствующие часто устраивали уличные спектакли для военных. Продолжая совершенствоваться в искусстве ораторском, произносили они длинные и громкие, не всегда понятные речи. Временами возникало подозрение о том, что речистый рот большинства военноначальствующих всегда был набит цицероновскими каменьями. Камни эти, видимо, сильно докучали этим особо речистым военноначальствующим и они вынуждены были их постоянно перекатывать с места на место в ходе своих спонтанно рождающихся спитчей.
Военным же оставалось только стоять и слушать, реже — сидеть и слушать, еще значительно реже — лежать и слушать. Нет, поначалу им это было даже очень интересно все, смешно даже как-то было, но когда это изо дня в день и все друг на друга так похоже — речь на речь, спектакль на спектакль, и все такое одинаково-обыденное и серое… Словом, надоело это все военным до чертиков.
Нет, иногда военным, конечно же, разрешали самовыразиться. Например, песню какую-нибудь спеть во время вечерней их прогулки. Военных, их ведь, как особо любимых гражданами домашних животных, надо было всегда выгуливать вечерами. Чтобы ночью, значит, чего непотребного не натворили они. Не удумали сдуру чего-нибудь пакостного. Ну а коль уж вывели их погулять, пусть уж, так и быть, попоют. Но не то попоют, что взбредет им в недомыслящую еще их голову, а только проверенные временем песни из заранее составленного и высочайше утвержденного репертуара.
Да нет, ну что там душой кривить, дают ведь периодически военным ответить выступающему перед военным строем особовоенноначальствующему, например: «Зрав-гав жел-гав тов-гав воен-гав-но-гав-на-гав-чаль-ству-ющий!» Или же, к примеру: «Урра-а-а! Урра-а-а! Урра-а-а!» Военные так всегда ура-радуются, услышав теплые не по-военному слова, с чем-нибудь поздравления от военноначальствующих (да-да бывает и такое!). Военноначальствующий вроде бы ничего особенного такого не сказал… Ну, произнес что-то там такое иронически-саркастическое. Сказал так, мол, и так, поздравляю вас, товарищи военные, с таким-то неожиданно наступившим праздником, хоть вы и не очень-то и достойны его великого значения… Да еще при этом не пожелал здоровья ни самим военным, ни их близким родственникам… Не пожелал им даже благополучия и согласия в семье. В общем, по существу ничего особенно хорошего военным не сказал военноначальствующий. А военные вдруг приходят в неописуемый восторг и заходятся в истошном крике: «Урра-а-а! Урра-а-а! Урра-а-а!»
(Это еще что… В рассматриваемом случае, происходящее еще хоть как-то можно объяснить. В этом случае можно хотя бы предположить, что военные так обрадовались особо военноначальствующему, потому как они его давно не видели и успели сильно по нему соскучиться. Немного натянутое объяснение, конечно же, но это можно хотя бы предположить. Находясь в глубоком бреду, например… А вот современные военные могут прийти в дикий восторг, заприметив вдруг, что на высокую, громоздящуюся над ними трибуну, кто-то осмелился все же взобратся. Пусть даже этим смельчаком будет бывший директор мебельной фабрики. Уволили, к примеру, директора по какой-то причине со старой работы. Идет он к себе домой окольными путями, всячески оттягивая нерадостную встречу с семьей, глядь — какая-то лестница. «Дай, — думает уволенный, — заберусь. Посмотрю кто там молчит внизу. Еще побольше оттяну время своего горестного возвращения». Бывший директор неуверенно забирается по качающейся лестнице и неожиданно для себя оказывается на трибуне окруженной безмолвствующими военными. Гнетущая тишина, исходящая от военных не на шутку пугает бывшего директора. Он к такому не привык. Уволенный сразу вспоминает привычный гвалт, сопровождающий собрания трудового коллектива. Военные по-прежнему безмолвствуют. «Не к добру это, — с нарастающим волнением думает уволенный директор, — того и гляди еще и по трибуне сдуру палить начнут. Надо что-то срочно предпринять. Для начала надо хотя бы поздороваться, а потом и поздравить этих зловещих молчунов с какими-нибудь праздниками». Руководствующийся сигналами инстинкта самосохранения бывший директор тут же поступает в соответствии со своими мыслями. «Здравствуйте, товарищи военные», — неуверенно произносит вниз уволенный мебельщик. «Зав-здрав-тов-дир! Урра-а-а! Урра-а-а! Урра-а-а!» — в экстазе вопят современные военные бывшему директору мебельной фабрики. Вот это мы вообще отказываемся комментировать и хотя бы как-то пытаться объяснить).
Но, конечно, такого вот фрагментарного самовыражения военным было явно недостаточно. И поэтому вступали они периодически между собой в диалоги. Вступали, в большинстве своем, после благостной для всех военных команды: «Отбой!» Вспомним, что, несмотря на внешне зловещий смысл этого слова, ничего опасного для военных оно само по себе не содержит. По этой команде ничего военным не отбивают. Военным просто подают сигнал на начало медитации и инициализацию процесса отделения сознания от замученной в ратном труде оболочки.
Случаются минуты, когда усталость оболочки не сильно докучает военным, и они не спешат отпускать на волю нетерпеливое в свободолюбии своем сознание. Именно в эти минуты и происходили между ними всевозможные диалоги на сильно разнящиеся между собой темы. Кроме того, диалоги эти обладали различной энергетической насыщенностью.
Они могли закончиться, едва начавшись, и представляли из себя вялый, быстрозатухающий словесный обмен ничего незначащими фразами, переходящий в частые такие, военно-тревожные похрапывания, свидетельствующие о начале процесса медитации. А случались очень жаркие диалоги, переходящие во взаимные оскорбления, и могли закончиться дружеской дракой военных на ночной помойке. При этом сугубо полемический процесс между военными проходил с частым обменом ударами и почти таким же частым употреблением банальных в наивности своей фраз-вопросов: «Ты кто такой?» или «Что тебе надо?» С чего начинались подобного рода полемики в самом недалеком последствии уже никто не помнил, а участники произошедшей на кануне дискуссии весело смеялись, удивляясь сами себе: «Надо же было до такого догадаться: пойти ночью в одних трусах на помойку, дубаситься там с Васькой, чтобы выяснить у него кто он такой и что ему надо! Ха-ха-ха! Я же его уже три года как знаю! И чего он всегда хочет, тоже знаю! Хе-хе-хе!».
Поясним коротко корни вот такого вот друг о друге всезнайства. Просто ходил в ту пору между военными и пользовался меж ними особой популярностью некий простецкий анекдот.
Проводился некий психологический опрос представителей различных профессий. Выбрали профессии инженера, учителя и военного. Им по очереди показывали простой красный строительный кирпич и допытывались о возникающих у них при этом ассоциациях. Показали кирпич инженеру. Инженер сразу стал что-то взволнованно говорить о домике на своих четырех сотках, и как это все его уже достало, и что надо принести с работы немного тротила и все это взорвать к чертям собачачьим. Психологи записали. Показали кирпич учителю. Учитель стал говорить что-то о кирпичиках частных познаний, из которых складывается фундаментальное здание науки. Психологи записали. Наконец показали кирпич военному. Военный посмотрел равнодушно на кирпич и сказал, что в данный момент он думает о женском половом органе (военный ответил в ненормативной транскрипции). Психологи замерли в растерянности: «Как так?! Почему?! Что же здесь общего?» «Нет, нет. Общего, конечно же, ничего нет, просто я всегда об ей думаю», — ничтоже сумняшеся, ответствовал военный.
Но все же, чаще всего, происходили диалоги средней энергетической насыщенности, направленные на обмен какими-то аспектами приобретаемого жизненного опыта в условиях полного отсутствия в стране развитого социализма так называемого «секса» (о грядущей сексуальной революции никто в ту пору даже и не подозревал), например, диалоги следующего содержания:
— Нет, мужики, неправильно вы себя с девушками ведете. Сколько слушаю я вас, наблюдаю за вами — грубовато как-то. Прибегаете к ним в общежитие и, как дикие хищники какие-то, сразу на них набрасываетесь и р-раз, а только потом, потом только, до следующего «р-раз», начинаете вести с ними пространные беседы о вашей же учебе и героической вашей же службе, о неистовых по отношению к вам военноначальствующих. Неужели вы думаете, что это им действительно интересно? Из вежливости, небось, слушают они всякую чушь, а вы и рады стараться соловьем разливаться. А то еще начнете вином их подпаивать и сальные свои военные шуточки направо — налево разбрасывать.
— А как надо-то, Леш, расскажи. Научи нас, сирых и убогих.
— Надо же не с этого начинать. Сначала разговоры надо вести умные, ну там о различных направлениях в высоком искусстве: в живописи, в скульптуре и архитектуре, в музыке, в театре и кино. Затем надо переходить к практической части ухаживания. Театры и филармонические залы необходимо с ними посещать, в музеи и картинные галереи наведываться. Ну, да-да, естественно с заходами в буфет, вы же без этого никак уже не можете обойтись. Ну, а затем уже, можно на более низкий уровень перейти, в кино, к примеру, с ними сходить и в темноте за коленки пощупать, ну а потом уже можно и в кафешку какую-нибудь заглянуть, угостить их там мороженным, шампусика подливая и на чай по месту их проживания напрашиваясь. И только потом уже, когда уже вас куда-то пригласили вместе с обогащенной искусством душой вашей, можно начинать настойчивое приближение к вашим плотским утехам.
— Ну, Лех, ты просто классик какой-то. Может ты нам еще денежными средствами поможешь? Выделишь, так сказать, на окультуривание наших животных, так сказать, меж собой отношений? Ну, на кино, театры, музеи и галереи мы как-нибудь сами по сусекам наскребем. А вот на посещение ведомственных буфетов уже никак не хватит нам. Так что на эти самые буфеты и мороженное с шампанским извольте-ка, дорогой наш Учитель, раскошелиться, и все пойдет по разработанному Вами сценарию.
— Да ну вас! На вас разве напасешься? Не умерены вы в страстях своих. Не хотите работать над повышением уровня своей внутренней культуры — зверствуйте дальше, как вы себя там называете — «половые гиганты» с постельной кличкой «неутомимые»? А вот такой у меня созрел вопрос к гигантам: вы, уважаемые половые разбойники, перед дикими своими совокуплениями эротические прелюдии, хотя бы, проводите?
— Чего-чего? Это что, перед каждым трахом теперь в оперу или на балет за твоей прелюдией тащиться?! Или что, нам самим, что ли их исполнять? Кому это на фиг нужно? Нас могут неправильно понять, если мы притащимся к девкам и начнем им тонкими голосами прелюдии голосить.
— Темнота дремучая! Я же сказал: «эротические» прелюдии. Читал я как-то в специальной медицинской литературе, у меня родители медики, что у всех, без исключения, женщин, кроме каких-то там, фригидных (кто такие — не знаю, не успел дочитать, торопился, надо было уже на службу ехать). Так вот, у всех абсолютно женщин существуют многочисленные эрогенные зоны. И если их по эрогенным зонам этим пощекотать немного, они просто звереть начинают и сами на мужиков набрасываются. Это и называется эротической прелюдией. Вам вот никаких прелюдий не надо, вы и так, как увидите какую-нибудь более или менее привлекательную особь женского пола, так сразу и звереете. А им вот, видите ли, нужны прелюдии, чтобы дойти до вашего обычного скотского состояния. Ну а дальше уже ладно, после прелюдий вы уже равны — два звереныша из программы «В мире животных».
— Да, Леш, знаешь ты по этой части довольно много. Здесь ты просто профессор. Понятное дело — родители медики. А сам-то ты девочку какую-нибудь хоть одну раз-разочек хотя бы попробовал?
— Нет, мужики, я ведь чистый тэоретик (существует такой тип военных, которые произносят очень значимые для них слова с легким турецким акцентом, примерно так, как печатала пишущая машинка великого проходимца Остапа Бендера, в бытность его работником знаменитой теперь на весь мир фирмы «Рога и копыта», например: тэория, акадэмия, прэмия и т. д.) Это ведь, понимаете ли, как, например, в физике. Есть физики— тэоретики и есть физики-экспэрэмэнтаторы. Так вот, я в области решения вопросов этики взаимоотношения полов являюсь чистым тэ-о-ре-ти-ком.
А иной раз происходили сугубо научно-теологические диалоги, например:
— Мужики, вот рассказывали нам сегодня на физике, как бьются передовые ученые всего мира над доказательством правильности теории Большого взрыва. Вспоминаете детище профессора Гамова? И вроде бы все для них, начиная с секунды существования Вселенной является более менее понятным, и даже обнаружили уже незабвенное реликтовое излучение, а то, что было с самого нуля секунды, никак не могут описать. Не то, чтобы не могут доказать, описать даже не могут на уровне какой-нибудь эвристической модели. Только один что-нибудь нафантазирует, другие сразу набрасываются и все с ходу опровергают. Опровергают вроде бы аргументировано, а предложить что-нибудь, используя хотя бы те же самые аргументы никак не могут.
— Ну почему же? Тебе же (это один из немногих случаев, когда военные точно не нарушали устава, обращаясь к другу просто так на «ты», потому как вопросы службы вышли в то время только на околоземную орбиту и вселенских масштабов еще не затрагивали) долго объясняли основные положения теории инфляции. Эта теория как раз и дает представление о периоде от с. до с. в предположении, что до этого периода Вселенная находилась в состоянии так называемого «ложного» вакуума, обладающего ненулевой плотностью энергии, и поэтому очень беспокойного, стремящегося перейти в обычный вакуум посредством туннельного эффекта. А когда ему, заразе, это, наконец, удается, то в «ложном» вакууме образуются «пузыри». Каждый «пузырь» это — «зародыш» одной из Вселенных. Правда непонятно, зачем производится деление между вселенными, для нас одна из них и то, практически, является бесконечностью. А тут множество вселенных. И чем определяются их границы? И зачем нам вообще их определять? До межевых межзвездных войн тут еще точно очень далеко. Любая война ведь является вооруженной борьбой за какие-либо ресурсы. А здесь так всего много, что и сам смысл борьбы пропадает.
— Ну, дорогой мой, как-то уж очень ты по-военному на все смотришь. Причем здесь разделение вселенных? Здесь, во-первых, еще с Галактиками не все понятно. А во-вторых, хитрый ты все же, змееныш, опираешься на очень спорную теорию инфляции, а в великих ученых умах имеются большие в правильности ее сомнения. А в-третьих, никто из великих наших умов так и не берется предполагать, что же, все таки, творилось хотя бы в одной нашей Вселенной, начиная с нулевой временной ее отметки, и кто, в конце-концов, дал старт? Кто, собственно, определил этот ноль и дал отталкивающую от него отмашку? Разве могут быть какие-то сомнения о полной, определяющей все дальнейшее наше развитие, причастности ко всему этому Всевышнего? А великие наши ученые, в который раз уже, пытаются применить современные, но еще далекие от совершенства так называемые научные методы познания к тому, что не может быть познано этими методами принципиально. Я не могу утверждать, что есть вещи, непознаваемые в принципе — есть вещи, которые могут быть познаны другими, отличными от современных, научных методов. Будут ли это методы мистического познания окружающего мира или еще другие какие методы — сие нам неведомо.
— Стоп, стоп, стоп! Ты кого понимаешь под «всевышним»? Уж не «боженьку» ли? А как же великая наша и единственно правильная теория?
— Ну, во-первых, не «боженьку», какого-нибудь, а Великого нашего Всемогущего Бога. Как истинно выглядит он, не дано нам узнать в земной нашей жизни. Отойдем когда в мир иной, там может что и увидим. Но точно это будет не человеческий облик, хоть и сказано в Библии «по образу и подобию своему», да и Бог-отец и прислал нам Христа в человеческом обличии, чтобы нам, тупеньким было проще Его, воспринять. Ну, представьте себе, покажут современному обывателю нашему некий список со слепка вселенского разума, духа вселенского и неубывающей светлой энергии. Поймет ли он чего-нибудь? Да нет, конечно же, ничего не поймет он: «Что за очередную сюрреалистическую размазню вы мне тут подсунули?» А вот когда конкретный, человеческий такой облик Иисуса предстанет пред ним, тогда он еще задумается: «Вроде как, что-то похожее на воображаемый мной облик Всевышнего, только уж больно глаза у него просветленные и печальные какие-то. А-а-а! Он же на кресте висел, прибитый ржавыми гвоздями. Тогда печаль его понятна. Каждый, наверное, загрустит, когда с ним таким же образом обойдутся. А вот просветление такое, особое какое-то, откуда-то в глаза его наплывшее — это еще мне непонятно». Но это хоть и недостаточно верное, но зато какое-то уже оформленное восприятие истинного Бога нашим же обывателем. Он хотя бы о чем-то начинает задумываться. Хотя бы о том, что ему именно непонятно. Я бы называл это восприятие первоначальным. А вот когда поймет он и ему подобные, что за просветлением в глазах Господних стоит истинная радость от того, что, в том числе, и его, дурака, обывателя этого, удалось, в конце концов, спасти от беспросветной кары небесной за поганые грехи его земные, вот тогда и наступит эра всеобщей и истинной веры. А относительно «единственно верного учения» хочу предостеречь тебя, дорогой ты мой, военный: бойся произносить слова такие вслух, бойся даже пускать их в думы свои глумливые, ибо истинная правда только у Бога. И это, кстати, понимали и те, кто эту якобы теорию создавал, опираясь на пресловутые три источника и три составные части так называемого марксизма-ленинизма.
— Почему же якобы? Теория как теория. В том же капитализме до сих пор используется.
— Обрати внимание, используется только в экономическом плане. Используется только так называемый краеугольный ее камень — теория прибавочной стоимости. Но Всевышнего в этой теории ни один из классиков особо не ругал и не пытался относительно него что-нибудь доказать. Ну говорил Ильич что-то о заигрывании с «боженькой». Интонация, конечно же, ему еще долго не простится, но ведь речь-то шла о попах. А попов я сам очень сильно недолюбливаю. Есть среди них, конечно, истинные служители Веры, но в основном — это стяжатели, жаждущие сорвать куш на вере, а иногда и на горе человеческом. Ну представьте, мужики, брать деньги за совершении молитвы за упокой души?! И при этом отказывать в молитве тем, у кого вдруг денег не окажется?! Сам был тому свидетелем и ненавижу подобных, почему-то всегда толстомордых таких и вечно лоснящихся в удовольствии скотов! И, в то же время, преклоняюсь перед истинными подвижниками Веры. И горжусь тем, что один из них крестил меня.
— Погоди, насчет Ильича, возможно, ты и прав. Открыто Бога не ругал он, но попов этих точно недолюбливал. Но ругал не ругал, в душе ведь все равно ярым был безбожником! Войну против церкви именно с его подачи начали. Сколько храмов поганцы порушили… А те, которые сломать силенок не хватило, в свинарники превратили. А так… Внешне добреньким таким рисовали этого злодея. Он, видите ли, детишкам на елку гостинцы посылал. А «мешочников», читай — тех же любимых им пролетариев, побирающихся по деревням во время голода в городах, призывал расстреливать. А почему голод-то в промышленных городах вдруг образовался? Все от того же большевитского не умения хозяйствовать. Они же тогда что умели? Только глотку лозунгами надрывать и из ружей палить во все стороны. Поэтому горожане и вынуждены были собрать свой промышленно произведенный скарб и податься в село для обмена этого скарба на хоть какие-нибудь продукты питания для голодающих своих семей. А он на них: «Мешочники! Стрелять!» А мы изучаем и конспектируем по ночам псевдотруды этого воинствующего сифилитика. Ну ладно, по поводу «мешочников» — это такое эмоциональное отступление, навеянное недавним конспектированием «Все на борьбу с Деникиным!». Вернемся все же к затронутой теме. Ленин-лениным, а у нас еще два классика неохваченными оказались. Кто-нибудь встречал где-нибудь во время нудных наших конспектирований какие-либо высказывания по поводу Всевышнего у Маркса с Энгельсом?
— Честно говоря — не помню. Энгельс, по-моему, вообще ничего по этому поводу не говорил. А вот Маркс как-то высказался относительно религии, мол, опиум это для народа. Наркотик это значит такой, народ растлевающий. И вспоминается мне, смутно, что-то еще у Маркса было по поводу того, что христианская религия — это религия рабов. Но ведь давайте все же понимать, и в понимании своем разделять, что Вера, религия и церковь — это хотя и взаимосвязанные, но в то же время, абсолютно разные вещи. А по поводу Всевышнего классики воинствующего нашего марксизма-ленинизма предпочли отмолчаться. На всякий случай. Это ведь знаете анекдот такой про «всякий случай»?
— Да нет, вроде бы не слышали. Рассказывай, давай, коль напросился.
— Умирает старый еврей и просит жену: «Сагочка, золотце мое, когда отлетит из меня дух, положи мне, пожалуйста, во гроб Тору, Коран и Библию. Жена удивленно спрашивает его: «Абрам мне таки понятно насчет Торы, но зачем же тебе еще и Библия? И Коран в придачу? Ты же знаешь, дорогой, что щас все так дорого, так дорого все!» «На всякий случай Сагочка, на в-ся-кий с-лу-чай! Я лучше таки еще раз заплачу напоследок».
— Ну, вы даете, мужики. Анекдоты это, конечно, хорошо, но вы просто попы какие-то, и вроде как мы с вами не в одной стране живем. Мы же со всем нашим народом идем в светлое коммунистическое будущее. Материализм проповедуем. А вы что-то разошлись — религия, Всевышний, Вера, церковь. Нет, ну точно, попы какие-то. Хотя то, о чем вы говорите, стало вдруг и мне тоже интересным. Вспомните лекции нашего материалистического «философа». Ну этого-то, который мучил нас красотой однообразия, а потом, всегда нараспев так: «Кто сказал, что хлеб солдатский легок?!..». Он ведь, вроде бы, материалист, а с пониманием относится к трудам схоластика Фомы Аквинского, правда посмеивается над его доказательствами существования Бога.
— Ну, относительно попов я вас, сударь, попросил бы. Во всяком случае, меня, просьба, всуе вместе с ними не поминать. Я ведь свое отношение к ним уже выразил. А вот по поводу Аквинского… Фигура для средневековья, конечно же, знаковая. И не только для средневековья. Насколько мне известно, всем философствующим ныне теологам, папской церковью предписывается придерживаться основных постулатов великого Фомы. Учение его базируется на трудах Аристотеля. Сильно он ими проникся, а вот Платона за что-то не любил. А знаменитые его пять доказательств существования Бога вовсе даже не смешны. Наш «философствующий» скорее так, для вида только посмеялся. По долгу, так сказать, службы. Он ведь обязан читать именно марксистско-ленинскую философию и лишь изредка, в порядке, так сказать, критики, довольно поверхностно пробежаться и по другим направлениям философии. Но свою задачу он выполнил. Хоть как-то расширил спектр наших скудных познаний, а то бы мы до конца дней своих были бы уверены, что самые великие философы современности — это Маркс и Ленин. Маркс-то еще ладно, его еще как-то можно отнести к этой категории. А вот с какой такой радости в великие философы попал Ильич, мне не совсем понятно. Это ведь чистый практик революционного движения. И философских трудов он никаких не писал. Ну, разве что «Философские тетради» и «Материализм и эмпериокритицизм» с большой натяжкой могут быть отнесены к около философским трудам.
— Ну все, как говорится: «Остапа понесло!» Ты вроде бы хотел про пять доказательств существования Бога рассказать, а сам на Ильича набросился. Не надо трогать покойного дедушку, не по-христианскому это.
— Как это покойного? Ты что забыл: Ленин жил, Ленин жив… Тьфу! Ладно, давайте вернемся к Аквинскому. На мой непросвещенный взгляд все эти пять доказательств вполне могут быть сведены к трем основным, а остальные являются промежуточными. Первое доказательство состоит в том, что, по большому счету, все вещи в мире делятся на две группы. К первой группе относятся вещи, которые являются только движимыми. Ко второй группе относятся вещи, которые, помимо того, что движутся сами, еще и приводят в движение другие вещи. Но ведь вещи второй группы тоже должен кто-то двигать. И если исключить возможность бесконечных умозаключений от причины к следствию, то в какой-то точке мы обязательно должны прийти к тому, что инициатор всеобщего движения неподвижен. Это и есть Бог, по Аквинскому. Второе доказательство сводится к констатации того, что мы наблюдаем в окружающем нас мире различные степени чего-либо совершенства, а значит, должен быть источник этих степеней. Источник должен быть абсолютно совершенным. И этот источник тоже Бог по Аквинскому. Суть третьего доказательства состоит в целевом предназначении неодушевленных предметов природного происхождения. В быту мы эти предметы не используем, и назначение этих предметов нам непонятно. Непонятно потому, что они созданы с неизвестной нам целью. Цель, для которой созданы эти предметы, известна, только их создателю, то есть Богу.
— Не совсем убедительно, но интересно. Логика, во всяком случае, присутствует. И где ты всего этого начитался? Наша цензура в библиотеки литературу такого содержания обычно не пропускает.
— А в различных критикующих книженциях. В которых критикуется все, кроме социализма с коммунизмом. Начнут, например, Ветхий Завет критиковать в какой-нибудь «Занимательной Библии», при этом все равно вынуждены будут рассказать что-то о критикуемом предмете. Вот так по крупицам и удается иногда что-нибудь узнать, кроме всевозможных и доступных «измов».
— Ладно, мужики, давай спать. Смотрите-ка, уже рассвет наступил. А завтра обычный военно-трудовой день. Следующий раз предлагаю о Сенеке поговорить.
— Спокойного утра! Материалистические, вы мои, теологи! Ха-ха-ха. Х-р-р. Х-р-р. Хыр-пыр. Ю-ю-ю.
Иногда впадали военные в озабоченность по поводу перспектив существовавшего тогда строя. Нет-нет, мыслей о том, что строй этот через какой-то десяток лет так просто и в одночасье рухнет, конечно же, не было. Просто некоторые из партийных вождей в то время обещали дать народу в ближайшее время возможность пожить при коммунизме. Так прямо и писали на больших плакатах с изображениями делающего ручкой вождя: «Нынешнее поколение молодых людей будет жить при коммунизме!» А военные как раз в то время молодыми и были, и им тоже хотелось попасть в число неких каждых: «От каждого по возможности, каждому по потребности». Но иногда казалось им, что все идет не совсем так, как провозглашалось с высоких трибун величественных съездов родной такой для всех военных коммунистической партии. Партии, являющейся организующей и направляющей такой всесильной силой, силой великого в могучести своей Советского Союза.
А когда возникали у военных такие вот сомнения, они тут же впадали в озабоченность. И, пребывая в этом состоянии, вели меж собой приблизительно такие диалоги:
— Что-то я не пойму, мужики, вступили мы недавно в эпоху развитого социализма, и обещают нам скорое вступление в коммунизм. Я, например, проявление коммунизма на бытовом уровне так понимаю: потрудился я радостно, столько, сколько смог я сегодня на благо коммунистического общества, притомился в радости своей и, по пути с работы зашел в продуктовый пункт. Это уже не магазин какой-нибудь, где товар меняют на деньги. Деньги-то уже к тому времени выйдут из обращения. Так вот, зашел я в этот пункт и взял все строго по своим потребностям. Не больше трехсот грамм осетринки, картошечки несколько клубней, ветчинки и сыра с зеленью на утренний завтрак.
— Здоров же ты жрать, военный. Осетринки, завернутой в ветчину, ему вдруг захотелось. Что, неужели овсянно-пшенно-шрапнельные кашки надоели? Коммунизм, он может, как раз, и подразумевает, что все твои потребности кашками этими и должны ограничиваться, а возможности твои, усиленные коммунистической идеей, при этом должны быть безмерно велики. Пашешь себе от зари до зари с радостью, а в перерывах присаживаешься на пенек и горшочек каши в той же радости уминаешь. И не уйти ведь с работы-то пораньше, на пике коммунистической сознательности находясь такого нельзя допустить. Прислушиваешься к себе — ого, возможности-то еще остались! И продолжаешь себе дальше и радостно так трудиться. Пока не унесут ногами вперед. И нести будут, заметь, тоже с радостью. Потому что без радости в коммунизме нельзя. Классики, по-моему, только на нее и надеялись. Самой реальной вещью во всей их теории оказалась эта непонятно откуда берущаяся радость от какого-то освобожденного кем-то и от кого-то труда.
— Ну ладно ты, циник известный. Дай закончить. А то сейчас забуду, о чем, собственно, сказать хотел. Так-вот, на следующий день, по завершении радостного, очередного моего трудового подвига, потребности у меня уже несколько другие (все же имеет свойство надоедать, в конце концов, и осетрина, и икра). Могу я, к примеру, вместо осетринки взять такое же количество свининки розовой, свеженький такой кусочек. Ну а далее макарончиков еще могу взять на без избыточный свой ужин вместо картофельных клубней, и не землисто-серых макарончиков, пролеживающих на витринах нашего развитого социализма, а нормально-белых таких из так называемых твердых сортов пшеницы. Пшеницы у нас такой, слава Богу, хватает пока, несмотря на всю рискованность нашего земледелия.
— Слушай, ты уже надоел, слюней уже полон рот. Если так дальше будет продолжаться, все опять закончится трампарком. Осетринкой никто там конечно не угостит и свининки не отрежет, но по свиным сарделькам ударить уже не мешало бы.
— Все, прекращаю о жратве. Никак не могу от нее оторваться и перейти непосредственно к коммунизму. Ну вот значит, стою я в продовольственном этом пункте и в мыслях даже у меня, морально к коммунизму подготовленного, не промелькнет таких мерзких помыслов, чтобы стибрить, к примеру, еще килограмма три лобстеров на бесконтрольно-доверительную коммунистическую халяву. Я ведь трезво оцениваю свои естественные съестные потребности и твердо понимаю, что не съем за вечер столько. А если все же очень постараюсь и все таки сожру все, с трудом сдерживая нарастающую справедливость возмущения организма, то переварить мне все это качественно, с пользой для не вполне уже коммунистического себя, в любом случае уже не удастся. Ведь высочайшая житейская мудрость, относящаяся не только и не столько к еде, говорит нам о том, что абсолютно неважно, сколько вообще мы можем съесть, самое главное — это то, сколько мы можем с пользой для себя переварить. Тьфу! Опять понесло.
— Короче давай, Склифасовский! Достал ты уже всех. Минуту еще даем тебе, птица-говорун.
— Так вот. Гляжу я на бесконечные очереди в продуктовых магазинах развитого нашего социализма и думаю: если толпится очередь значит, где-то неподалеку притаился дефицит. Очереди, особенно за мясными продуктами, становятся год от года все длиннее, а притаившийся было дефицит становится все толще и наглее и, того и гляди, скоро будет свободно разгуливать по улицам наших городов.
— Да он давно уже свободно разгуливает по всем городам и весям великого нашего СССР. Это вы тут зажрались в своем Ленинграде да в Москве, ну еще в столицах национальных республик относительно неплохо. Поездили мы по практикам да стажировкам. Насмотрелись кое-чего и представляем уже более или менее общую картину. Представляем, например, что уже в пятидесяти километрах от Москвы куска вареной колбасы купить невозможно. Вот и ездит все Подмосковье и сопредельные с ним области на выходные в Москву и рассыпается там по проверенным магазинчикам, в которых успех наиболее вероятен при минимальной длине очереди. А некоторые ленивцы — нет, не ищут легких путей, занырнут сразу, с электрички сойдя, в какой-нибудь привокзальный магазинишко и стоят там до сумерек в надежде на парочку батончиков псевдо-мясного в закрахмаленности своей и набитого туалетной бумагой продукта. И домой! В лучшем случае с победой, добытой ценой потерянных выходных. Недаром родился в народе анекдот-загадка: «Что это: длинное, зеленое, колбасой пахнет?» Ответ знаем: «Подмосковная электричка в выходной день».
— А взять сопредельные области? Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Тверскую? Да что говорить, из этих горе-областей все равно в разумные сроки до Москвы можно доехать! А как же остальная наша матушка Рассея?
— И ведь правда, и ведь я о том же. Вот и думаю, откуда же напастись ресурсов на этот самый коммунизм. И какая дикая должна быть производительность. Сейчас ведь народ, в большинстве своем, работает с ощутимым напряжением, полезных ископаемых у нас много, пахотных земель и пастбищ тоже хватает, а вокруг нас разгуливает беспардонный дефицит. И не одинок он, этот мясо-колбасный прохвост. Имя ему — легион. Он и в мебельных магазинах, и в хозяйственных, не говоря уже о местах продажи «не роскоши, а средств передвижения». А представьте себе, что может случиться, когда не до конца еще сознательный народ неправильно поймет первую часть коммунистического лозунга: «От каждого по возможности…» и впадет в праздное разгильдяйство, помня, что все равно получит по своим непомерно разбухающим потребностям? Полная катастрофа!
— Может, это все из-за плановой нашей экономики? Может неправильно там, наверху все планируют? Страна большая, тысячи и тысячи разнопрофильных предприятий, портов, угольных разрезов, нефтяных вышек, колхозов и совхозов — всего за день не перечислишь. И все это надо увязать в единый производственный комплекс и охватить тотальным контролем. Возможно ли это вообще при нашем-то уровне автоматизации? У нас ведь как дела с автоматизацией обстоят, к примеру, в строительстве. Приехал, например, на базу стройматериалов порожний самосвал, диспетчер нажимает на кнопку, и тут же, как из-под земли, появляются десять рабочих с лопатами и приступают к загрузке «порожняка». А тут ведь необходимо какое-то масштабнейшее комплексирование и глобальный такой контроль. Вот и ошибается наш Госплан. В одном месте допустил ошибку, и пошла она размножаться в геометрической прогрессии по территории всей страны. И в итоге: здесь пусто, а там густо.
— Нет, я, например, не знаю мест, где бы было действительно густо. Видел места, где скорее густо, чем пусто. А вот чтобы категорично так — густо, такого никогда не видел. Ну это, в конце концов, не так важно. Вы мне вот на какой вопрос ответьте. Вот тут некоторые военные про осетринку что-то говорили в лучезарном коммунистическом будущем. А сейчас-то она где, осетринка-то эта? Где черная икра от нее? Где многочисленные лососевые с красной их икрой? А тихоокеанские крабы? У нас же богатейшие рыбные запасы! Не понаслышке знаю — жил какое-то время на Камчатке. А в магазинах только треска да килька, ну есть еще, правда, какая-то иваси. Что, опять Госплан ошибся?
— Ну ошибся, наверное. Хозяйство действительно сложное. Хотя так ошибиться, действительно, очень трудно. Тут что-то другое. За границу небось гонят все мерзавцы. Не хватает им видимо инвалютных рублей.
— Именно так. Если бы Госплан ошибся, то завалил бы, к примеру, Тамбовскую область красной икрой, а Тверскую черной. Обожрались бы местные жители обеих областей одним из видов рыбьего потомства, и пришла бы им мысль совершить бартерный обмен, устраняя госплановскую ошибку. Так нет же! Ничего этого деликатесно-рыбного в обычных магазинах нет. Что-то можно найти в Елисеевских магазинах по капиталистическим ценам. Но платят-то народу пока строго по-социалистически. А здесь, наверное, и кроется ответ на рыбные вопросы. Видимо, скабрезный этот госпланишка на этот раз рассчитал все верно. Зачем кормить свой народ деликатесами? Так ведь можно и до капиталистического общества потребления докатиться. Да и цены на деликатесы придется делать доступными для участников социалистического труда. Зело сие затратно. Хватит с него, с народа этого, наипитательнейшей в своих устрашающих размерах кильки! А тут под боком, недалеко совсем, загнивают охочие до деликатесов алчные капиталисты с торчащей изо всех карманов валютой. Нате, гады, подавитесь. Вагончики опломбированные с валютой взамен не забудьте только прислать. И видимо эти загнивающие ничего, не забывают. Вовремя все отправляют. А вагоны эти встречают на станции видные советские и партийные руководители с большими пустыми кожаными портфелями. Видные руководители чинно, не спеша так, заполняют валютой знатные свои портфельчики, а то что, в портфельчики эти не помещается, аккуратно веником так, кем-то в форме, подметается и складируется в партийную кассу. На нужды, так сказать, мирового коммунистического движения.
— Ну ты просто антисоветчик какой-то! Просто какой-то диссидент! Слава Богу, что нет среди нас агентов от службы «молчи-молчи» и политотдела. Иначе к концу учебы никого бы уже и не осталось. Как там у Пушкина: «Иных уж нет, а те далече». Скорей всего на эти инвалютные рублики наши видные деятели станки с числовым программным управлением покупают. Налаживать свое производство средств производства им видимо уже не под силу. Старенькие ведь все они уже.
— Не надо «ля-ля». Нам на лекции по политэкономии говорили что станки у нас даже японцы покупают.
— Да конечно же покупают, спора нет. Только покупают-то из-за металла. Покупают у нас, к примеру, один довоенный станок типа «ДИП» («догнать и перегнать»), переплавляют его и делают три своих с ЧПУ.
— Может быть и так, но это еще раз подчеркивает старческую немощь наших руководителей.
— Ты еще слезу по поводу их несчастливой старости пусти. Тут военный принцип должен работать: достиг пенсионного возраста — на тебе пенсию союзного значения и изволь на дачу огурцы с помидорами выращивать. А эти же — нет, так вцепились во власть, что только вперед ногами их оттуда выносят. И закапывают тут же от этой власти неподалеку. Чтобы покойники сильно не переживали по случаю ее нежданной потери. А то как начнет еще какой старпер в гробу своем вертеться на каком-нибудь удаленном от власти кладбище, вспоминая проникновенные слова, звучащие на похоронных митингах: «С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня наш народ и все прогрессивное человечество понесли невосполнимую утрату, на семидесято-восьмидесято-девяносто хххх-ом году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни великий (видный)…». А то еще и проникнется речами вдруг своей незаменимостью покойный, да еще и вылезет обратно. Дабы восполнить казалось бы уже невосполнимую потерю. И пойдет народ бестолку будоражить и смуту сеять. Кому из пока еще здравствующих политиков это может прийтись по нраву? Они только во вкус вошли, а тут: «Здрасте вам!» — приперлось такое страшилище! Оно в последние годы жизни-то было уже не очень, ну, а тут совсем уже безобразие какое-то. Поэтому-то и норовят знаменитых этих покойничков где-нибудь у Кремлевской стены закопать. Чтобы вроде как при власти оставались они. Полеживали себе неподалеку и пребывали в некой иллюзии власти. И это правильно. Так ведь поспокойнее будет всем.
— Ну-у-у ты точно диссидент! До чего договорился в итоге! Смотри, плохо кончишь. Ты хоть больше нигде так не разглагольствуй! Сдадут ведь и даже фамилии не спросят. Фамилию спросят в другом месте. В том месте все фамилии знают, но почему-то все время у всех попавших туда непременно интересуются: «А как, гражданин, звучит ваша фамилия?» Некоторые лгут и тут же попадаются на еще одну статью. Так что давай-ка прекращай диссидентствовать.
— Да никакой я не диссидент. Хотя… У нас уже сейчас так огульно, как при Сталине, не сажают. Но в народе говорят, что каждый из нас потенциальный диссидент, а все диссиденты делятся по большому счету на две больших подгруппы — доссиденты и отсиденты. Анекдот про первого советского диссидента хотите услышать?
— Да рассказывай уже. Все равно полночи покоя от тебя нет.
— Ну, тогда слушайте. Приходит Берия к Сталину с докладом о поимке первого советского диссидента. «Ну и кто же это, Лаврэнтий?» — вопрошает, попыхивая трубкой, Сталин. «Это нэкий Сынявскый, товарыщ Сталын», — ответствует Берия. «Лаврэнтый, а тот ли это Сынявскый, который футбольные матчы коммэнтыруэт?» — вновь вопрошает Иосиф Вессарионович. «Нэт, товарыщ Сталын, это другой Сынявскый», — вновь ответствует Берия. Сталин некоторое время молчит, расхаживая по просторному, кремлевскому своему кабинету, а потом останавливается и с недоумением в голосе произносит: «Послущай, Лаврэнтый, а зачэм нам два Сынявскых?»
— А я вообще считаю, мужики, что дело не в отдельных ошибках планирования развития так называемого народного нашего хозяйства. При таком жестком подходе к планированию громадного нашего хозяйства ошибки и просчеты тоже будут громадными. Вот у загнивающих этих капиталистов-рыночников, у них ведь как раз, основная аргументация в пользу рыночной экономики и состоит в возможности преодоления на ее основе противоречия между ограниченными по определению ресурсами, с одной стороны, и неуклонно растущими потребительскими запросами, с другой. И каким образом они пытаются противоречие это преодолеть? В основном за счет создания жесткой конкуренции в сфере перекачивания ресурсов в потребительские товары. И тут все понятно — кто наиболее эффективно перекачивает ресурсы в наилучший, например, по критерию «цена-качество», потребительский товар, тот и является наиболее успешным и богатеющим. И, богатеет успешный этот, при минимальном контроле со стороны государства. Государство, в основном, отслеживает правильность и своевременность поступления налогов в казну и контролирует упорядоченность использования природных ресурсов — большинство ведь развитых капиталистических стран давно уже преодолело период дикого капитализма, хищнически относившегося к природе.
— Еще один диссидент выискался. Ты куда это клонишь, морда твоя буржуйская? В капитализм нас зовешь? А про безработицу, наркоманию, про неуверенность в завтрашнем дне ты сразу, конечно, забыл?
— Все это, конечно же, там присутствует и является прямым следствием той же самой конкуренции. Я вовсе не призываю к свержению действующего социалистического строя. Хотя понятия «социализм» и «капитализм» становятся все больше и больше неоднозначными. Как, к примеру, можно назвать государственные устройства Скандинавских стран? Вроде как капиталистические это страны, а по уровню предоставления социальных гарантий давно уже нас, истых социалистов-позорников по всем статьям обогнали. А социализм в какой-нибудь Бирме? Это что такое? Поэтому я, например, ратовал бы за перевод на рыночные рельсы нестратегических отраслей народного нашего хозяйства. Я еще на «гражданке» замучился носить «деревянные» квадратно-танковые изделия обувной фабрики «Скороход». Вот и надо построить таких «скороходов» побольше и пусть себе конкурируют меж собой. Борются меж собой вне рамок всесоюзного планирования. То же самое касается и предприятий легкой, текстильной и пищевой промышленности — пусть себе крутятся без мелочной опеки со стороны государства. Банкрот, значит банкрот. Процветаешь, значит процветай себе дальше на здоровье. Глядишь, и обувь у нас удобная появится, и качественными джинсами отечественного производства завалят прилавки магазинов, и ассортимент продуктов питания станет поразнообразней. А то ведь и смех, и грех — страна с 250-тью миллионным населением питается двумя-тремя видами сыра и колбасы, да и этого-то еще не всегда достанешь. А стратегически важные отрасли должны, безусловно, остаться у государства. Недра, железнодорожный и авиационный транспорт, тяжелую промышленность и оборонку не трожь — это национальная безопасность.
— Слушай, если ты такой умный, ты может сразу после выпуска в Кремль попросишься. Научишь, наконец, дураков-то этих старых уму-то разуму.
— Я не самоубийца пока еще. Вон Косыгин попробовал осторожненько, аккуратненько так стронуть экономику с места. И что получилось? Куда пропал он вдруг с экранов телевизоров. Так это — Косыгин. А тут заявится в Кремль какой-то военный. Шашку наголо и давай крушить сугубо плановую экономику. Все. Место в психушке на долгие годы сразу будет обеспечено. Там, наверное, поспокойней будет, чем везде. Кормят бесплатно, опять же. Однако сыты все мы питанием этим бесплатным. Лучше все же на него самому зарабатывать. Добросовестно служа планово-социалистической нашей Отчизне.
— Эх, мужики, хоть и говорили тут о доступности какой-то и полноте имеющейся, якобы, у вас информации о происходящем у нас в стране, на самом деле ни хрена вы о ней не знаете. Вы посмотрите, как живут наши социалистические «прибалты»! Казна в их промышленность и личное благосостояние этих лениво трудящихся граждан деньги только вбухивает и вбухивает! Причем вбухивает только лишь в надежде на лояльность этих «тормозов». А они, нет, иуды эти тевтонские, казну поглощают, а сами вороватым глазком своим на запад поглядывают и гундосят о том, что их когда-то завоевали, и как им было бы на западе хорошо. Хотя до того, как мы их, якобы, «завоевали», они как раз на том самом западе и были, только в качестве нищих аграрных придатков к западной Европе. И куда эти засранцы, извините за выражение, со своим сельскохозяйственным барахлом сейчас бы делись? Ну, реализовали бы они свое право на самоопределение. На какой такой рынок они собираются барахло свое выбрасывать? Если западноевропейские государства даже доплачивают своему сельхозпроизводителю за, то, чтобы он немножко так хотя бы поленился, расслабился бы с «легонца» и произвел на порядок так поменьше, чем может в действительности. Потому что сельскохозяйственный рынок у них давно уже сложился и без этих самых засратых «прибалтов». Сложился и без них уже давно пресытился. А тут наши доморощенные прибалтийские уродцы со своими мокрыми и вонюче-капающими мешками: «Гут морген, сэры! Бонжур, мадамы. Сырку нашего вонюченького к утреннему вашему столу не желаете ли? Почему воняет? У нас же натуральное все. А натуральное оно всегда воняет».
— Что-то ты уж больно зол на них. И не все из них «тевтонцы». Литва это ведь братья наши — славяне.
— В гробу видал я таких братьев! Издревле против нас вместе с поляками воевали. Сколько русской кровушки из-за трусливых их предательств совершенно напрасно пролито! И сейчас еще набираются наглости и выпендриваются, «говнюки» беспросветные. Они ведь какую моду сейчас взяли — по-русски все говорить умеют, но когда спросишь что-нибудь на улице, ну, к примеру: «Как пройти к месту продажи вашего самого вонючего в мире сыра?» Либо молчит, «говнючара», руками своими тормознутыми разводит, либо начинает что-то мычат по-своему, тщательно растягивая слова. Кстати анекдот вспомнил про пресловутую их тормознутость, правда, с эстонским оттенком, но поверьте, принципиальной разницы между этими «прибалтами» не существует.
— Еще один весельчак нашелся. Ты же вроде никогда в числе штатных анекдотчиков у нас не числился.
— Тем более интересно. Молчун наш разговорился. И выяснилось сразу, что оказывается он у нас ярый националист. В тихом болоте, как говорится, черти водятся. Пусть хоть так самовыразится, а то пойдет завтра «прибалтов» по Питеру гонять и схлопочет, какую-нибудь политическую статью. Не отмоешься потом до конца жизни.
— Представьте себе: Эстония, лесостепная местность (сейчас такое уже невозможно даже представить — Эстония давно уже представляет из себя степную местность с торчащими до горизонта пеньками. А где же лес? Странный вопрос. Конечно же продан давно уже древней Европе! А чем этим «тормозам» еще торговать-то? Бабами и лесом. Лес продали, но бабы остались. Потому и самый высокий в Европе уровень проституции). Из леса выходит эстонец и уверенно идет к железнодорожной насыпи. Взобравшись на нее, замечает ручную дрезину, движущуюся в «бескрайнюю эстонскую степную даль» по железной дороге. Вышедший из леса эстонец уверенно впрыгивает на свободное сидение. Некоторое время молчит. Затем спрашивает дрезинновожатого на нарочито ломанном русском языке: «С-ка-жжи-тэ, до Та-ллы-на да-ль-лэ-ко?» Дрезинновожатый долгое время молчит и наконец произносит, с ярко выраженным антирусским акцентом: «Нэт, со-всэм нэ да-ль-лэ-ко». Проходит два часа. Непрошенный попутчик озабоченно спрашивает у дрезиновожатого: «С-ка-ж-жи-тэ, до Та-ллы-на еще да-ль-лэ-ко?» Дрезинновожатый опять долгое время молчит, обозревая бескрайние эстонские степи» и, наконец, не меняя скучного выражения тевтонского своего лица, медленно выдавливает: «Т-тэ-пэрь уже о-ч-чень дал-лэ-ко!»
— Да ладно, прицепился ты к этим тормозам прибалтийским. Эти хотя бы к псевдо-цивилизованной Европе тянутся. Видел бы ты что творится у нас в Советском Закавказье и его ближайших окрестностях? Я прожил там достаточно долго и знаю, что пока мы тут развитой социализм строили, они там давно уже внедрили, национально очень своеобразную, сельскохозяйственную рыночную экономику. Бабы у них пользуясь, благоприятным кавказским климатом, все и вся выращивают, а мужики это все и вся продают. Сидят себе целыми днями в белые рубашки наряженные в различных чайных заведениях. Вроде бы чай пьют. А на самом деле — все и вся продают. Контракты они, видите ли, заключают. А на предприятиях работают в основном одни русские. А закавказские псевдо-джигиты продают себе и продают. И, еще, скоты поганые, набираются наглости песенки сочинять: «Меня зовут Мирза — работать мне нельзя. Пусть за меня работает Иван — перевыполняет план!» И не только сельхозпродуктами торгуют эти внешне горячие парни. В универмагах, в отделах, торгующих женским бельем часто можно заметить за прилавком разновозрастных парней в больших кепках. Учатся торговать с самого детства. Иной раз идешь, смотришь, шпендель какой-нибудь пятилетний на улице сидит, сопли до асфальта распустив, но уже шельмец при деле — семечками торгует. Ни читать, ни писать явно еще не умеет, да и вполне вероятно что и не научится никогда, но деньги, уже считает. Будь здоров как считает и уже, сопля зеленая, обсчитать тебя норовит. Вся торговля эта закавказская, за исключением государственных магазинов, никакими налогами не облагается, отстегивают друг другу «бакшиши» по клановой своей иерархии и за определенные услуги и вперед — втюхивать все и впаривать все что ни попадя. Уровень жизни этих закавказских друзей, в среднем, значительно превышает уровень жизни на территории родной нашей Руси. Кто был там, наверняка, видел, какие дома они там себе отгрохивают, де факто владея гектарами земли под выпас многосотенных бараньих стад и под выращивание фруктовых садов. Еще должны были вы заметить, что практически все псевдо-джигиты еще до тридцати лет отроду уже ездят на размалеванных, увешанных всякими прибамбасами собственных машинах. Ну как же, научно-технический прогресс все таки шествует по планете. Пора с коней и ишаков слезать и в автомобили пересаживаться. Он, видите ли, псевдо-джигит этот, уже в жизни давно и полностью состоялся. Не успел еще от скорлупы отряхнуться, глядь, а он уже, оказывается, сказочно богат. Это при том, что нашему среднерусскому работяге порой до конца жизни на железного коня не заработать. И ездят всюду с чванливыми, похотливыми такими рожами и девкам нашим приехавшим туда с дуру на отдых призывно сигналят, а если эти дуры хоть в какой-нибудь, пусть в самой невинной форме, обозначат им свое внимание, «черножопые чушки» переходят в состояние сильнейшего возбуждения и крайнего такого полового влечения. И все, от них уже просто так, без ярко выраженной грубости не отстанешь. Постоянно проживающие там русские наши девки именно так и поступают. Обкладывают их с ходу отборными такими матюгами, и те как-то скисают сразу и отваливают. Да и научились многие «чушки» эти местных русских девок от приезжих отличать. И охотятся, в основном, только за приезжими.
— А кого ты, собственно, называешь «черножопыми чушками»? А то я тут как-то одного «чушку» недавно наказал действием, он как-то неправильно в кабаке себя вел, а во время наказания так и назвал, так тот вэвопил в обиде: «Зачем черножоп говорышь?! Ты что, мой джоп выдыл?»
— А всех тех, кто ведет себя подобным наглейшим таким образом, тех и называю. Национальность здесь не имеет определяющего значения. Так их называют и цивилизованные представители одной с ними национальности.
— Да они, по моему, все, всегда и везде себя так ведут.
— Нет, не скажи. У нас это уже просто штамп. Потому что на улицах наших городов мы порой с отвращением замечаем именно «черножопых чушек», которые приезжают к нам себя показать, а потому сорят тут деньгами, всюду демонстрируя денежное свое превосходство: «Сдачы нэ надо!». И, вообще просто ведут себя вызывающе. А нормальный человек, к какой бы национальности он ни принадлежал, он ведь никогда не будет выпендриваться и навязывать окружающим особенности своего национального поведения, даже если таковые имеются. Поэтому-то только «черножопых чушек» мы все время и замечаем. А вообще, коренное население столиц Закавказских республик очень многонационально и подавляющую часть этого населения составляют вполне приличные и цивилизованные люди. Это и есть элита этих республик. И у меня осталось там много друзей и хороших знакомых среди именно этих людей. Но там же существует и другая категория, о которой мы собственно и ведем речь. Это что-то вроде нашей так называемой «лимиты». Так ведь у нас порой брезгливо называют рабочий люд, едущий в столицу и крупные областные центры на лимитированные рабочие места. Отличие состоит в том, что наша «лимита» состоит в основном из квалифицированных рабочих, которых на том или ином предприятии по каким-либо причинам не хватает. Заметьте — квалифицированных рабочих! А их «лимита» — это малообразованные, часто не имеющие даже полноценного начального образования, участники нелегального сельскохозяйственного капиталистического движения. У этого нелегального движения есть свои лидеры — за что-то уважаемые в своих кланах люди, которые осуществляют расстановку производительных сил по известной капиталистической цепочке: «Товар — деньги — товар». При расстановке сил кому-то отводится роль почти бесперспективного «ишака», не разгибающегося от зари до зари, производящего товар сельского труженика, кому-то перекупщика-коммивояжера, а кому-то рыночного торговца. Рыночных торговцев лидеры нелегального сельскохозяйственного капиталистического движения отбирают из числа почти бесперспективных сельских тружеников, самых пронырливых и наглых отбирают и делегируют их на рынки столиц национальных республик и далее по всей территории СССР, где удастся перекупщикам-комивояжерам каким-либо образом зацепиться, рассовав взятки, и ускорить клановое обогащение. Перекупщики-коммивояжеры — это второе по значимости, после за что-то уважаемых кукловодов, звено в капиталистической цепочке. Помимо того, что они находятся в постоянном поиске мест «подороже» сбыта сельскохозяйственной своей продукции, они же этот сбыт еще и обеспечивают. Доставляют, так сказать, продукцию свою до мест «подороже» продажи. Даже анекдот про них есть. Анекдот о том, как брали интервью у перекупщика-комивояжера, обезвредившего неудачливого угонщика самолета. «Как вам это удалось? Что подвигло вас на такой подвиг? Преступник ведь был хорошо вооружен! Ну, конечно же, что мы такое у вас, уважаемый, спрашиваем, все очевидно — беззаветная любовь к Отчизне и людям, ее населяющим!» — восторженно вопили журналисты. «Как-как! Что-что! Что ты прыстал мну! В Лэнынгрэд памыдор пьят рублъ стоыт, а Турцый одын рублъ совэтскый дэнъги. А он хотэл в Турцый лэтат! Пыстолэт мэна пугат. Слушый, за четырэ рубэль я родной брат буду пушкой убыт», — приземлил восторженных журналистов прагматичный перекупщик-комивояжер. Анекдот анекдотом, а перекупщик-комивояжер должен был быть хоть как-то образованным и сносно говорить по-русски, быть неплохим психологом и иметь определенный уровень эрудиции, позволяющий ему вступать в необходимые контакты с встречающимися у нас продажными советскими ответственными руководителями, осуществляющими исполнение властных и хозяйственных функций на так называемых местах. А отобранным и делегированным торговцам ничего этого не требуется. Они никогда сильно не перетруждаются, всегда пребывают при приличных, даже не по советским меркам, деньгах. В большинстве своем торговцы эти отчаянно тупы и невежественны. Единственно, чем удается поживиться им в кладовых мировых научных познаний — это правилами арифметического сложения и вычитания. А вот поживиться за счет покупателей они стремятся всегда и везде. Обвесить, обсчитать или же взвесить одно количество предмета торговли, а упаковать другое, меньшее, конечно же. Опять же, бытует такой классический анекдот. Заходят два русских в закавказскую питейную забегаловку. Один из них говорит продавцу в кепке: «Водки. Два раза по сто пятьдесят». Продавец, привыкший к национальной русской краткости в этом вопросе, разливает в два двухсотграммовых стакана по сто пятьдесят грамм национального русского напитка. Второй русский просит у продавца еще один пустой двухсотграммовый стакан и сливает в него трехсотграммовое содержимое первых двух. При этом уровень национального русского напитка в третьем стакане колеблется где-то на уровне ста восьмидесяти грамм. Продавец в кепке с деланным изумлением смотрит на третий стакан и восхищенно говорит, обращаясь ко второму русскому: «Вах, какой фокустнык! Молодэц тэбэ будэт» И все это на фоне абсолютно нулевого образованиия и соответствующего ему неандертальского уровня культуры поведения. Вот эти особи и составляют костяк стаи приматов подвида «черножопых чушек».
— Теперь более или менее понятно, а то мы уже тебя начали в национализме подозревать.
— Ну а коль понятно, то я, с вашего разрешения, продолжу. О поведении приезжих, в недоразумении своем, неразумных наших девок на территории Закавказья.
— Ладно, давай уже, дорасскажи, раз начал. Выговорись, а то ведь не уснешь потом.
— Так вот. Эти ведь, дурочки-то наши, приезжают в это самое Закавказье по путевкам, вроде как на экскурсию в цивилизованную Европу, и поначалу ничего не боятся. Могут, к примеру, запросто зайти в их питейное заведение, куда женщине без сопровождения мужчины вход строго заказан. А чего здесь такого? Пивка же можно в термосок набрать? На пляже же жарко и пить хочется. А для этих «черножопых чушек» немытых это верный сигнал: «Вах, жэнщин! Одзын прышол! Значыт хочыт!» И по их диким половым, очень отличным от советских, законам, ее, незадачливую эту посетительницу, можно тут же, сразу, прямо там же на столе… Столько дрались мы с этой «черножопой» дрянью из-за этих дур, чтобы такого вот «тут же сразу, прямо там же» с ними не произошло. Они, скоты, ведь драться-то толком не умеют. Но перьями помахать любят, особенно издалека. Причем, удивительно — крови боятся просто панически. Как подрежут чуть «черножопого», начинает он тут же визжать как недорезанная с пьяну свинюка, на кровь свою говнючую глядючи: «Вай, мама! Вай, мама!» (с ударением на последнем слоге). Но зато, как случится следующий конфликт, они опять перья свои сраные достают и устрашающе машут ими, опять же, издалека. Достанут так, бывалыча, в запале своего очередного якобы национально-горячего припадка, а что делать с ними — толком не представляют. У них ведь какая излюбленная тактика культивируется? В сутолке начавшейся драки как-нибудь прокрасться к кому-нибудь из противников, желательно сзади, пырнуть его перышком своим и тут же смыться внутрь стаи. Поодиночке они ведь, в большинстве своем, патологические трусы. Но когда собьются в стаю — герои. До первой крови с их стороны. Дальше: «Вай мама!», и в ближайшее время в радиусе километра найти кого-либо из только что грозно галдящей стаи будет уже невозможно. Но кардинально решить вопросы «непокобелимости» наших легкомысленных дамочек, пытающихся отдохнуть в этих краях, пресыщенных «черножопыми чушками», не удается — эти ведь дуры все едут и едут. Опытом между собой не делятся. Поведения свое пытаются поменять лишь тогда, когда назойливый в «черножопости» своей псевдо-джигит переходит к уже к активным действиям. А некоторым отдыхающим дамочкам, профессиональным таким уже курвам, этим все вокруг просто даже нравится. Вернее они за этим туда и приезжают. И, особенно поначалу, нравится очередной курве, когда зависает над ней, под солнцем пляжно раздетой, некое слюнявое чмо, одетое в полный летний прикид. Нависает в белой накрахмаленной рубашке с проступающей из-под нее черной майкой, в черных наглаженных брюках и черных же ботинках с клоунски задранными носами (это у них, у «чушек» этих, такие вот представления о внешней респектабельности). Нависающий похотливо что-то цедит, шаря голодными глазами по полуобнаженному телу, и в нетерпении сглатыват зловонную свою слюну. Из того, что цедит страждущий, порой можно разобрать что-то наподобие: «Девьишка разрешыт одзын раз познакомка сдэлайтъ?» И все, курвочка созрела. Запала с ходу на приматский примитивизм. Ей уже грезится подрагивающий от пламени свечей ресторанный полумрак, роскошный гостиничный номер с большой двухспальной кроватью, фруктами и прохладным шампанским на столе. И долгие-долгие часы «чушкиной» любви. А как же еще? Джигит-то, он ведь богатый. На собственной машине, опять же, ездит. И еще страстный он очень. Не то, что какой-нибудь там замученный и нищий русский. Часок покувыркается и лежит потом полдня без сознания. А джигит — он: «О-го-го!» Вот этим «О-го-го!» все для этих курв и заканчивается. Плеснут им какого-нибудь вина в кафе, ну может еще шашлыком каким угостят, посадят в машину, увезут далеко за город в частную домину и трое суток без перерыва ее «О-го-го!» Причем все друзья и родственники «черножопого» псевдо-джигита будут «О-го-го!» А потом выкинут где-нибудь подальше от места свершения многочисленных «О-го-го!» и добирайся как хочешь. А пока будешь добираться по незнакомой местности, можешь встретить еще очень много всяких «О-го-го!» Да шут бы с ними, с курвами этими. Но ведь эти «черножопые» псевдоджигиты начинают по этим курвам и об остальных судить. Уверены они уже просто, что бабцы наши все абсолютно одинаковые, только на некоторых надо просто побольше потратиться. У них ведь, козлов этих «черножопых», как? Свою же «черножопую» «герлз» до свадьбы трахнуть — это предпосылка для кровной мести. Они же дикие еще. Простыню из-под новобрачных после первой ночи вывешивают в свадебном дворе и приглашают специальных бабок для экспертизы подлинности кровяных выделений, естественных для процесса потери невинности. И если экспертиза чего-то там не одобрит, все — невесту «вертают взад» и начинаются межклановые разборки со смертоубийствами. Поэтому занимаются они до свадьбы или круглосуточным онанизмом, или баранов своих трахают. Что смеетесь? На полном серьезе, имел «удовольствие» общения с некоторыми из «чушек», которые не только не скрывали факты своего зоофилизма, но еще и кичились ими. Пытались описать все в подробностях. Тьфу, сейчас стошнит. Ну, а когда уж наша очередная страждущая «герлз» какая-нибудь припожалует и начнет призывно бедрами поигрывать, все, полный комплекс удовольствий «черножопому чушке» просто гарантирован. Во-первых, никто из оскорбленных родственников «потерпевшей» ему за неумеренное его прелюбодеяние перо в задницу не вставит. Во-вторых, все же другие ощущения, получше, наверное, чем с вонючим бараном будут, чуть подороже, правда, но получше. Примат приматом, но кое-что все же дано ему оценить.
— Ладно, мы все же живем в великой семье братских народов. Свои идиоты есть у всех без исключения наций и народностей, поэтому я считаю, нельзя здесь сгущать краски.
— Да, но степень цивилизованности нации в целом определяется количеством содержащейся в ней погани.
— Да у нас, в братской нашей семье, приблизительно все у всех одинаково.
— Достал ты уже семьей своей. Впрочем, даже если так. В нормальной семье-то ведь — не без уродов. Я-то насмотрелся всего этого за пятнадцать лет и знаю, о чем говорю. А ты, Фома-неверующий, попросись-ка лучше туда послужить после выпуска. Годик всего послужи. А потом мы с тобой встретимся и предметно обо всем поговорим. А по поводу сравнения уровня жизни в странах обитания «черножопых чушек» и в родной нашей средне-русской полосе есть очень образный анекдот. Рассказать?
— Ну давай, не набивай себе цену. Рассказывай, черт нерусский, и будем уже спать.
— Рассказываю. Идут два русских по грузинскому кладбищу и с удивлением читают надгробные надписи: «Вано Мамулашвилли. 29.09.10 г. — 15.11.80 г. Жил 30 лет», «Гиви Гварцетели. 18.05.15 г. — 15.04.81 г. Жил 32 года» и т. д. В удивлении останавливают идущего навстречу грузина: «Послушай, генацвали, мы вроде как основы математики знаем и в жизни кое-что понимаем. Вот объясни нам, пожалуйста, как такое может быть, что у человека от рождения до смерти проходит, например, семьдесят лет. А на памятнике написано: «Жил 30 лет». Грузин отвечает им: «Ви. русскыэ, матэматыка хорош знаэтэ, а в жызн ваабще нычо нэ понымаэтэ. Вот слушай. Вот мама радыл тэбя, в школа ты пошла. Учытэл ругает. Отэц рэмня попа бьет. Какой жызнь? А армий забрали? Туда бэги, здэсь окоп рыть. Какой жызнь? А вот послэ армий мандарын растыл, продал, дом строил, жэна взал, машын купыл. Сыды, вино пэй, баран ешь, машын езды, женщина лубы. Вот эт и ест жызн. Потому толко 30 лэт Вано жызн». Прослушав это объяснение, русские долго идут, полные невеселых раздумий, долго идут молча, Наконец, останавливаются, как по команде, на выходе из кладбища, и один из них говорит другому: «Слушай меня, брат Федор, если я вдруг помру в ближайшее время, ну, во всяком случае, при жизни твоей горемычной, проследи, будь ласка, чтобы на плите моей печальной было начертано: «Николай Пятибратов. 22.12.60 — XX. XX. XX. РОДИЛСЯ МЕРТВЫМ».
— Да, смешно это все и печально. Ну и у нас у самих с головой что-то все-таки, что-то сильно не так. Я где-то во многом могу понять и оправдать неразумность нашего нестандартного поведения, но есть два момента, которые повергают меня в глубокий шок, и я не могу дать им сколько-нибудь разумного объяснения. Вот кто мне объяснит, зачем безногому инвалиду каждый год проходить переосвидетельствование своей инвалидности? Они что там, патологические идиоты? Им не хватает медицинского образования или же простого жизненного опыта, наконец? Что еще нужно, чтобы прийти к пониманию того, что ампутированная конечность за год не вырастает, и не вырастает вообще уже больше никогда! Это ведь не хвост у ящерицы! Ну думаю, может боятся лишних затрат. Инвалид, к примеру, уже помер, а они ему бесплатный протез, вдруг по дури, собирались по какой-то недействующей статье закона изготовить, или пенсию ему по этой же самой инвалидности продлить. Правда слышал я как-то одно объяснение этого безобразнейшего факта: мол мы приглашаем инвалидов не для того, чтобы убедиться, что инвалид не пришил себе ногу, а на общее освидетельствование его здоровья. Но ведь и это не оправдание. К инвалиду вы, сволочи, должны сами хотя бы раз в год прийти здоровыми своими, пока еще, конечностями. Прийти с необходимыми медицинскими приборами и осмотреть его. Убедиться, что жив он еще и относительно здоров, вопреки вашим тайным надеждам, поговорить с ним и пожелать ему доброго здоровья, скользя безумным глазом своим по отсутствующим у него частям. А вдруг все же пришил или само как-то отросло?! И тогда — «Ур-ра!» Нет-нет, не громкая победа нашей медицины и неожиданное инвалидово счастье. Конец еще одной социальной программы для отдельно взятого индивида-инвалида! Хлопотного такого, обременительного такого для социальных наших служб беспокойства. Второй момент связан с нашими жилищными законами. Удивительно циничными. Вот, к примеру, когда вы доказываете, что имеете право на расширение вашего жилищно-жизненного пространства. «У моего многочисленного семейства, говорите вы гордо, на нос приходится всего 5.6 квадратных метров жилой площади, Всего 5,6 квадратных метров жилой площади! У меня большая семья, а жилплощадь маленькая, мне уже негде на ней повернуться!» — вы уже орете на застывшего в бюрократизме своем равнодушного чиновника. Чиновник, никак не реагируя на ваши эмоции, так же равнодушно заглядывает в свод законов и убеждает вас не волноваться так сильно, потому что по закону у вас еще, оказывается, на одну десятую квадратного метра перебор выходит. Что по закону у вас, в наглости своей желающего расширения: «Должно быть 5,5 квадратных метров и ни миллиметра больше. Куда вам больше? Вы, может, в футбол там собрались играть? Или бассейн отгрохать? Неужели нет? Ах, повернуться вам уже негде? По утрам в особенности? Вы уже надоели нам с этим спорным тезисом? Так вы кушайте поменьше и пореже. Уже давно сели на диету? То-то же! Сидите себе и ждите теперь результатов. А то вы все ходите тут и гундите, а потом расходитесь и орете. Вот обратимся сейчас в правоохранительные органы и вырежут из вас эту десятую, утаенную от государства. Куркули неблагодарные!» Ну а вот когда у вас эту злокачественную десятую каким-то образом ампутировали, вернее вы сами у себя что-нибудь на одну десятую ампутировали, прописав очень дальнего и почти забытого уже родственника из Улан-Удэ, тогда ждет вас позитивное такое по сути своей известие. Вам с нескрываемой радостью сообщат, что вас поставили в общую, бесперспективную в безысходности своей, нудную такую очередь. И оказывается, что по нашему самому логичному, самому прозрачному для понимания, ну и, само собой, самому справедливому законодательству в мире, вам полагается не менее, чем 19 квадратных метров на те же ваши сопливые носы для нормального и устойчивого развития вашего многочисленного семейства. Нормального и устойчивого развития — это чтобы, в общем, соплей было у вас меньше. Вам, от насморка больше и не надо. Ну а меньше вам просто никак нельзя. Да нет, не соплей, конечно же, про них речь уже давно завершена, квадратных метров, конечно же. Девятнадцать квадратных метров и все тут. Если меньше — перед мировым сообществом будет стыдно. А вы как думали? Мы, да будет вам известно — развитое социалистическое общество! Какие такие еще 5,5 квадратных метров? Вы где вообще про такое могли услышать? Вы что, изучением жизни насекомых занимаетесь? Орнитолог, наверное. И, наверное, о площади муравьиной кучи нам пытаетесь рассказать? Какие такие птицы? Нет? Где вы вообще взяли эту низменную цифру? А, вы, наверное, только что из Китая приехали? То-то я смотрю, когда вы сюда приходите, глаза у вас все время сужаются как-то. Что, уже двадцатый год приходите? Вот-вот, поэтому-то мы вас и запомнили уже! Что-что? Уже внуки у вас выросли? От всей души поздравляем вас! Не каждый у нас в многомиллионной стране нашей до внуков доживает! Очень за вас рады и до свидания, в следующем году заходите, будем вам опять рады! Может что-то и обломится вам. Перепадет, может, что-нибудь. И родственнику вашему тоже, может, перепадет. Как какому родственнику? Вы что, забыли? Из этого самого, как его там, Ханты-Манси. Тьфу! Нет, чувствую, что как-то по-другому раньше звучало. А, вспомнила, наконец, название какое-то кудряво-неприличное, извините, пожалуйста, — Улан-Мундэ. Вспомнили теперь? Мы за вас рады. До скорого свидания. Будьте же вы всегда здоровы. И внуки ваши тож. Заходите, как договаривались. Только не раньше. Но особо ни на что не надейтесь. И так уже на нас не надеетесь? Ничего не поделаешь, не все в нашей власти. Стараемся мы тут все как только можем, нам ведь тоже перед вами уже не совсем удобно. Двадцать лет все-таки, как-никак, минуло.
— Да ну их всех в жопу, мудаков этих, мужики, не будем под утро о грустном. Давайте спать. Мы должны с вами быть лучше. Исправить хотя бы что-нибудь. С наступающим рассветом вас. Хыр-пуф, пыр-пуф, дыр-пуф и т. д. и т. п., весь оставшийся час.
Вот такими были эти ночные диалоги. Конечно же, было их неизмеримо больше и происходили они гораздо чаще и на более разнообразные темы. Но всего не описать, можно лишь только выдернуть из памяти и описать наиболее понравившиеся фрагменты. А те, на которых сознание вдруг улетело на прогулку по близлежащим крышам, наверное, все же были менее интересными. И поэтому недостойными вашего и так уже утомленного внимания. Доброго вам остатка уходящей ночи!
Военные свадьбы
Вот и подкатились обучаемые наши военные под самый выпуск из «альма» своих «матерей». Это потом поймут они, что на самом деле никаких таких выпусков, попросту в родной природе не существует. Поймут, что реально существует только один большой, все поглощающий такой во всасывательности своей, «впуск». «Впуск» сначала турбулентно продавливает общую массу парадно настроенных и соответствующе одетых военных в узкое фильтрующее горлышко воронки распределения по местам их будущей ратной службы, а затем под высоким давлением всасывающе распыляет военных по одной шестой части суши планеты их обитания. Распыление происходит очень неравномерно и сопровождается звуками принудительно открываемых и автоматически закрываемых впускных клапанов. «Чпок!» — открывается клапан, зарегистрировав чувствительный контакт с наряженным в парадную форму телом военного. «Хлюп!» — фиксирует закрытие клапан, зарегистрировав окончание проскальзывания облаченного в обедненный еще пока медалями и орденами мундир туловища военного в еще более сложный военный организм. Организм, состоящий из великого множества представителей «хомо милитер», борющихся за выживание в пределах выделенного им ареала обитания.
«Почему все сложно-то так опять, — недовольно спросит терпеливый читатель, — турбулентность опять какая-то, фиксирующе-впускающие клапана?! Какое-то уж очень абстрактное представление довольно простых событий. Ну, подумаешь — выпуск-впуск. Ну, построили всех, как всегда, без этого у военных никак обойтись нельзя, это я давно уже понял. Вручили дипломы, выдали предписания с указаниями Родины о том, когда и куда все-таки надо будет съездить и где в ближайшее десятилетие придется весело, по молодому так, провести некоторое время. Потом в кабак, обмывать новые военные погоны со звездочками и первые общесоюзные дипломы тоже, вроде как, обмыть надо бы. А на следующий день в дальнюю дорогу, согласно, так сказать, полученным от Родины предписаниям».
Да нет же, уважаемый читатель. Внешне, со стороны значит, может это и выглядит так просто. Но на самом деле, даже не вдаваясь в перипетии борьбы за лучшее распределение, выпуск-впуск — дело далеко не простое. В качестве примера вспоминается такой вот военно-народный анекдот.
Выпускается-впускается очередной военный и едет согласно предписанию к новому месту службы. Сначала долго летит на самолете. Затем некоторое время трясется в поезде, угнетаемый приставухами-выпивохами, по иностранному выражаясь — а-ля: «Я тоже когда-то и где-то служил!» и, наконец, пересаживается в оленью упряжку, доставившую его на ближайшую, поросшую травой, вертолетную площадку. Долго вибрирует на десантной металлической лавочке военного вертолета и, наконец, команда улыбающегося штурмана: «С Богом, лейтенант! Пошел!» Лейтенант с удивлением глядит из открытого вертолетного люка на замершую в испуге далеко внизу землю: «Так здесь же метров сто будет!» Досадливо поморщившись, экипаж вертолета героически осуществляет мужественное снижение до пятидесяти метров. «Да высоко же еще, разобьюся вусмерть и помру молодым!» — пытается шутить лейтенант. Лица экипажа перекашивает уже достаточно злобная гримаса, но он, героический экипаж винтокрылого прохвоста, пересиливая себя, осуществляет еще одно подснижение, на этот раз до тридцати метров. Лейтенант опять смотрит вниз и возмущается: «Все равно высоко! Вы что такое, садюги, удумали?!» К возмущенному лейтенанту вновь подходит штурман и заискивающе произносит: «Извини лейтенант, ниже не можем. Еще метр вниз и оттуда, снизу значит, начнут в нетерпении своем запрыгивать. Причем все сразу начнут запрыгивать. И стар, и млад. Погубят ведь только краснозвездную машину. И нас заодно. В клочья разорвут. Так что давай, сынок, не ерепенься и выручай. А как приземлишься — не подводи. Не болей после этого долго. Всего-то тридцать каких-то метров. Если бы километров — тогда бы да, значительно труднее было бы. А метры — пустяки это все. Двадцать девять метров как-нибудь пролетишь, а там уже всего-то один до земли останется. Ты что, лейтенант, в детстве никогда с табуретки не прыгал? Фигня все это. Ну давай, бывай здоров, что ли, уважаемый ты уже нами, и дорогой ты нам уже такой военный». Договорив, штурман осуществляет аварийно-принудительный сброс слабо протестующего военного тела на засугробленный пятачок его ближайшей судьбы. Тренированное тело военного без видимых повреждений радостно принимается глубокими снегами давно забытого в высоких кругах близлежащего (каких-то триста верст-то всего!) райцентра — приснопамятного города Безнадежнинска. Милого такого участочка земной нашей поверхности, с благодарностью приютившего защищающих его военных. Все, клапан закрывается: «Хлюп!» И военный пока еще даже не догадывается, нет, он даже еще и не задумывается о том, как трудно его будет открыть обратно, если вдруг очень захочется ему послужить где-нибудь еще. Или, к примеру, в академии какой-нибудь чему-нибудь поучиться. Не задумывается еще военный о том, что какие тогда заветные слова надо будет произнести в специальные отверстия, предусмотренные в его металлически-беспристрастном, клапанно-недоступном теле. А кое-что туда еще и опустить. Поэтому, не задумывающийся об этих глубоких вещах военный до сих пор пребывает в восторге. Да здравствует начало! Да здравствует счастливый впуск!
А вы говорите просто все. Может где-то там, за забором, в простой такой «гражданской» жизни все действительно просто. Может и так. Но мы же стремимся постичь мир военных и должны избегать всяческих упрощений.
Так вот, попытаемся перейти от военно-анекдотической правды к действительно военной реальности. Перейти, преодолев в турбулентности своей все воронки-фильтры и гулко вывалившись, наконец, с выхода впускного клапана. Что же слышит при этом обычно военный? Как правило, одно и то же: «Добро пожаловать к нам послужить, товарищ военный! Какие у вас существуют потребности? Что-что? Небольшую квартирку?! Может вам еще и фонтанчик с минеральной водой в гостиную провести? А бидэ? Не желаете ли? Попку чтоб геморройную вечерами можно было промыть? Не надо бидэ? Не обзавелись еще геморроем-то? Вот что-что, а геморрой мы вам уверенно гарантируем! Буквально можем прямо сейчас же договориться о том, что не далее как с завтрашнего дня…! Что-что? Мы сами первыми спросили про ваши потребности? Ну это мы же из вежливости так поинтересовались, для этикету, так сказать, а вас сразу понесло. Скромнее же надо быть, а вы ведь, подлец эдакий, стремитесь сразу не с того свою офицерскую службу начать! Какие-то непомерные совсем требования так вот нескромно и вдруг выдвигаете! Вы еще ничего на этом свете не заслужили! Не достойны вы вообще еще ничего! Наглец! В общагу! Четвертым впущенным военным в мухами обосранную комнату! И напротив аварийного туалета! Постоянно чтоб аварийного!»
Зная про такие внешне горячие и прохладные по содержанию приемы, отдельные, считающие себя очень хитрыми, военные перед самым что ни на есть впуском шли на различные уловки и ухищрения и, в конце концов, много о чем передумав, жертвовали своей свободой и банально так женились. Удачно или же нет — это уже другой вопрос. Успешность или провал этого удручающего мероприятия для свободо-соскучавшихся душ военных станет очевидным в не таком уж и далеком для них последствии. А сейчас, осуществив формальный акт гражданского своего бракосочетания и даже успев стать отцами того, что все-таки из брака этого получилось (хорошее дело ведь браком не назовут), военные приобретали некоторую уверенность в активном созерцании грядущих перспектив дальнейшей, непрерывно беспокойной своей жизни. Создав свою небольшую такую, но уже изначально хлопотную ячейку военно-советского общества военные получали шанс воспользоваться старым военным трюком. Удачное завершение наихитрейшего в своем артистизме трюка гарантировало военному, а так же прилипшей к нему семье, получение отдельного жилья в неких пропаще-дальних военных гарнизонах.
Гарнизонах, пусть даже весьма и весьма удаленных от крупных областных центров, но все равно пользующихся, пусть не особой, но все же популярностью у алчных до жилой площади постоянных обитателей тамошних диких, и не совершенных в дикости своей мест. При этом в зависимости от степени демонстрируемой артистичности получение заветного кусочка мнимой военно-гарнизонной автономности могло состояться в максимально короткие сроки. А самые развитые в артистичности своей военные умудрялись отхватить этот кусочек почти мгновенно — практически в день представления самому главному на охраняемом участке суши военноначальствующему. Представления по поводу такого эпизодического, как оказалось в последствии, и далеко не эпизодического для него в сей момент события, такого как собственное, первое свое и поэтому-то и значимое для военного прибытие к новому месту службы.
А в чем состоял все-таки этот незамысловатый, но проверенный временем трюк? Впрочем, незамысловатым он казался только внешне, после того, как длительная его подготовка плодотворно завершалась. А подготовка заключалась в тщательном подборе дополнительных действующих лиц и специальной артистической подготовке всей труппы трюкачей в целом. Кроме того, в ходе подготовки осуществлялась и некая производственная деятельность, изготовлялись, например, фрагменты специальных военно-гарнизонных декораций и различные правдоподобно-бутафорские предметы военно-переселенческой действительности.
Проделав кропотливую такую режиссерско-производственную работу, военный появляется в районе будущего места службы во главе навьюченного чемоданами торговой марки «Мечта оккупанта» полуцыганского каравана-табора. Караван-табор, помимо самого несгибаемого военного, состоял из едва держащейся на ногах от усталости жены военного и двух седовласых старушек, шаркающих согнутыми в коленках ногами по неровностям гарнизонного асфальта и тщетно стремящихся выпрямить согбенные поклажей спины. Одна из старушек вела за руку золотушного, исполненного очей пятигодовалого мальчика, так же, по-старушечьи, сгибающегося под тяжестью громоздящегося у него за спиной непомерных размеров рюкзака. На шее военного восседало плаксивое его чадо, периодически оглашающее строгие военные окрестности истошными в капризности своей криками: «Папа, кусять!», «Папа, пить!» При этом чадо иступлено тянуло в мольбе свои синенькие ручки, обращаясь к равнодушным к его сюесекундным страданиям, неумолимым в вечности своей, небесам. Оказавшись в непосредственной близости от своего нового высоковоенноначальствующего, военный должен был резко опустить на асфальт бутафорские свои чемоданы и сорвать с шеи надоедливое свое чадо, заботливо усаживая его на один из предметов мечтания каждого уважающего себя оккупанта. Далее военный должен был перейти, как положено, за пять-шесть шагов до начала носков сапог высоковоенноначальствующего на противоестественный для всего остального человечества строевой шаг. Затем разом вдруг замереть в диком испуге за положенных по военному этикету, два-три метра до несокрушимо в терпеливом ожидании стоящего высоко военноначальствующего. Испуганно-дико замерев, военный должен был подчеркнуто радостно, торжественно так сообщить высоко военноначальствующему о своем благополучном прибытии и готовности к продолжению нелегкой ратной службы.
Высоковоенноначальствующий коротко благодарил военного за то, что тот не погнушался-таки и нашел время, не пожалел, так сказать, сил и здоровья на долгожданное (им лично долгожданное) посещение сих народно-любимых и общепризнано природно-привлекательных мест. Закончив свое предельно вежливое в официальности своей слово, высоковоенноначальствующий обычно приступал к детальному, но пока еще дистанционному осмотру каравана-табора предельно навьюченных и внешне-бедствующих в цыганстве своем среднероссийских бедуинов. На слегка потеплевшем каменном выражении морды его мужественно-военного лица оттенком начинало проступать скрытое удивление. Оттенок довольно скоро подкрадывался к границе с непривычным для высоко военноначальствующего состоянием безнадежного в сопереживании своем отчаяния.
Он вдруг приступал к поспешному и явно оправдательному монологу о ненарочитой своей непредусмотрительности, о недогляде своем за нерадивостью внешне отзывчивой на его просьбы кадровой службы, под началом его состоящей и сообщившей ему заведомо недостоверные данные о составе, численности и проблемности прилепившегося к скорбящему в стойкости своей военному разновозрастного такого семейства. Что он, мол, как истинный отец-командир, задолго распорядился о подготовке для прибывающего семейства аж целой комнатищи в громадном таком общежитьище демократическо-смешанного типа. Большущей такой комнаты. Ну, если уж опуститься до того, что в прозаических каких-то метрах квадратных мерить, то уж ни как не меньше восьми будет. Меньше никак не получиться. Вы что, смеетесь? Ну как же, он же, ведь хоть сегодня и действительно довольно высоко уже военноначальствующий, но ведь тоже молодым был когда-то и все об молодых этих когда-то, да и теперь тоже, до сих пор еще что-нибудь да как-нибудь об них, об молодых значит, но все об них знает и все устремления их тоже понимает. А вообще, отговорки это все — все очень даже хорошо еще он понимает. Путано объясняется высоко уже военноначальствующий, но смысл вполне понятен, в общем — не со зла он.
Казалось бы, все учел он, обогащенный годами нажитой мудрости. Есть, правда, в общежитии еще в этом отдельные неудобства архитектурно-планировочного такого характера Ну, например, туалет в коридоре, один на всех туалет. И тоже смешанного типа. Для обеих полов, значит, смешанный. Но ничего, быстрое посещение его с предварительным вывешиванием табличек «М» (мадамский, значит) и «Ж» (означает жентельментский) до сих пор позволяло избегать возможных ложно-стыдливых казусов. Так что для начала условия создавались вполне приемлемые. Что-что? А вы фильм «Офицеры» смотрели? То-то же. Ну, а учитывая вновь открывшиеся, все отягчающие и усугубляющие все обстоятельства — капризно-золотушные дети и староватые уже такие родители, что-нибудь будем сейчас решать.
Тем временем любопытствующее чадо устает сидеть на оккупантском вожделении и, воспользовавшись временной бесконтрольностью, незаметно подкрадывается к высоко военноначальствующему и, бесцеремонно нарушая всяческую субординацию, треплет его за военную штанину:
— Дядь, а дядь, а ты командил?
— Да вроде как да, — смущенно улыбается высоко военноначальствующий.
— А я стисок пло тебя знаю, — заявляет юное дарование военного и добавляет с гордостью, — меня папа учил, ласказать?
— Да нет, давай-ка, молокосос, в следующий раз как-нибудь, на новогодней елке, не мешай военноначальствующему дяде, — вмешивается внезапно чем-то обеспокоенный военный.
— Да пусть расскажет, нельзя же сдерживать творческие проявления юных таких дарований, из обыденности нашей прорастающих, — одобрительно-поощряющее кивает высоко военноначальствующий, — у меня вон внучка тоже уже начала стихи сочинять. Давай, хлопчик, валяй стихи про командира. Папа, наверное, научил, а он ведь плохому-то никогда не научит.
— Командил полка, нос до потока, уски до двелей, а сам — как мулавей! — радостно декламирует дарование и с удивлением смотрит на окаменевшее лицо военного папы.
— Хороший стишок, — озадаченно крякает высоко военноначальствующий, — правду, видать, говорят, что устами младенца глаголит истина. Но я, сынок, не такой командир. Это тебе папа про другого командира стишок рассказывал. Во всяком случае, нос у меня не до потолка (щекотливый вопрос о возможности муравьиного своего авторитета он тут явно пытается обойти).
Демонстрируя лояльность и ничем неприкрытый, неподдельный демократизм, высоковоенноначальствующий, наконец, вплотную приближается к оторопевшему в сложившейся неловкости каравану-табору и уточняет у военного:
— Так, это, значит, мама ваша? Вижу. вы на нее очень похожи.
— Да, да, — подтверждает истинность начальствующей прозорливости едва пришедший в себя военный.
— А это что за старушенция такая страшная, да еще с каким-то синюшным мальчиком? — вдруг громким шепотом спрашивает высоковоенноначальствующий, низко склонившись к уху военного. — Ну вылитая Баба-яга, да еще с цыганским оттенком!
— Да тещенька дорогая моя увязалась, прости Господи! Житья, говорит, со старшим зятем-пропойцей нет, и мальчика, внука своего значит, тоже прихватила, — скорбно вещает военный. — Ну а какие дети-то у алкоголиков-то у этих? Такие и есть — синюшно-золотушные.
— Начальник, не ругай, — вдруг, стремительно сбросив поклажу, вклинивается между военным и высоковоенноначальствующим страшноватенькая в своем бабо-ягизме теща военного, — муж старшой доченьки моей пьеть, подлец, не просыхая, и женушку свою бьеть смертным боем. Забрала мальца, чтоб не видел безъуправства-то такого и непотребности этой. А где ж спасения-то еще искать, как не у военных-то, не у защитников-то наших разлюбезных.
Высоковоенноначальствующий еще больше начинает проникаться безвыходностью состояния горячо желающего служить военного и произносит что-то вроде того, что: «Вы здесь немножечко постойте. Не уходите никуда, не делайте скоропалительных выводов. Мы сейчас с политическим моим помощником потолкуем, может по сусекам там чего-нибудь… В общем, будет видно. Может что-нибудь и придумаем». И, в даже в поспешности своей все равно степенно, значительно так удаляется. Видимо, в поисках того-самого, всуе упомянутого, политического помощника, но, видать, тоже высоко политиконачальствующего над всеми политическими помощниками в данной местности обитающими.
Спустя минут эдак тридцать к лагерю, разбитому участниками караванного-таборного движения, подъезжает черно-блестящий, вместительный такой автомобильчик, водитель которого радостно приглашает всех вовнутрь этого черно-блестящего как-нибудь поместиться. Смелее, мол, на все имеются высоковоенноначальствующие указания.
Галдящее цыганское семейство с некоторыми сложностями, но в конце-концов, удачно размещается внутри самого комфортного представителя советского автопрома и пылит в неизведанное, обозревая скучновато-однообразные военно-гарнизонные окрестности. «Ничего-ничего, успокаивает всех сам было взгрустнувший, военный, мы ведь сюда с вами, дорогие мои, не веселиться приехали, а служить! Веселиться теперь будем раз в год: в отпуске пребывая. А чаще и не надо — баловство это».
Наконец комфортный и черно-блестящий плавно останавливается у подъезда типового пятиэтажного дома, незаслуженно именуемого в народе «хрущобой». У дверей подъезда в величавой позе стоит представительный такой военный, поигрывая какими-то ключами, и приветливо, по-отечески так, широко улыбается. «Высоко политиконачальствующий!» — озаряет военного, и он уже готов сорваться на противоестественный для всего остального человечества шаг, но натыкается на упреждающий жест высоко политиконачальствующего.
Мол, не надо этого, сынок, нам, политиконачальствующим эти сугубо военные штучки самим надоели до смерти. Мы же инженеры человеческих душ, и формализм нам совсем не свойственен. Наша задача — помочь становлению молодых военных и укреплению их семейных уз — цементированию, так сказать, ячейки социалистического общества. И поэтому он, высокополитиконачальствующий, находится сейчас здесь. Целый сам здесь. Мог бы, конечно, прислать кого-нибудь помельче. Но нет, пришел сам, лично вникнуть в нужды военного и вручить ему ключи от двухкомнатной квартиры. Маловато, конечно, для такого-то табора. Но на первое время хватит. Ну а, если военный будет очень хорошо служить и демографически поддерживать свое государство, глядишь, через годок-другой можно будет переехать в трех-, а то и в четырехкомнатную квартиру. Их, четырехкомнатных, правда, очень мало строят, но найти и предоставить можно. Если очень сильно захотеть. Так что служить надо, товарищ военный изо всех своих сил, служить и размножаться. А сейчас ему, политиконачальствующему, необходимо срочно уйти. У него ведь сотни таких опекаемых военных. Ко всем надо поспеть с политически грамотным советом. Да, а сыну этому тещиному, этому драчливому пропойце, может надо помощь оказать какую, забрать его, к примеру, в те же военные? Здесь же лучшее в стране лечебно-трудовое предприятие. Знаете, что это такое? В народе его «ЛТП» называют. Нет, не надо, значит? Ну ладно, пусть сами разбираются и если надумают — добро пожаловать. Водки здесь не продают, а работы навалом. Ну ладно, счастливо тогда вам здесь оставаться, товарищ военный. Вот вам ключи. Квартира № 45, на третьем этаже. Может помочь вам вещи занести? Да нет, не сам я, конечно же, буду баулы ваши неподъемные таскать, вызовем сейчас бойцов непобедимой Красной армии. Нет? Ну, раз так категорично… Размещайтесь тогда себе на здоровье. Да ладно вам, не стоит вовсе, работа у нас такая.
На этой пафосной ноте высокополитиконачальствующий уходит, оставив военного наедине со своими проблемами. А военному, уставшему в своем артизтизме, ведь только этого и было надо. Чтобы оставили его, наконец-то, в покое, вместе с семейством его многочисленным. В отдельной, теперь своей уже, двухкомнатной квартире. Да еще не на первом и не на последнем этажах. Маловата, правда, квартирка для такого семейства. Но час от часу становится легче. Еще при заносе вещей куда-то подевалась «теща» с золотушным своим «внуком», видимо неожиданно отбыли на воды, куда-нибудь в район города Железноводска. Что же, абсолютно верное решение — за здоровьем за своим драгоценным необходимо следить постоянно, не запускать болячки свои золотушные и принимать решения о необходимости лечения своего очень быстро. Мгновенно просто. Видимо так и сделали. Только чемоданы свои почему-то забыли. И рюкзак тоже вон в углу лежит. А-а-а, так они же и чемоданы и рюкзак почему-то ватой набиты! Действительно, зачем им в Железноводске столько ваты? Вообще-то пригодилась бы. Водичка в этом лечебном городишке зело борзая, а памперсов тогда ведь не было еще в стране советской. Поэтому конфуз с отдыхающими мог случиться в любую секунду. Но пленились «теща» с золотушным своим «внуком» и оставили все ватное хозяйство, видимо, захотелось им совсем уж, значитца, налегке попутешествовать. Ну что же, по перышку им для легкости в известное всем место.
А через недельку, немного погостив и оказав первую помощь бытового характера, уезжает и мама хитрого в артистичности своей военного. И оставляет сына с семьей одиноко ютиться в недрах вожделенной хрущебы. Но, точности ради, необходимо отметить, что ютиться военному в этой квартире будет абсолютно некогда. Он будет теперь приходить туда только для того, чтобы хоть немного поспать. И далеко не каждую ночь приходить он будет. Зато спокоен военный теперь за молодую семью свою. А когда военный за молодую семью свою спокоен, зело рьяно он спокойствие это будет службой ратной своей оберегать.
Вот такие вот трюки проделывали порой особо хитрые военные. А что делать? Ведь даже в те социально благополучные времена девиз: «Хочешь жить — умей вертеться!» не был лишен актуальности, да, по-видимому, и не будет лишен ее никогда и ни при какой общественно-экономической формации.
А что же менее артистичные в хитрости своей семейные военные? Они со временем тоже чего-нибудь подобного добивались. А покуда добивались, ютились в общежитиях смешанного типа, где проживали и военные семьи, и военные холостяки, и военные «холостячки». А военный гарнизон, к примеру, мог состоять из пяти военных частей. А это, смешанного типа общежитие является, к тому же, еще и общим для всех этих пяти воинских формирований. А в этих доблестных формированиях в различное, для всех пяти, время проводятся шумные тревоги и учения. (Правда, бывают еще и общегарнизонные скачки и прыжки, но это все ведь только плюсуется к и без того частым беспокойствам. Ну, по крайней мере — никак не минусуется!) Ведь что такое тревоги? Это грохочущие в ночи сапоги посыльных, тревожные стуки в каждую дверь общежития и озабоченные сообщения: «Товарищ военный, тревога!» Души военных начинают тревожно трепетать. А далее рев строящихся на морозе в колонны боевых машин и, перекрывающие этот рев матюги командиров. Но это ненадолго. Очень скоро наступает оглушительная лесная (лесо-степная, степная, пустынная и т. д.) гарнизонная тишина. Пока все. Одни уехали. Но чуткий сон младенца даже не «растревоженного» на сегодня военного нарушен, и очередная бессонная ночь самому военному и дражайшей его половине на сегодня точно уже гарантирована. А завтра по тревоге поднимут уже и этого, не выспавшегося накануне военного. Обычное дело. Служба дни и ночи.
А столько там, в смешанных общагах этих, всего разного и интересного насмотрелись семейные военные! Больше даже не они сами, военных уже тогда было трудно чем-либо удивить. В процесс познания нового в многообразии жизненных проявлений и однообразии повадок «хомо милитер» и других, окружающих их особей, были включены жены и даже дети семейных военных! Но это уже совсем другие истории. Бог даст, как говорится, коснемся этой темы более углубленно в следующих своих книжонках. (Да-да, читатель, и даже не смейте протестовать — вы, зная уже, о чем в них, в будущих (дай Бог!) книжонках этих, пойдет речь. Вы ведь можете их просто и протестно так, полностью проигнорировать и не покупать. Или можете купить и сжечь их в ярости. Это — как вам будет угодно. Но сначала, лучше все же было бы купить. Иначе нечего будет сжигать. Это — как вам заблагорассудится. В конце-концов — решение будет за вами. У нас ведь сейчас суверенная демократия на дворе потрескивает. И рыночно-криминальная экономика уже давно вовсю и всем правит).
Ну да ладно, отвлекли нас в очередной раз эти военные очередными своими артистическими хитростями. А как же военные свадьбы? Да свадьбы, как свадьбы. Шумные, многолюдные и веселые. С похищением туфель у невест и, самих невест тоже. С африканскими быстрыми танцами. И медленными танцами под модных тогда эстрадствующих итальянцев — от Челентано до этих, как их там, забылось уже многое. Ну в общем, она такая вся из себя большая такая и очень, при этом, симпатичная, а он маленький такой совсем, но тоже очень симпатичный.
Вообще, это сейчас уже не так уж важно, как казалось когда-то. Самое главное, что весело было на свадьбах этих. Ничто не могло омрачить их. Даже периодически случающиеся во время этих свадеб драки с подозрительными гражданскими лицами (а как же на русской, да еще военной свадьбе можно обойтись без хорошей, доброй такой драки? Да еще и с какими-нибудь гражданскими сволочами, пытающимися на халяву примазаться к строгой военной среде, а ля: «слышь, военный, я тоже когда-то и где-то служил»?), не могли нарушить всеобщего военного веселья. Этого веселья не могло нарушить даже то, что иногда присутствуя на своей собственной свадьбе, военный находился одновременно в состоянии грубейшего «самохода». Ну не отпустил его какой-нибудь военноначальствующий на собственную свадьбу из-за неудовлетворительной оценки за какой-нибудь коллоквиум или еще за что. Очень мудро, кстати, поступал, наверное, этот строгий военноначальствующий — на свадьбу надо приходить кристально чистым, но не всегда получалось это у пожелавших вдруг пожениться военных. А желающих «вдруг пожениться» военных к концу обучения стало подозрительно много. Обуяла военных неутолимая жажда повеселиться. Даже когда некоторые родители желающих «вдруг пожениться» военных не соглашались с выбором их дражайших половин и не отказывались участвовать во всеобщем веселье, военные сливали воедино свои скудные средства и все равно веселились до зари. И пусть на столах под конец празднования не оставалось даже обычной для того времени ржавой селедки — не в жратве, ведь состояла для военных радость бытия, а в их тогдашней молодости. Молодости, переполненной самыми дерзновенными надеждами и нереальными (как показала дальнейшая военная жизнь) мечтами.
Справедливости ради надо отметить, что, как выяснилось позже, правыми оказались, в большинстве своем, эти закостенелые в своем консерватизме родители упрямствующих и жаждущих веселья военных. Недолговечными оказались, в большинстве своем, эти скороспелые браки супротив родительской воли. Но бывали и счастливые исключения.
А на ком же все-таки женились военные? Далеко не всегда на всех, кто под руку им, или же еще под что-нибудь когда-либо им попадался. Не всегда на ком попадя женились они. Хотя всякая «гражданская сволочь», постоянно терпящая неудачи в конкурентной борьбе за женское постоянство, часто за глаза называла военных «санитарами города». Врали, конечно же, безбожно эти жалкие сволочи в импотентной своей беспомощности. Справедливости ради необходимо отметить, что на первых годах обучения военные действительно особенной разборчивостью не отличались, но затем, немного успокоившись и набравшись специфического опыта, приступили они к тщательной фильтрации наличествующего на рынке невест города на Неве женско-человеческого материала.
Результаты исследования-фильтрации рынка невест говорили не в пользу коренных (ну хотя бы в третьем поколении) жительниц города на Неве.
Во-первых, очень мало среди них было особей действительно привлекательных (да простят меня коренные «петербурженки», но это факт или очень близко к факту — слитые воедино мнения большого количества далеко не глупых и разбирающихся в женских прелестях военных). Чем это было вызвано — влиянием ли неблагоприятного климата или генно-разрушительными последствиями блокады города в годы войны или же и тем и другим сразу, остается до сих пор неисследованным. Некоторые из особо грубоватых военных называли коренных представительниц женского пола не иначе как «невскими аллигаторами».
Во-вторых, были эти коренные, в большинстве своем, излишне капризны и весьма жеманны — те немногие из военных, кто решался сделать предложение внешне лучшим представительницам коренного населения, выслушивали, как правило, очень много встречных предложений. Предложения формулировались в виде дополнительных условий, к примеру, таких как: «Ты должен остаться служить в Ленинграде», «Дальше Москвы я не поеду», «Куда угодно, но через три года мы должны вернуться с приличными деньгами и на машине» и т. п. Очень немногие военные могли дать такие гарантии. А те, кто все же их давал, пусть даже в необязательной устно-шутливой форме, сильно потом об этом жалели.
В-третьих, были местно-коренные дамочки всегда очень сильно напряжены относительно своей ленинградской прописки. Был у них такой извечный комплекс, разрушивший довольно много истинных человеческих чувств. Большинству из них казалось, что ухаживающие за ними военные просто спят и видят себя прописанными в пределах бывшей столицы Российской империи. Нет, существовали, конечно же, особо прагматичные военные, которые именно о прописке этой только-то и мечтали, изображая пылкую любовь к какой-нибудь ломкой и прозрачной в бледной синеве своей коренной «петербурженке». А как же дальше без истинного и глубокого такого чувства? Но прагматики есть прагматики:
— Брак по расчету тоже может быть счастливым, — говорили они и добавляли с самоуверенной ухмылкой, — ежели расчет у нас окажется правильным. А уж чему-чему, а правильному расчету нас научили».
Но, в большинстве своем, пресытились военные питерскими красотами и давно уже мечтали сменить климат и обстановку, начав новую, полную перспектив жизнь в местах еще более романтичных, и часто повторяли старое военное изречение: «Дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут!» Кроме того, давно уже надоела военным некоторая специфически питерская кичливость. Непонятно было, например, почему часто грязный, загаженный и исписанный всяческими непотребными словами общий вход в некое хрущобоподобное жилище назывался вдруг парадным (?!). И почему простой в восхитительности своей советский батон назывался в Питере какой-то булкой? И многое-многое другое тоже было непонятно.
Непонятно было военным и то, чем вызвано извечное питерское бурчание по поводу того, что военный присел на пассажирское сидение в полупустом троллейбусе? Нет, понятно, когда троллейбус переполнен и некоторым пожилым дамам вдруг не хватило сидячего места. В этом случае, большинство военных сразу вежливо вставало и пропускало этих уставших от жизни дам на освобожденное без всяких напоминаний место. Хотя большинство представителей гражданского населения часто подобным образом не поступало, но никто на этих представителей никогда почему-то не бурчал. Даже анекдот по этому поводу имел хождение в питерском народе. Суть анекдота состояла в следующем.
Заходит как-то некая стареющая в остатках своей модности, эдакая такая вычурно-коренная «петербурженка» в переполненный троллейбус. Свободных сидячих мест, естественно, нет. Она стоит, некоторое время придерживаясь за поручень и меча возмущенные взгляды на покачивающиеся над пассажирскими сидениями озабоченные мужские головы, погруженные в различного вида «чтиво» и, наконец, с гневной дрожью в голосе громко произносит: «Неужели в этом троллейбусе нет ни одного джентльмена?!» Один из мужичков выныривает из «чтива» и с удивлением смотрит на возмущенно-вопрошавшую. «Да нет, мадам, джентельментов тут видимо-невидимо, — флегматично произносит наконец удивленный мужичок, — просто местов на всех не хватает».
Вот так. Вот такая народно-транспортная и типично питерская зарисовка. Вот такая вот полуанекдотичная быль о транспортном поведении гражданских «джентельментов». Но шипели всегда почему-то только на военных. Видимо, потому и шипели, что в отношении военных делать это было очень даже безопасно. Безопасно потому, что военные всегда всеми силами пытались уйти от подобного рода конфликтов. Берегли, так сказать, честь своего незапятнанного еще мундира.
А некоторым питерским «транспортным» хамам, из числа гражданского населения, беречь было нечего. И, порой, интересно было наблюдать очень похожие друг на друга сцены, в усредненном варианте состоящие приблизительно в следующем.
Заходит, к примеру, в трамвай утонченная, в своей внешней интеллигентности, истая такая «петербурженка» и подчеркнуто вежливо так просит подвинуться некого восседающего скраю гражданина к окну. Подвинуться так слегка и освободить ей, даме, значит, место скраю двухместного пассажирского сидения. И далее происходит между вошедшей дамой и сидящим с краю гражданином приблизительно такой диалог.
— Делать мне больше не хрен. Пролезай к окну сама и не выеживайся здеся.
— Как-как вы изволили выразиться?! Что это вы себе такое позволяете?! — возмущенно было вскрикивает, судорожно, по рыбьи так, кислородно так голодно, хватает воздух истонченным в породистости своей горлом, истая «петербурженка», но, видимо, вспомнив про врожденный ген интеллигентности, постепенно берет себя в руки, несколько успокаивается и добавляет ровным металлическим голосом: — Потрудитесь-ка, достопочтимый сударь, все же выбирать выражения при общении с дамами. Неужели вам так трудно подвинуться? Неужели это вас так существенно затруднит?!
— Да пошла ты, дура, на хрен, «дама» тут нашлась, — возмущенно откидывается на спинку сидения «достопочтимый сударь», а по совместительству вполне обычный питерский «трамвайный» хам, — я тут, да будет известно тебе, зараза противная, давно уже здесь сижу, место уже себе тут пригрел, а она теперь является, лахудра помойная, и пищит своим противным голоском: «Пи-пи-пи. Будьте любезны — подвиньтесь!» Я тебе сейчас так любезно про меж глаз подвинусь, змеюка ты подколодная, ведьма чертова, в форточку сейчас у меня на метле своей вылетишь!
— Что, что?! Да вы хам и, вероятно, еще и большой подлец! — дрожит утонченный голос возмущенной мадам. — И как только земля наша подобных подонков носит?!
Все больше и больше расходится в ответной грубости своей «издревле истая» — претендующая на интеллигентность, утонченная такая в познании достижений различного вида искусств, горделивая дочь великого города. А в ответ ее внешне сдержанным еще словам несутся отнюдь не способствующие сглаживанию ситуации, мерзкие в грубости своей выражения.
— Вали отсюда, сука говорливая, пока не зашиб, б…у, ненароком!
(И тут, наконец-то, наступает кульминация. Лживые маски, наконец, оказываются сброшенными и растоптанными на грязном трамвайном полу).
— Ах ты, гнида вонючая, щаз-то я тебе рожу-то твою мерзопакостную расцарапаю! В клочья порву, тварь! Вонь подритузная! Выкидышь кошачий! М-р-р-азь!
Дальше-больше. Перечень этих, весьма относительно нормативных, фраз заканчивается. Далее начинается такое… Ведь, казалось бы, только что, недавно совсем еще, вот только пару минут назад, утонченная такая в фамильной своей интеллигентности дама, и вдруг с диким вигом набрасывается на погрязшего в хамстве трамвайного пассажира, изрыгая при этом такой водопад отборнейших ругательств, что у оказавшихся совершенно случайно в непосредственной близости от произошедшего военных попросту багровели уши. Военные растаскивали вцепившихся друг в друга спорщиков, попутно отвешивая тумаки трамвайно-хамствующему гражданину, а уши военных все багровели и багровели. Багровели и сворачивались в тоненькую длинненькую такую багровую трубочку, блокируя, тем самым, естественные военно-чуткие слуховые каналы. Блокировали для того, чтобы воспрепятствовать проникновению убийственной дозы трехсотпроцентного негатива внутрь внешне крепкой черепной коробки военных. Это только и предотвращало гибельное разрушение тонюсенько-микронного в беззащитности своей слоя остатков мозга военного, всегда равномерно по костям черепной коробки распределенного.
Можно только представить себе образность и силу тех интеллигентных, проникающих в душу слов, если такие вот физиологические модификации происходили со случайно услышавшими их военными. Военными, воспитанными в очень простой такой и даже, можно сказать, грубой, ну, словом, вовсе даже неинтеллигентной такой среде. Военными, очень много чего уже слышавшими и до этого, некрасивого такого, но типичного для Питера события. А что же делалось с модифицировано-заблокированными ушами военных? Как придавались им привычные пельменные очертания? Приходилось военным в этих случаях становиться самыми прилежными и исполнительными пациентами косметических кабинетов. Их там знали уже давно, в кабинетах этих. Военные и по другим случаям туда часто обращались. В основном с просьбами по закатке губ в первоначальное состояние. Военные, они ведь привыкли всегда доверять власти. Власть, к примеру, что-нибудь пообещает военным, а те принимаются тут же раскатывать губы. А в эту раскатанность ничего из обещанного почему-то не попадает. Через некоторое время военным надоедает ходить с развивающимися на ветру губами (очень большая парусность, знаете ли) и они обращаются в косметологические кабинеты, а там их встречают, как родных, и закатывают им губы обратно с помощью специальных, купленных за границей, механизмов.
Вот такие у военных появлялись иногда дополнительные хлопоты. Ну и где же здесь, спрашивается, хваленая питерская интеллигентность? Где же этот врожденный аристократизм? А изысканная утонченность нравов? Где же сдержанная чопорность, наконец? А воспетый классиками холодно-надменный консерватизм? Видимо, давно этого в Питере уже не было. Но спесивая маска далекого прошлого осталась. А пример того, что под этой маской в действительности может затаиться, мы только недавно совсем еще и довольно подробно рассмотрели.
Военные никогда не любили людей в масках. А поэтому женились военные большей частью на студентках педагогических и медицинских ВУЗов, приехавших, так же как и они, попытать счастья в «колыбели трех революций». Почему же именно «педички» и «медички»? Видимо управлял этим процессом какой-то не до конца раскрытый еще закон природы. Военные каким-то внутренним чутьем этот закон давно уже открыли и еще при поступлении любили рекламировать будущую свою «альма матер»:
— Если, положим, нет у вас ума, — говорили они, — то поступайте в «пед».
— Ежели, к примеру, нет у вас стыда, — продолжали военные — поступайте в «мед».
— А если нет у вас ни того, ни другого, — заканчивали военные, на радостно-рекламной ноте, — то поступайте в Ленинградское высшее военное…!!!
И такое сочетание профессий было оптимальным для дальнейшей совместной жизни: в далеких военных гарнизонах всегда существовал дефицит учителей и медицинских работников. И это еще раз подтверждает объективность скрытого закона природы.
Женитьба военных во время обучения приносила им определенные блага, некоторую даже можно сказать свободу приносила. И опять парадокс: всему остальному невоенному мужскому люду женитьба приносила порабощение, а военным приносила свободу. Женатых военных отпускали на ночь домой. Даже двоечников иногда отпускали (была попытка провести эксперимент и, отпускать к женам двоечников круглых отличников, но она с треском провалилась — категорически не желали жены веселых двоечников никаким образом общаться с нудными отличниками).
В общем, отпускали военных на ночь и каждый раз назидательно напоминали: «В семь сорок — как штык!» А утром военные выстаивали очередь перед канцелярией военноначальствующих, чтобы свершить индивидуальный обряд доклада о удачно проведенной ночи и своем радостном возвращении в родные стены. Последние в очереди военные нередко слышали в свой адрес:
— Вы почему опаздываете?!
— Никак нет, я уже полчаса как в очереди! — пытаются оправдаться военные.
— А кого это волнует? Семь сорок уже десять минут назад по радио пропикало! Все, хватит с вас этой беспорядочной семейной жизни! С сегодняшнего дня — на казарму!
Вот так, организовывалась, оказывается, в те стародавние времена передача специальных сигналов точного времени по специальной программе радиостанции «Маяк» специально для отдельных военноначальствующих: для всех остальных через каждые полчаса, а для них, для особых этих военноначальствующих, только, в строго специальные моменты, в том числе и в семь сорок. Надо полагать — по специальному заказу Гостелерадио от Министерства обороны.
Была еще одна немногочисленная, но особо интересная категория военных. Военные, принадлежавшие к этой категории, на момент поступления в свою «бурсу», были уже глубоко и безнадежно женатыми людьми, а некоторые из них еще и успели к тому времени, помимо всего прочего, обзавестись уже и некоторым количеством детей. Дети у этих военных были не всегда своими, но за давностью лет уже вполне для них родными.
Семьи этих опередивших время военных, как правило, проживали на малой их родине под строгим материнским надзором или попустительским тещиным взглядом. А несчастным этим военным в течение всего срока обучения только-то и оставалась радость почтово-телефонного общения и разнообразные физико-визуальные контакты во время непродолжительных военных отпусков. Но, надо отметить, далекая семья сильно стимулировала скучающих по ней военных. Сидит, к примеру, «скучающий» на лекции и мучительно борется со сном после какой-либо военно-бессонной ночи, и уже вроде бы сон совсем его одолел — голова военного уже выбивает мелкую мучительную дробь по крышке военно-учебного стола, готовая найти на ней временное, но спокойное, уютно-плоское такое пристанище. В этот определяющий момент «скучающий» военный вдруг собирает последних сил своих мучительные остатки и, глядь, так быстро, украдкой так, на лежащие пред носом фотографии далекого своего семейства — с укоризной смотрит семейство! И все, сон мгновенно улетучивается — «скучающий» военный снова бодр и свеж. Снова готов внимать он усыпляющим речам лектора.
Вот, приблизительно, так и устраивали свою личную жизнь обучаемые военные. Иногда это случалось удачно и теперь уже с большой долей уверенности можно сказать, что на всю оставшуюся жизнь. Иногда не совсем удачно и браки военных один за другим рассыпались горохом по бескрайним просторам одной шестой части суши. Ничего не поделаешь — такова жизнь. Может это провиденье Господне, может судьба. А если это, по большому счету, все-таки одно и то же, значит, все так и было давно уже предопределено. И нечего тут кочевряжиться, выпендриваться и что-то из себя изображать. Сказано свыше, строго перстом покачивая: «Таково мое Провидение!» Вскочил почтительно, отвесил поклон и ответил небесам бодро: «Есть!» И пошел себе в далекую даль на трубе играючи. А больше ничего ведь и не остается. Ладно, хоть подудеть еще иногда позволяют. Спасибо, как говориться, и на этом.
Впуск
(Вместо короткого эпилога)
Наступило наконец время, когда как-то очень уж незаметно и совсем уже близко подкрался к обучаемым военным долгожданный выпуск-впуск. Хладнокровной и стремительной в бесшумности своей коварной змеей просто подполз-таки он к обучаемым военным. Все годы обучения военные ждали его, уговаривали поскорее прийти к ним. Он, гадина равнодушно-хладнокровная, — ни в какую. Не внимал вообще никак горячим мольбам обучаемых военных. Он не спорил никогда с военными, не возражал им ни в чем и никогда не пытался каким-то образом их оскорбить. Надменный этот выпуск-впуск просто самым наглейшим образом игнорировал военных и в наглости своей оглушительно безмолвствовал. Точнее, справедливости ради, надо бы отметить, что иногда он все же приходил к страждущим военным. Каждый год приходил и всегда почему-то в одно и то же время. Но приходил всегда абсолютно не к тем военным. Каких-то совсем других военных каждый год эта продажная шкура в милости своей изволила посещать. Но вот, наконец-то, почувствовали его близкое присутствие и наши обучаемые военные.
А как было не почувствовать? Уже далеко за спиной у стремительных военных остались и производственная практика, и войсковая стажировка. Полным ходом шла уже сдача государственных экзаменов, и защита дипломных проектов была уже не за горами. И во время этих завершающих учебу актов многие военные начинали слышать шумы перемещения электрических зарядов по ими же созданным электрическим схемам. А многие из военных начинали слышать голоса. Голоса эти были полны озабоченности и тревоги, но поначалу вовсе даже несильно докучали они заканчивающим обучение военным. Но ближе к важнейшим, в строгой государственности своей, экзаменационным испытаниям, завершающим обучение военных, голоса начинали появляться все чаще и чаще, тон их становился все требовательней и наглей: «Правильно ли ты выбрал тип транзистора для выходного каскада третьего усилителя высокочастотного тракта? Не ленись, гад, открой еще раз справочник на странице 132!»
Наконец, наглая требовательность голосов распространилась и на ночное время: «В третьем параграфе в третьей формуле сверху ошибка в знаменателе под знаком логарифма. Вставай, сволочь ленивая, и иди срочно все исправляй. И пересчитать теперь все заново не забудь!» В общем, изводили просто эти голоса заканчивающих обучение военных. И не было нигде от них спасения. Закроется бывало военный в уборной и дергает в исступлении рычажок унитаза, создавая голосам шумовую помеху. И вроде бы уже достиг желаемого — не слышит ничего уже военный, кроме звуков очкового водопада, ан нет, назойливый голос все-таки прорывается во время набора воды в бачок: «Что там у нас со стабилизацией частоты второго гетеродина? Дурень, хватит бестолку по очкам лазить да воду государственную переводить! Иди и разбирайся со стабилизацией!» Смирялся обычно военный, понимал справедливость сказанного и молча шел разбираться дальше.
Но надо все-таки отдать этим голосам должное: они исчезали сразу же после того, как очередное опозоренное тело военного вываливалось из поля зрения строгой в своей государственности, надутощекой такой экзаменационной комиссии. Как только очередной закончивший обучение военный обретал право на получение диплома самого что ни на есть общесоюзного, в универсальности своей, образца, предварительно перетерпев полчаса почти невыносимого, но быстро смываемого в бане позора, голоса вдруг разом смолкали. И наступала ставшая уже непривычной, оглушающая своей необычностью, звенящая какая-то тишина. Многие военные впоследствии даже скучать начали по этим голосам. Метаться просто стали в поисках возможности сдачи новых экзаменов. И часто эти возможности находили. А вот возможность что-нибудь защитить очень редко находили. Хлопотно это потому что. Ведь прежде чем что-то защитить, надо ведь это «что-то» еще и создать. А вот это уже хлопотно до чрезвычайности. Но некоторые военные не ленились и создавали. И при этом снова слышали голоса.
Но вот вроде все и позади и на выдержавших все экзаменационные испытания военных, нахлынуло вдруг немолодое какое-то чувство щемящей тоски по прошедшему: «Неужели так быстро все закончилось? Разлетимся сейчас по разным городам и весям и может уже никогда больше не встретимся. Во всяком случае, в таком вот составе точно уже никогда не встретимся!» И принялись военные друг с другом потихоньку прощаться и делить совместно нажитое имущество. Сколько хлопот занимает этот процесс у обычных граждан! Обычные граждане становятся при этом дележе злейшими врагами на всю оставшуюся жизнь. А у военных такого никогда не происходит. У них, у военных, всегда ведь все очень просто. И вот летят уже из казарменных окон на свалку бабинные и кассетные магнитофоны. Летят и напоследок исполняют полюбившиеся военным песни. Жаль что время исполнения любимых песен в этот раз ограничивалось длиной электрического шнура, питающего улетающее совместное имущество. Но зато промеж военных никогда не бывает никаких имущественных скандалов. А потому как были они в то далекое время абсолютно лишены какой-либо корысти. В любое время один обучаемый военный мог подойти к другому и попросить его: «Слышь, военный, тут такое дело… Фурия моя приходила вчера и заявила, что если не приду к ней в воскресенье, то уйдет, зараза, к какой-нибудь гражданской сволочи, а меня в воскресенье в наряд засунули. Подсоби, будь ласка. А я за тебя в следующее воскресенье схожу». И все. Вопрос решен. Сейчас же уже давно все не так. Современные капиталистические отношения уже успели наложить свой гадостный отпечаток на отношения между нынешними военными и меж ними уже существуют вполне определенные товарно-денежные отношения типа: «Подмена в наряде в будний день — 1000 руб. Подмена в наряде в выходные и праздничные дни — 3000 руб». И никаких сентиментальных намеков на войсковую дружбу и товарищество! А как, интересно, будут выглядеть товарно-денежные отношения между военными в боевых условиях? Попробуем предположить. Закончились, к примеру, у одного военного в бою патроны и он кричит другому военному: «Слышь, военный, выручи «рожком». До боезапаса не успею доползти — прут по моему сектору сволочи!» А другой военный, ничтоже сумняшись ему отвечает: «Говно вопрос. Любой каприз за ваши деньги. Цена вопроса — 1 000 $ на карте Master Card. Дорого?! Тогда походи по рынку и поторгуйся».
Ну да ладно, не будем о грустном. Это ведь, всего-навсего предположения. Может когда и отряхнутся военные от этой гнусной рыночности и отношения меж ними вновь приобретут первозданно-бескорыстный характер. Иначе ведь совершенно все неинтересно. И нечего вспомнить будет современным обучаемым военным впоследствии кроме своей же корысти. Товарно-денежные отношения — они ведь как-то особо не запоминаются. Блеклые они какие-то. Как обычный поход в продуктовый магазин. А хорошо запоминается и с удовольствием впоследствии вспоминается только что-нибудь, по-хорошему, яркое. Живите ярче в бескорыстии своем, современные господа-товарищи военные! И тогда не стыдно будет вам смотреть друг-другу в глаза по истечению ряда лет. Ведь судьба военного полна превратностей и даже уж очень давно закончившие свое обучение военные не могли вспомнить случая, чтобы на каком-нибудь юбилее выпуска-впуска собрались абсолютно все когда-то совместно обучаемые военные. У кого-то учения, у кого-то жена рожает, а кто-то давно сложил уже головушку свою, выполняя какое-нибудь государственное задание. Причем задание это казалось когда-то государству этому очень даже важным. Государство приказало военному, военный проникся этой важностью и задание это выполнил. Правда, случилось при этом ему погибнуть — не так что-то сложилось для него в один из дней на непостоянных в зыбкости своей небесах. А государство по прошествии ряда лет вдруг чудеснейшим образом прозрело, внезапно так опомнилось и открыто, честно и откровенно, на весь мир просто, взяло и призналось в том, что, дескать, вовсе и неважно это было все. Более того, — очень ошибочно просто все это даже было. А потом вдруг и этого самобичевания государству покажется мало — абсолютно вредным все ранее свершенное вдруг признает оно. Вредным для укрепления какой-то и неизвестно где существующей демократии. И военный, в земной шар по нелепому случаю зарытый, оказывается зело вреден был для мировой такой демократии, для дела, так сказать, укрепления общечеловеческих ценностей мировой нашей цивилизации. А поэтому и шиш — дулю по-простонародному говоря, покажут семье его горемычной, а настоящего спонсора этого глумливого показа при этом не назовут — спонсор он ведь все время инкогнито. Конкретного виноватого его ведь нет никогда — обращайтесь в Министерство по социальным вопросам и сбережению здоровья у населения. А там, в этом хитром министерстве все очень просто всегда происходит. Там ведь какая все время забота о населении проявляется? Очень даже простая в бесхитростности своей. Все делается там, чтобы большая часть и без того хилого и пропитого населения до пенсии своей не дотянула. Всю жизнь государство отбирает у работающего населения денежные знаки и аккуратно складывает их в свой пенсионный общак. Население, постепенно старея и хирея, медленно подкрадывается к тому счастливому моменту, когда, казалось бы, можно уже соскочить ему на заработанную и отстойную в скудности своей пенсию, но нет! Государство уже тут как тут: «А какова у нас средняя продолжительность жизни? Целых 58 лет?! И они в свои юные 60 уже на пенсию собираются? Хрен им, пусть хотя бы до 65-ти поработают!» И это правильно. В итоге-то, что ведь получается? В итоге государство остается один на один с изъятым у населения пенсионным фондом-общаком. А самого населения, имеющего законные основания для получения пенсии, нет давно уже и в помине. Передохло оно давно уже это законно-пенсионное население. Государство-то что, оно же не жадное по сути-то, по своей заботливой. Очень даже оно гуманное. Государство готово всегда по долгам своим заплатить, только вот одна проблема — платить-то в одночасье вдруг стало некому, по причине, от государства никак не зависящей. И причиной является выбытие этих нетерпеливых респондентов-пенсионеров в неизвестных никому направлениях. Ну а кто тут виноват? Хотели ведь как лучше. Пенсионный возраст увеличили, дабы не травмировать лишний раз население такими шокирующими заявлениями: «С завтрашнего дня вы пенсионер!» Население-то считает себя все еще молодым в свои 60! Ученые ведь давно уже установили, что каждый человек гипотетически может в среднем прожить 150 лет. Таков, оказывается, у этого населения потенциал! А ему, населению, такое слово страшное под нос суют еще в средине его гипотетического жизненного пути — «пенсионер». Нельзя так. Население от такого слова может сразу же, брык с копыт и инфаркт, вкупе с инсультом. Поэтому-то и отодвинули от населения этот пенсионный срок, чтобы было у него время смириться и привыкнуть к новому своему состоянию. А оно, тупое это население, не разобралось, в очередной раз, в сути проводимых государством мудрейших по своей сути реформ и сдуру все сразу и передохло. И поделом ему. А надо было вести здоровый образ жизни! Не на огородах своих шестисотковых задницей небо обозревать и паленую водку в бане литрами пить, а регулярно фитнесом заниматься и мюсли каждое утро кушать!
Ну ладно, это все грустная лирика. Вернемся-ка мы лучше к нашим радостным выпускаемым-впускаемым военным. Как нам подсказывает классика, судьба уже поделила этих закончивших обучение военных на живых и мертвых. Но не всегда, конечно же, деление происходило так категорично строго, существовали еще для военных такие промежуточные состояния как «слегка живой», «скорее жив чем мертв» или, например, «не совсем до конца еще мертвый» и т. д. Но закончившие обучение военные не хотели в то время глубоко об этом задумываться. Не свойственны были их выпуско-впускному возрасту глубокие и долгие раздумья о бренности своего существования. А потому собрались они в очередной раз в прохладе пивного погребка со звучным названием «Шалман», некоторое время щемяще потосковали, и пошло опять между ними молодое веселье, зазвучали по обыкновению задорные такие их песни.
А что пели в то время военные? Нет, с хоровым пением проверенных временем песен из утвержденного свыше репертуара все вроде бы понятно. А вот что в «Шалманах» пели военные? В то время в Питере очень много людей пыталось эстрадно петь. В концертных залах гремели «Земляне», «Круиз», «Самоцветы» и прочие «Веселые ребята». Эстрадно рассуждала о смысле жизни философствующая «Машина времени». Эстрадно призвало поскорей с этой жизнью расстаться унылое «Воскресенье». Но по настоящему песенные шедевры создавали только великие «Песняры», руководимые великим же Владимиром Мулявиным. Некоторые из особо голосистых военных периодически пытались этим певучим «Песнярам» как-то подражать, но каждый раз чего-то им не хватало. Потому-то оно, видимо, и великое искусство это, что даже подражать ему чрезвычайно трудно, можно ему, видимо, только внимать с благоговением. А вот различных «Веселых ребят» военные регулярно перепевали, и не в каких-нибудь концертных залах со специально созданной акустикой, а даже в каком-нибудь подвально глухом «Шалмане».
Перед самым выпуском-впуском принялись военных спешно одевать в офицеров. Одевать и фотографировать. Сошьют, например, что-нибудь военному и вызовут его на примерку: «Почему вам кажется, что парадные штаны у вас на заднице неприлично пузырятся? Ничего там не пузырится. Это у вас ягодицы неправильной формы. Не выпуклые, а прямо впуклые какие-то! Пузырчатые какие-то, потому и пузырятся… Что-что? Ну, знаете ли, ваше питание не входит в круг наших обязанностей! Да ничего, вы здесь булавочкой приколите, здесь чуть-чуть подошьете, а сюда иголочку воткнете. И все у вас будет хорошо. Ну пусть жена вам ваша подошьет, нам видите некогда ничего зашивать и прикалывать, мы тут сами уже зашиваемся и друг над другом постоянно прикалываемся — очень много к нам припожаловало нынче военных. И, как всегда, разом припожаловало. И все какие-то нестандартные. Каждый ведь год приходят все абсолютно нестандартные. И в нестандартности своей чрезвычайно требовательные приходят к нам военные. Где их только отыскивают таких. Ну, в общем, не мешайте нам. Если не успели обзавестись женой попросите там где-нибудь кого-нибудь еще».
А когда завершатся все примерки, военных одевают во все только что кривобоко сшитое и начинают непрерывно фотографировать. И в анфас их, и в профиль фотографируют, чередуя при этом различные, призванные, видимо, окончательно устрашить потенциального противника позы. Военные от такого глумления над собой постепенно звереют и на фотографиях остаются их беспощадные лица. Нет, конечно же, эти фотографии не отправят для устрашения срочной почтой в Пентагон или же в какое-нибудь ЦРУ. Это делается на тот случай, если вдруг получит доступ вражеский шпион к личному делу какого-нибудь военного, бесстрашно откроет его, с трудом развязав многочисленные узлы на защищающих дело потрепанных тесемках, а там на каждом листе устрашающие фотографии военного и угрожающие фразы под ними, например: «Положь на место, вражина! Мы все про тебя знаем!» Увидев все это и, тем более, прочитав, шпион сразу вообразит себе уже состоявшийся провал секретнейшей своей операции и там же на месте бесшумно застрелится. И поделом ему. Нечего было подглядывать. Написано ведь: «Личное дело военного».
Фотографируемые военные, давно привыкшие к подобного рода пленочно-съемочному вниманию все эти замыслы хорошо понимали и, несмотря на внутреннее свое озверение, демонстрировали в неподражаемом своем артистизме, полную отрешенность от происходящего. Наконец, съемочные дни остаются позади и слегка ослепленные частыми вспышками и ярким светом сильно греющих воздух рамп военные уже освобождено-радостно громыхают по крепкой и отшлифованной в натруженности своей поверхности строевого плаца. Готовятся военные к очередному торжественному и последнему своему в данной местности построению. Построения по поводу дипломами их награждения и прощального пред знаменем головы преклонения. На этот раз недолго готовятся военные. Чего зря время терять? Ведь давно уже стали военные в этом деле настоящими профессионалами-строевиками и даже не мыслили себя вне строгого военного строя. Военные порой с ужасом думали о том времени, когда им придется, к примеру, в одиночку ходить на обед или, так же в одиночку, выгуливать вечерами собачку, вместо того, чтобы исполнять радостные песни, гуляя перед сном строем по плацу во время, предусмотренной строгим военным «Распорядком дня» лечебно-оздоровительной вечерней прогулки.