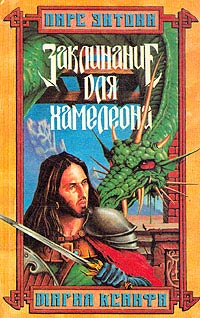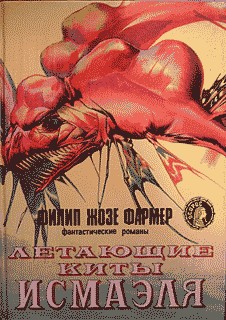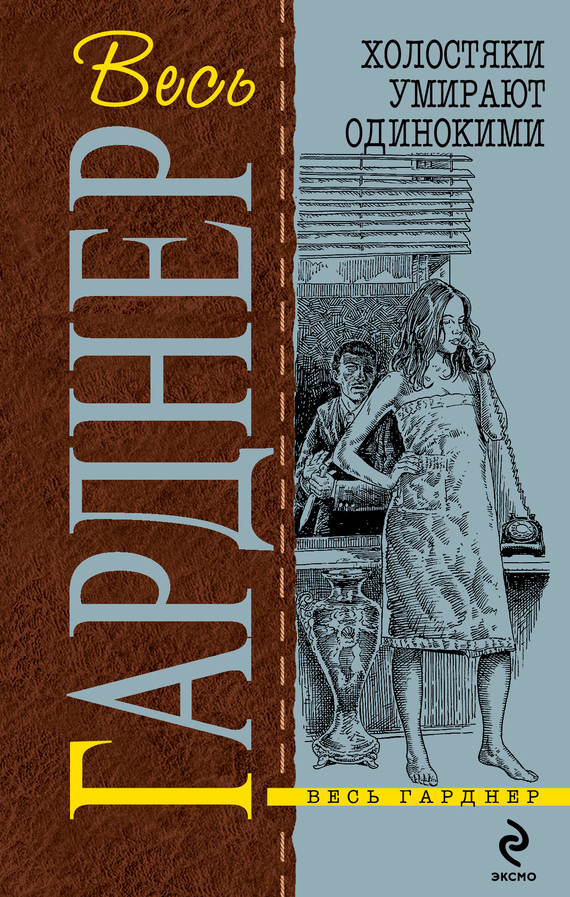Стрекоза, увеличенная до размеров собаки Славникова Ольга

Все было странно в этом гараже: молоко под верстаком казалось зеленоватым, будто отравленным; полотенце на шее Софьи Андреевны явственно пахло сладковатой гарью сожженных книг про неприличную любовь. Иван по-прежнему стоял, всем телом навалясь на отвернувшийся руль, и иногда вороватым легчайшим касанием трогал руку Софьи Андреевны, державшуюся за скобу коляски; но стоило ей перехватиться подальше на сантиметр, и он уже не смел тянуться к ее разбухшей от напряжения руке – обтянутой растресканным глянцем лапе сорокалетней женщины. Любое движение Софьи Андреевны, выходившее нечаянным и резким от ломящей тело тесноты, вызывало на юном лице Ивана страдальческую гримасу, точно он хотел, чтобы Софья Андреевна совершенно замерла перед ним, как пассивное и безопасное изображение на фотографии. Он говорил и говорил бубнящим насморочным голоском, со всхлипами глотая множество слов: все про тот же двенадцатый склад, заставленный до потолка всевозможными тяжестями, которые Иван, как грузчик, едва в состоянии перетаскивать, в то время как другие воруют эти тяжести с такой невероятной легкостью, точно это пух. Теперь Иван несомненно жаловался, из его повествования пропали геройские нотки, заметные за столом, вся его фигура выражала беспомощное недоумение. В сущности, он пытался рассказать жене всю свою жизнь без нее и честно повторял, что случалось в ней ежедневно, перечислял однообразные обиды, бессознательно загибая пальцы,– Софья Андреевна, глядя на получавшиеся при счете слабые пустые кулаки, с горечью думала, что следовало бы просто назвать неизвестное обоим число по отдельности прожитых дней, что установление этого числа – единственное, чем они могли бы сейчас заняться вдвоем, последнее, что осталось у них одинаковым.
Сказать по правде, Софья Андреевна и теперь, как всегда, не верила, что Иван, не знающий обязанностей и хмельным мотыльком порхающий по стране, действительно нуждается в сочувствии. Страдание означало правоту и сбережения в небесной кассе, но Иван был кругом не прав и страшно расточителен, он пьянствовал, вступал в беспорядочные связи с женщинами, стало быть, его жизнь представляла собой сплошное удовольствие и праздник, из-за своей беспрерывности буквально тонущий в отбросах, подобно его родному городу-пустырю, где бесконечно справляется Первомай и давит на землю растущая выше заборов двугорбая свалка. И за все свои кутежи Иван был должен Софье Андреевне: одних только денег, что он не выплатил на дочь, хватило бы на покупку автомобиля. Этот автомобиль, хоть и не существовал физически, все-таки в каком-то смысле имелся в жизни Ивана, как и другие хорошие вещи, не заработанные им для законной семьи. Софье Андреевне всегда представлялось, что на самом деле Иван богат, и здесь она поняла, из чего состоит его отвратительное богатство: мусор, неисчислимый, пропотевший собственным гнилостным потом, который из-за беззаконий Ивана не принимает земля, который может только расти, поднимая владельца до самого неба.
То были мысли ненависти, фантазии ненависти. Однако Иван стоял перед Софьей Андреевной такой молоденький, будто она никогда не ненавидела его, а только любила. Этот застенчивый и радостный румянец свежевыбритой щеки, эти большие руки, высоко и туго стянутые манжетами на свернутых пуговках,– будто никогда ее обида не разрушала Ивана вместе со всем, что помнила она на нем и по связи с ним: вероятно, ненавистью объяснялись трещины сразу через несколько предметов в ее собственном жилье, теперь, вероятно, заросшие. Сейчас постаревшая Софья Андреевна ощущала себя рядом с юным сияющим мужем будто в жухлых перчатках и маске. А может, подумала она, и он видит ее сейчас такой, какой она была тринадцать лет назад в деревне, какой ее показывал, вспыхнув на солнце, толстый зеркальный клин, стоявший у нее на тумбочке в отгороженном закутке буйной девчачьей спальни,– взятый в обе руки, он своей неверной тяжестью, гуляющей от угла к углу, словно не давал ничего поправлять в отраженном облике, казавшемся ему совершенным. Перед тем как бежать к правлению, Софья Андреевна едва не разбила его: никак не могла установить в руках. Переполненное зеркало разыгралось, удержать на нем свое лицо было не легче, чем яблочко на тарелочке или шарик в игрушке-лабиринте, так что Софья Андреевна, забираясь в коляску, понятия не имела, как она выглядит и даже какие набросила бусы из тех, что накупила, словно впервые увидав украшения, из холодной и затхлой витрины сельпо.
глава 12
По лицу Ивана она не могла прочесть свою судьбу. Укрепившись в седле будто каменный, он гнал мотоцикл так, что встречные машины, помаячив вдалеке подобно стрелке на спидометре, внезапно прыгали вперед, обдавали перегретым жужжанием и словно взлетали за спиной, оставляя по себе пустое эхо мотора. Солнечная веснушчатая тропинка, как ребенок взрослого, сопровождавшая шоссе, все хотела перейти полотно, но, едва приблизившись, шарахалась из-под колес обратно в рощу, где берёзы, перебегая и прячась друг за дружку, блестели и смеялись, буквально заливались смехом на порывистом, чего-то ищущем ветру. В плотном воздухе туго рвались насекомые, шмякались о стеклянный водительский щиток, превращаясь в зеленые, быстро засыхающие кляксы. Мелкая жгучая мошка попала Софье Андреевне в глаз. Не выдержав, она замахала Ивану, чтобы он остановился,– и в неожиданной тишине, с осторожным переплеском листьев над головой и мощным шорохом летающих стрекоз, пока виноватая Софья Андреевна обводила уголком платка налившийся глаз, Иван нетерпеливо пинал колесо, двумя пятернями зачесывая волосы со лба, и во всем его беспокойном облике была какая-то самолюбивая, обидчивая решимость.
Тем временем до предела сгустившийся зной словно прошибло холодным потом. Дрожь прошла по листам, внезапно утратившим блеск и ставшим с изнанки белее бумаги. После остановки поехали гораздо медленнее, хотя теперь-то и следовало спешить: темно-синяя туча с известковой накипью по краям, издалека беззвучно посвечивая, наплывала на небосвод. Солнечный свет сделался как электрический, ветер то пропадал, то внезапным полным порывом проходил по березняку, и роща замирала, задохнувшись. Сердце у Софьи Андреевны прыгало, ей казалось, что она не чувствует ничего, кроме этих неровных ударов. Вдалеке, в ложбине, вбирающей шоссе, уже показались городские бетонные башни, они тоже посверкивали мелкими острыми вспышками закрываемых окон, желтый маленький автобус, неестественно выгибаясь, заворачивал на кольце.
Но вместо того, чтобы устремиться туда, Иван еще убавил газ и валко съехал на боковую дорогу, в поднявшуюся облаком белесую взвесь. Щебенка, прыгая, заколотила о дно коляски, и одновременно первые капли, тяжелые и холодные, шлепнулись на склоненную шею Софьи Андреевны, пушистыми шариками свернулись в пыли, от которой пресно запахло размятым аспирином. Сначала Софья Андреевна подумала, что так короче проехать, следом мелькнула мысль, что Иван везет ее к себе,– а потом она уже не думала ничего и ощущала только сладкую беспомощность, качаясь вместе с мотоциклом в колеях и почти не отклоняя лица от мажущих водой черемуховых веток. Что-то должно было произойти – и вот оно происходило, теряя всякую связь с реальностью. Мотоцикл, уже разрисованный по пыли в крупный горох, торопливо и неряшливо густевший, въехал в какой-то обширный двор, покрытый, будто войлоком, разъезженным навозом и обведенный длинными постройками хозяйственного вида под насупленными крышами. Между ними, уравненный и даже явно используемый менее прочих, ютился запаршивевший дом с наивными колоннами, похожими на кухонные скалки, с травой и фанерой в окнах,– огрызки подобной же колоннады торчали прямо посреди двора, и возле них беспокойно бродили, вороша веревками в крапиве, две тонконогие бокастые козы. Наверху оглушительно треснуло, все вокруг осветилось дважды – пополам и пополам,– и впереди возникли, словно пытаясь вырасти еще в трепетании молнии, распахнутые ворота амбара или сарая, не меньше, чем в два человеческих роста. Мотоцикл нырнул в темноту.
Некоторое время, заглушив мотор, Иван недвижно горбился в седле. Его лицо было мокро и бледно от воды, по напряженному лбу, шевелясь, сползали капли. Снаружи сыпануло, притихло, налетело опять, с поперечины порот побежали, перекручиваясь, перекидываясь, хлестко стравливая петли, водяные толстые жгуты. Вокруг, насколько можно было разглядеть, темнели низкие растоптанные кучи старого сена, пахнувшего лежалой чайной заваркой. В углу, с прислоненными к ней лопатами, не достигаемая молниями, белела собственной белизной небольшая Венера, изрядно побитая. Старый, нежно закопченный от времени мрамор был на грубых сколах как наждак; на губы и соски богини кто-то посадил по ягоде масляной киновари, а в низу живота прямо по драпировкам намазал черный треугольник, каким мальчишки на военных рисунках изображают взрывы: то была безрукая Венера с одной из самых тайных открыток Катерины Ивановны, до начала жизни которой оставалось каких-то полчаса.
Софья Андреевна неловко выбралась из коляски и едва не упала, ступив на затекшую ногу: скрежетнул на земляном полу задвинутый под бесколесный мотоцикл, будто под ванну, тазик с тряпьем. Софье Андреевне вдруг показалось, что этот гараж похож на тот сарай и одновременно на чуланку, куда ее поместили с дочерью,– будто она находится в одном и том же месте и спит и никакого Ивана нет, а скоро ей вставать на утренний автобус.
Однако говорливый и плотный Иван, паливший, как топка, папиросу за папиросой, вовсе не собирался растворяться в воздухе. Напротив, он оживился и вдруг заговорил о дочери: с торжественной серьезностью заявил, что дочь уже взрослая, что их можно спутать с матерью, если одинаково одеть. Потом он страшно засмущался и с перекошенной улыбкой полез по тесным карманам, извиваясь и проникая до таких глубин, будто самого себя пытался вывернуть наизнанку. Софья Андреевна не сразу поняла, что он собирает деньги: к плотненькой трубке, приготовленной заранее и выложенной к фаре на яркий стол, прибавляет бумажки и монеты, извлекаемые наружу ерзаньем застрявшей пятерни вместе с ущемленной подкладкой, извергавшей дополнительно снежную струйку опила, которая бесследно рассыпалась над землей.
Собрав, что смог, распотрошив и жесткую курточку, лежавшую на мотоцикле, он протянул жене неполную горсть, а когда она отпрянула на шаг, насильно вывалил ей в руку брякнувшее достояние. Он бормотал про дочь, веля купить для нее кримплен и лодочки на шпильках, обещая еще прислать на сапоги,– вероятно, ему казалось, что он набрал с себя не меньше ста рублей, но Софья Андреевна, осторожно разжав кулак и опустив глаза, увидела лишь картофельную шелуху рублевок да черную медь, среди которой самый большой кругляш оказался пальтовой пуговицей. Софья Андреевна не знала, как ей быть. Отказаться от денег значило поощрить разгульную жизнь Ивана, узаконить его прошлые и будущие неплатежи,– но и принять ничтожный взнос казалось просто смешно, как будто Софья Андреевна заслужила только этого, как будто это компенсирует ее страдания и траты. Самый вид пожертвованных денег, буквально оторванных Иваном от себя и сальных, будто ношеное нижнее белье, нищенский сброд несосчитанной мелочи, изъеденные копейки и жалкие рубли, кричащие, что отдано последнее,– все это требовало от Софьи Андреевны подобреть, простить на время прочие долги. Выходила удивительно дешевая цена, а главное, тут крылась нестерпимая фальшь, потому что дочь имела все условия успевать на пятерки, а Иван трудами Софьи Андреевны сэкономил на автомобиль и жил, пожалуй, даже слишком хорошо, вроде божьей птички голубя, из тех, что стонущими кучами купаются в помойках. Сжимая деньги, которые все равно нельзя было потратить и можно было только спрятать, чтоб не мучили, в тайник, Софья Андреевна чувствовала себя примерно так же, как на празднике, когда девчонка, тихо и грузно протиснувшись в кухню, принималась ставить перед ней то тут, то там грязную акварельку со старушечьими личиками цветов, неотступно глядя на мать с выражением какой-то отрешенной жестокости. Такая ситуация вынуждала Софью Андреевну выдать, высказать обиду, которую она обыкновенно прятала, как иные прячут радость, чтобы не проматывать ее в пустых словах. Вот и теперь она заговорила – словно по принуждению, отлично зная, что Иван, как и дочь, не раскается, что стой она перед ним больная, босая, в бедняцкой кофте (которую от обиды каждый год надевала на Восьмое марта, а перед этим, с особенным учительским чувством подготовки к мероприятию, простригала в кофте дырки на засквозивших местах и штопала их заметной ниткой),– хоть упади она замертво на землю, даже и тогда Иван только покривился бы в раздражении. Зато он теперь не мог ее перебить, только нахватывал выпяченной грудью побольше воздуху, его забытая улыбка висела криво, как подшибленная картинка на стене.
Если бы не деньги, Софья Андреевна никогда бы не припомнила ему, что в конечном счете это он завез ее в сарай с Венерой и добровольно сделался причиной многих следствий, вплоть до сегодняшнего нападения разряженной шпаны. Она бы охотней держала это в себе, как потаенное сокровище. О, она имела право каждый свой убыток соединить с тем днем отчетливой чертой и наслаждаться чистой геометрией обиды, как иной бы наслаждался музыкой. Обида, пронизав и выстроив её простую и осмысленную жизнь, превратила ее в совершенство, подобное чуду архитектуры или хрустальной глыбе, где в твердой и ясной глубине силою обиды сохранялись драгоценные, щемящие подробности. Холодный, майский, яблоневый запах молний посреди июньской жары, и как от голого двора, где текла и плясала бешеными свечками жидкая грязь, внезапно потянуло весной, и как по этому двору, выхлестывая сапожищами фонтаны, сутуло мотаясь, придерживая на себе изнутри стрекочущий прозрачный дождевик, пробежал веселый человек с намокшей бородой, и его дождевик трещал, когда на человека с маху налетала белая гуща ливня. Может быть, Софья Андреевна мучилась как раз потому, что не могла словами передать особую значительность своих воспоминаний, безукоризненную логику событий, начавшихся со скособоченного спуска на проселок и стройно дошедших, ни единой линией не увильнув в непроницаемое прошлое, до сегодняшнего дня. Она никак не могла договориться до главного. Обида, питая собою воспоминания сильнее иной любви, искажала их несколько иначе, чем любовь: вся обстановка того события так укрепилась в памяти Софьи Андреевны, что, случись ей увидать хоть на другой же день колоннаду, сарай, мешки в сидячих позах в глубине сарая, она бы сочла их худшей, чем у нее в голове, копией с подлинника, неизвестно куда пропавшего. Так что теперь она свободно возвращалась на место преступления и в этих снах наяву была, как ни странно, скорее Иваном, чем собой,– Иваном предусмотрительным, хитрым, бормочущим сквозь зубы, что он всего лишь развлечется и не будет ни за что расплачиваться,– при этом плоские губы Софьи Андреевны искажались зловещей усмешкой. Себя же Софья Андреевна почти не помнила – ей чудилось, что она как раз норовила спрятаться, ускользнуть в боковую тень, а Иван не давал.
Ей, например, казалось, что еще на проселке она пыталась ухватиться за какие-то, что ли, ветви, остановить мотоцикл. Потом у нее сложилось ощущение, что она по рвущимся, ячеистым сетям залезала под крышу, полную влажных шорохов и перестуков,– в действительности на стене была развешана иссохшая упряжь, и никуда Софья Андреевна не лезла, а осторожно выбралась из коляски и, подстелив себе воздушный на высоком колком сене носовой платок, села так, чтобы Ивану была видна ее склоненная фигура, которой Софья Андреевна попыталась сообщить что-то такое красивое от балетного лебедя,– и от напряженной неловкости позы сразу стала задыхаться и дрожать.
Ей казалось, что она так долго не вытерпит. Еще сидя на остывающем мотоцикле, глядя прямо перед собой, Иван заговорил срывающимся голосом – она хоть понимает, что делает, над ним смеются мужики,– но Софья Андреевна, готовая услышать совсем другие слова, даже придумавшая их за Ивана (при помощи великого Толстого), ничего почти не поняла и перебралась на другое место в смутной надежде, что там и объяснение пойдет по-другому. Рядом вздохнуло, перемялось, шаркнуло – Софья Андреевна обомлела, будто вовсе этого и не ждала. Какое-то время она еще держалась, силясь не свалиться окаменелой статуей на Ивана, присевшего рядом, тяжело придавившего стог.
Во дворе, сквозь отвесный гудящий ливень, неясно рисовалась щербатая колоннада с чем-то рваным, свисающим с перекрытия. Убогие колонны стояли и сквозили будто в пустоте, еле-еле можно было различить за ними серую линию крыш,– но когда из ничего бесшумно возникала молния, вместе с нею возникал, надвинувшись, изъеденный особняк и несколько секунд стоял, словно таращился спросонья, а следом лупил оглушительный гром. Софья Андреевна все слушала, когда же Иван, переждав разбегающийся треск, скажет ей про свою любовь,– волновалась и вздыхала, будто виноватая. Безрукая Венера, повернув небольшую головку, глядела на нее каменными яйцами мраморных глаз.
Внезапно Иван вцепился твердыми пальцами в склоненные плечи Софьи Андреевны, буквально разломав ее задумчивую позу, которую она так долго и так трудно для него удерживала. Повалившись на спину, Софья Андреевна, еще ничего не понимая, схватила толстые, с натянутыми жилами запястья Ивана, и какое-то время они ломали друг другу руки, будто какую-то вставшую между ними преграду, целый заколдованный лес кренящихся крестовин,– а потом он исхитрился как-то так ее перекрутить, что одна ее рука оказалась придавлена где-то глубоко, а вторая шаталась вверху, не имея куда опуститься, кроме как на спину Ивана, на его встопорщенные крыльями лопатки. Сзади, на шее, впились и лопнули бусы, нежная щекотка холода коснулась открытой груди с висящими на оба бока лоскутами кофточки – так, будто Софья Андреевна была намылена и пена ежилась, текла под мышки, срывалась хлопьями на уличном ветру. Иван, точно лез на дерево, возил коленом по сгибавшимся, скребущим пятками ногам перепуганной учительницы и глядел на нее умоляюще, прилаживался поцеловать, приближая вздутое лицо со свешенными волосами, но не выдерживал и валился головой в едучую труху поверх ее плеча.
Потом он изогнулся, локтем придавив плеснувшее сердце Софьи Андреевны, и начал что-то у себя расстегивать, дергать, позванивая ремнем. Сразу вслед за этим Софья Андреевна ощутила, как Иван, мимоходом вытирая ей о юбку мокрую пятерню, тащит с нее перекрученные трусики. Тут она вспомнила вдруг, какие они перештопанные, синюшные от многих стирок и какое у нее там все перемятое от грубого белья – эти плоские волосы, слипшиеся складки, серые следы резинки на животе. Ей сделалось жалко себя, так жалко, будто Иван добрался до самой ее стыдной и тайной бедности и теперь забирает то, что только у нее и есть,– некрасивое, не годное напоказ… Больше Софья Андреевна не сопротивлялась, почти забылась, вяло стряхивая с лодыжек тряпичные путы трусов, и лишь тихонько скулила, а когда Иван ее ворочал, громко и страшно всхлипывала, будто большая ванна. Она как-то издали воспринимала боль, сперва тупую и скользкую (даже вспомнила почему-то, что в марте ей хотели делать операцию, резать аппендицит),– но внезапно боль куда-то заскочила и резко въехала в тело, о глубине которого Софья Андреевна прежде не подозревала. Тело было глубокое и темное, будто пещера, и Софья Андреевна вся покрылась ужасом при мысли, что Иван ее убил. Начались неровные толчки, от которых запрокинутая голова сомлевшей Софьи Андреевны проезжала по сену, а с разорванной нитки на шее стекали бусины – капали по три, по четыре и текли по коже в жаркие лохмотья блузки, впитываясь вместе с потом в погубленный шелк. В поле зрения Софьи Андреевны постепенно вдвигалось нечто беловатое, как подтаявший снег, с необыкновенно выпуклыми чертами, которые, однако, ни во что не складывались и пугали бессмысленной слитностью, зловещей гармонией. Только когда показался слегка улыбающийся из-под нашлепки кармина холодный рот, Софья Андреевна поняла, что это склонилась над нею мраморная Венера и что краска на богине еще не просохшая, мягкая. Богиня пригибалась все ниже и ниже – черенки лопат, сшибаясь в ворох, проехали по ее животу и глухо ахнули за головою Софьи Андреевны. Зажмурившейся Софье Андреевне почудилось, что они с Иваном оживили статую: попали со своей возней под каменные бельма и, сделавшись предметом слепого твердого зрения привыкшего к покою истукана, яростно двигаясь в том, что было для него пустотой, заставили в конце концов вращаться цельнозрячие молочные глаза. Теперь грубая раскраска статуи под живую женщину – поверх ее потаенной, холодной, гармоничной жизни – выглядела уже не как насильственное варварство, а как проявление ее внезапно пробудившегося чувства. Венера словно желала принять участие в действе, что билось у ее классических ног, страстно стиснутых под спадающей каменной простыней, и когда Иван слабел и вытягивал к Венере оперенную рыжим волосом глотающую шею, Софья Андреевна ощущала, что богиня непостижимым образом помогает ему.
глава 13
Когда этот хаос наконец закончился, Иван, моргая в сторону заслезившимися глазами, набросил на Софью Андреевну взятую из мотоцикла кожаную куртку, легшую на нее глухим бугром, а сам уселся поодаль, кусая серую травину. Ливень поредел и помягчел, сквозь него, как сквозь густую марлю, были теперь видны потемневшие строения, седые покатые купы деревьев над ними,– самые дальние были как тени на ровной беленой стене. Давешний бородач в дождевике, большой, как парник, прошел опять неспешным, размеренным шагом, склонивши острый куколь, неся ведро,– и спустя небольшое время синеватый, вкусно пахнущий дым поплыл сквозь туманный дождь, покойно и блаженно легчая, как бы на полпути растворяясь в родственной стихии, и один отделившийся реденький клок обязательно замирал на месте, на весу, истаивая дольше других и непонятно с чем соединяясь – с мягкой ли моросью или с новыми рассеянными клубами, наплывавшими и тут же исчезавшими. У Софьи Андреевны было тяжело на сердце: жалко себя, жалко крепдешиновой кофточки, которую еще вчера наглаживала, сердясь на крошечное бурое пятно. Весь ее мир – город с асфальтом и магазинами, школа, недавно полученная квартира с горячей и холодной, воркующей в трубах водой – все, что час назад манило ее и теперь опять предъявляло на нее свои права, сделалось противно, необходимость ехать туда давила камнем. Хотелось лежать и глядеть на дым, на темные среди серебряной слякоти кочки травы, до самых корней пропитанные сыростью. Хотелось ничего не чувствовать, кроме тупой округлой боли в низу живота, тянущей из ног какие-то тонюсенькие рвущиеся жилки,– так мог бы болеть корнеплод, который всё тянут и тянут из цепкой земли.
Однако Иван сидел все так же на виду у Софьи Андреевны и был словно неумелое, избыточное от жадности воплощение ее мечты. Будто она сама создала эту крепкую плоть, содержащую внутри одно только бьющееся сердце величиною с пушечное ядро,– создала по золотому образцу, что мелькал перед нею среди распадавшихся вширь и вкось, глухих от зноя деревенских улиц, но не сумела сохранить очарование перспективы, то есть будущего, видного на открытых полевых просторах точно на ладони,– и даже просто обычную улыбку Ивана, невозможную на таком вот сером обрюзглом лице. Иван ворочался, попыхивал губами, сосал траву,– Софья Андреевна видела, до чего ему хочется курить, и угадывала в кармане куртки полый перестук коробки папирос. Но Иван не смел подойти и взять, как не посмел он поцеловать свою языческую жертву крашеной богине. Заплаканная Софья Андреевна, истекающая чем-то липким и по-грибному скрипучим на пальцах, не знала, как ему отомстить и как помочь – как вообще разрешить их неправильные отношения, чтобы не разойтись от этого сарая навсегда.
Внезапно слякоть вспыхнула на солнце, ливень опять припустил, стуча и сверкая, точно битое стекло, и одновременно Софья Андреевна ощутила лучшее, что только довелось ей испытывать в жизни: ей показалось, будто некое существо – не бог, потому что бога нет,– но существо всевидящее, ничего для себя самого не желающее, жалеет их обоих, будто собственных детей, и оттого они непременно будут вместе. Сразу сделалось легко: подстановка мнимой величины разрешила задачу и помогла не только Софье Андреевне, но и Катерине Ивановне, чьи клетки, вздрогнув, совершили в этот момент четвертое деление. Благость сошла на нее через много лет, сырой апрельской ночью, со скрежетом вздувавшей штору, лезущей голыми прутьями в форточку,– первой ночью, когда Софью Андреевну выписали из больницы умирать.
Катерина Ивановна ничем не могла помочь наполовину усохшей матери, лежавшей на чересчур просторном для нее диване, будто посторонняя вещь. Даже врачи отказались от нее, и когда Катерина Ивановна за ней пришла, мать, полусъехав со стула, дожидалась ее в розовом от солнца больничном коридоре, под осторожно вьющимся цветком, похожим на кошмар. Ее мешок, набитый кое-как, горбатым уродцем валялся почему-то на другой стороне коридора, а на ее продавленной койке, видной сквозь стеклянную стену палаты и всегда напоминавшей Катерине Ивановне какой-то дурацкий гамачок, сидела уже другая женщина, с жидкой блинообразной грудью и тугим огромным животом, и ела из железной миски водянистую кашу. Перевезенная домой, мать словно осталась точно в том же положении: мешок неразобранным стоял в затоптанной прихожей, и надо было мыть запотевшие банки, из которых так глухо и душно пахнет, когда сдираешь присосавшиеся крышки,– но Катерина Ивановна не могла.
Из-за того, что мать теперь была нужна только ей и никому другому, она ощущала себя исключением среди всех людей, и чувство одиночества, подтверждаемое прутяным шараханьем за стеклами и сквозящей, накипающей в ушах тишиной подъезда, не давало ей по-настоящему ощутить дочернюю жалость к умирающей матери. Мать лежала странная, словно подпертая снизу чем-то неудобным, твердым. Казалось, ее изменили специально, для какого-то маскарада: обвислая кожа походила на потёки желтоватой и бурой масляной краски, непросохшей, мягкой, подернутой сморщенными пленками, остатки сальных волос стояли дыбом над губчатой лысиной, из черных ноздрей вырывался свист. Катерина Ивановна сидела рядом на качавшейся с ножки на ножку табуретке и пыталась сосредоточиться. Она вспоминала, как в больнице мать, свернувшись в комок, держалась костяной рукой за прут кроватной спинки, а грязный блин подушки лежал у нее на плече; как она неожиданно приобрела привычку ласкать и гладить части своей тощей серенькой постели, странно нежиться в ней, тереться и ерзать с кошачьими вывертами изнывающего тела. Ничто не помогало одинокой Катерине Ивановне, она словно скользила чувствами по непроницаемой поверхности, и чем больше помнила и видела подробностей, тем кощунственнее представлялось ей внимание ко внешней стороне вещей, как бы уплотнявшее эту внешность, не оставляя ни одного проема, чтобы проникнуть в суть. Все это было смутное ощущение, не облеченное в слова, но, когда Катерина Ивановна вдруг увидала со своего качнувшегося табурета, как неестественно, контрастно, пестро разложены цвета на потном материнском лице, когда она поразилась буквальной поверхностности своего наблюдения,– тогда ей стало до жути ясно, что пожалеть родную мать ей будет ничуть не легче, чем понять до конца, что же такое смерть.
Думая теперь уже только о смерти, Катерина Ивановна поспешно вскакивала на ноги и дергала раздутую штору. По сравнению с недавней зимней белесостью, оставлявшей ночью от города полустертый меловой чертеж, апрельская ночь была непроглядно черна. Незастекленный влажный квадрат черноты отдельно зиял в распахнутой форточке, и оттуда особенно близко и внятно, как это бывает только голыми весенними ночами, доносились сырые шорохи, объявляющий женский голос с недалекого вокзала, одновременно неразборчивый и стеклянно-ясный, хрусткие шаги по кружевному льду. Вот шаги остановились под самым окном, и какой-то мужчина – ближе, чем в самой комнате,– беззлобно ругнулся, другой ответил басистым молодым смешком. Они подождали третьего, догонявшего грузной хромой побежкой и на бегу вытиравшего подошву о мокрое крошево, и дальше пошагали в ногу, словно подмываемые теменью, мерно набегавшей им на башмаки.
Катерина Ивановна не знала, почему у нее внезапно отлегло от сердца. Она подумала, что все-таки не одна, кругом народ, что пахнущие лекарствами зимние месяцы кончились и скоро наступит лето со всякими чудесами: шоколадным мороженым, купанием, с цветными палочками стрекоз над солнечной, запыленной гладью воды и столь же тонкими и чуткими мальками среди золотого ила, видными там, где на воду падает тень,– с магнитным, магнетическим соответствием их внезапных замирающих зигзагов. Тут же к измученной Катерине Ивановне пришла уверенность, что и ей соответствует некое Верховное Существо – оно сейчас жалеет за нее неподвижную маму в полную меру ее страданий и ждет ее на легком летнем небе, где многоярусные облака плывут и увлекают, поднимают землю, так что, когда настанет крайняя минута, земля обернется пухом, и останется только перейти с одного облака на другое, глубже утонувшее в синеве.
Катерина Ивановна, конечно, не могла догадываться, почему именно о лете подумала она, стоя возле глухо стукавшей весенней форточки и слушая далекое, но все еще отчетливое хрупанье незнакомцев: казалось, звуки, издаваемые ими, просто не способны исчезнуть, как не исчезнут сами эти парни с остекленелой посюсторонней тверди, потому что они не умрут. Если бы Катерине Ивановне задали вопрос, она бы ответила, что лето – срок, который матери назначили врачи. После Софья Андреевна не дотянула до него – случилось то, что случилось, у Катерины Ивановны недостало сил любить ее до конца,– но пока представление о лете, соединившись с представлением о Верховном Существе, помогло ей подобрать мешок и разложить все вещи по домашним полкам, как будто они могли еще там прижиться, и помогало дальше, во всю горячую и спорую весну, когда происходящее в природе казалось приготовлением к маминой смерти, и приготовления эти были радостны и торжественны.
Только все происходило очень быстро. Бежали по яркому небу пестрые, в талых промоинах, облака, и рябило в глазах от перебегающего света, от сора, от ветра на сморщенных лужах; капель срывалась буквально со всего, даже с черных корок, оставшихся от сугробов, и, поймав в полете солнце, прожигала лед. После недолгого соседства льда и пыли начались дожди, напряженные, гудящие, будто их не только спускали сверху, но и тянули снизу; бледный и тяжелый майский снег, что-то смутно напомнивший Катерине Ивановне, валил и сразу стекал по ветвям, по заборам, по лицам прохожих – казалось, будто город моют мыльной эмульсией до зеркального блеска, и после действительно все отражалось во всем, трепетало, дробилось, удивительно отзывчиво подхватывая всякое движение, прибавляя его к своей сверкающей игре: казалось, в мире ничто не пропадает бесследно, смерти нет и не может быть.
Однако торопливая природа готовилась к тому, чтобы скорей настал назначенный врачами июль: уже и листья на деревьях подросли, уже на пригреве запестрели желтые мать-и-мачехи, круглые, на коротких стеблях, будто крепко пришитые пуговицы. Во все эти тяжелые месяцы Катерина Ивановна мысленно обращалась к Верховному Существу (не к богу, потому что бога нет),– она словно ждала его, не отдавая себе отчета, что в самой его всеприемлющей сущности есть нечто летнее, вольное, когда земля ничем не закрыта от неба, а небо безо всяких безымянных и пустых слоев пространства начинается прямо от земли, от травы, от цветов.
Если бы Софья Андреевна рассказала дочери об отце,– но за всю совместную жизнь мать и дочь ни разу не поговорили ни о чем серьезном и вечно ссорились по пустякам, вкладывая в это столько интонаций и переживаний, что два их взволнованных голоса – одинаковых, один на номер меньше,– можно было слушать, не понимая слов. Зато перебранки по поводу плохо промытых вилок или слишком красной дочериной юбки придавали всему их бедному обиходу некую значительность, словно каждая мелочь стоила многочасового обсуждения. Ни мать, ни дочь не забывали друг другу обид, и вовсе не со зла, а просто потому, что раны и ранки у обеих не заживали, кровоточили через годы: так уж обе женщины были устроены, такова была их душевная структура. Зато саднящий груз обид, все продолжавший копиться и возрастать, и был тем общим, что соединяло этих двух единственно родных людей. Теперь, когда мать уже едва могла произнести, напряженно перекашивая рот и шею, несколько гортанных слов, всему этому, казавшемуся вечным, предстояло куда-то пропасть, а вещам, кое-как наполнявшим квартиру, предстояло потерять существенность и важность, сделаться остатками самих себя. До последнего часа мать говорила «мое». Мир, в котором она существовала, уходил. Истина заключалась в том, что Катерина Ивановна не любила мать, но мать была тем единственным, что она действительно имела в жизни. Вещи матери, ставшие в ее отсутствие совершенно чужими, дочь унаследовать не смогла.
Бессонными ночами у маминой постели, когда Катерина Ивановна сливала из кастрюльки со шприцем встающий тучей кипяток, когда втыкала иглу в пустую складку кожи, глядя на твердое, как ложка, материнское надгубье, покрывавшееся бисерным потом,– больше всего ей хотелось заставить мать очнуться, чтобы та рассказала ей что-то такое, после чего можно было бы жить самой, обрести смысл и причину существования. Весь тон общения Катерины Ивановны с матерью всегда говорил о том, что она появилась как бы ниоткуда, была вроде подкидыша, оставленного у чужих дверей. Будто в материнской жизни не было ничего, что привело к ее рождению,– ни любви, ни цветов, ни желания быть с тем седым и тонкошеим, козлиной масти, стариком, с которым Катерина Ивановна говорила только однажды в жизни и которого вспоминала с ужасом. Теперь она мечтала, чтобы мать напоследок рассказала ей что-нибудь хорошее об отце: что она увидела в нем, когда согласилась стать его женой. Услыхать о дне своего начала было бы спасением для Катерины Ивановны – услыхать всю правду о насилии и любви, о том, как растерявшийся отец не посмел забрать из куртки папиросы, а мать подала ему драную коробку, придерживая кожанку на груди бессознательным жестом святости и молитвы, просыпая табак. Однако старая, желтозубая, вся изоржавевшая большими родинками Софья Андреевна ничего не сказала ей – не сказала из принципа и из-за того, что была поглощена раскрытием обмана, когда притворно утихшая боль таилась в закоулках тела, ставшего полуразрушенным лабиринтом,– яростно выскакивала, если ее разоблачить.
Софья Андреевна вообще полагала, что про стыдное говорить нельзя, и ни словом не перемолвилась о случившемся даже с самим Иваном, даже в тот горячий мокрый день, когда Иван завез ее в сарай, размерами намного превышавший побитый кубик особняка,– и в этом превышении было что-то жестокое, торжество дощатой темной пустоты. Во весь остаток пути домой Софья Андреевна в застегнутой до горла кожанке, полной ее нового соленого, рыбного запаха, ни разу не укорила и не обругала виноватого Ивана – более того, улыбалась голым большим лицом на встречном ветру и охотно глядела, куда он указывал взмахом руки и неразборчивым отчаянно-веселым вскриком. Все вокруг крутилось, дробное солнце скакало стаей воробьев. Вместо одного, на что показывал Иван, Софья Андреевна видела сразу десятки городских явлений, от которых отвыкла в деревне, а от овощного открытого лотка, где с яблоком в руке замерла перед весами плечистая продавщица, вдруг напахнуло осенью, первым сентября.
Приободрившийся Иван залихватски проскакивал пустые перед переменою потоков перекрестки, нарочно давил голубино-сизые лужи, пролетая их словно на шумных крыльях поднятой воды. Однако в подъезде, перед открытой дверью в квартиру, куда растерзанная, запоздало зардевшаяся Софья Андреевна поспешила нырнуть, он как-то нехорошо оскалился и, схватив свою пустую, словно натопленную куртку, протянутую ему через порог голой мягкой рукой, обрушился вниз по лестнице, спрыгивая с последних ступеней и звучно хлопаясь подошвами о площадки. Получилось, что они буквально бросились в разные стороны, не сказав друг другу даже вежливого слова, и это произошло настолько неожиданно, что Софья Андреевна не успела и ахнуть, как осталась одна.
Нежилая душная квартира, с позабытым три недели назад полотенцем на спинке стула, с черным пятном томатного соуса на плите, встретила ее удивительно ровным молчанием: стояли часы. Ей надо было многое успеть за вечер – помыться, постирать,– надо было с утра бежать в районо с бумагами, чтобы после не опоздать на единственный удобный рейсовый автобус. Но, оглушенная, она никак не могла включиться обратно в жизнь, хотя бы смыть с горящего тела любовный рассол, и вместо этого бродила в кое-как завязанном халате, поддевая босой ногой заскорузлые остатки крепдешиновой блузки, ставшие похожими на грубую и яркую бумагу – на обертку какой-то покупки, брошенную на пол. Так проваландалась она бессмысленно долго, до самого глухого времени ночи, пока в незанавешенных окнах не осталось ничего, кроме маслянистых отражений, отличавшихся какой-то вытянутой стройностью, не присущей реальным вещам ее жилья. Она потеряла в квартире служебные бумаги, привезенную с собой зубную щетку. Явившийся наутро беспорядок был таков, как если бы она взялась за генеральную уборку, но в действительности она не делала ничего, только сидела то здесь, то там, иногда брала какую-нибудь книгу – поначалу выдирала тома из плотных рядов, а потом они сами падали ей на руки из оставшихся развалин, а из них выскальзывали, вертко трепетнув лопастями, засушенные растения.
То была всего лишь первая ее одинокая ночь невесты: потом они пошли подряд и составили целый провал, отличаясь от замужних бессонниц особенной прозрачностью, когда, сидя на диване, можно было дотянуться рукой до новенькой люстры и в то же время нельзя было даже шевельнуться, чтобы не замутить ярчайшей пустоты горящего электричества. Не отдавая себе отчета, Софья Андреевна ждала. Даже мысль, что Иван давно храпит на своей общежитской койке или гуляет с мужиками, вовсе не собираясь к Софье Андреевне,– даже полная в этом уверенность не освобождала ее, а только заставляла набираться терпения на более долгий срок. Она еще неудобней горбилась: на табуретке, на стуле, на краю забрызганной ванны, куда со свербящим пришлепом падала из крана забытая ею переменчиво-монотонная струйка воды. Усилия, чтобы вымыть туфли или пожарить яичницу, казались ей непомерными – тем непомернее, чем больше она думала об этом и чем дольше откладывала дела,– и доходило до того, что, плюхнувшись на сбитую постель, она уже не могла приподняться и стянуть халат и от этого не могла по-настоящему заснуть – до самого рассвета слушала, как стучат и бормочут трубы, как окрепшая струя, урча, клубясь в горячей толще воды, переполняет ванну.
Так Софья Андреевна теперь и дремала – в пропотевшем халате и колючей комбинации, лежа в серой своей постели, будто селедка в газете,– и наутро ее пробирала сыпучая дрожь. За два неполных месяца, что оставались до сентября, Софья Андреевна сильно опустилась, обрюзгла, стоптала туфли в каменные опорки. Особенно когда она, пытаясь помолодеть для Ивана, покрасила свои густейшие жесткие волосы в парикмахерскую желтизну, стало заметно, что у нее лицо алкоголички,– так что даже завуч Ирина Борисовна, отпускная и золотистая, как свежий батон, встретив Софью Андреевну в универмаге, поставила брови углом над округлившимися глазами и не поздоровалась. В тот день, когда Софья Андреевна узнала в женской консультации о своей беременности, две суровые нитки протянулись с концов ее опущенного рта, чтобы после разветвиться по всему лицу: дочь, когда подросла, принимала материнские морщины за нервы, про которые говорили по телевизору. От постоянного, почти не замечаемого голода у Софьи Андреевны звенело в ушах.
глава 14
Всё-таки именно в эти месяцы до свадьбы Софья Андреевна только и любила Ивана по-настоящему. Иван то появлялся, то исчезал: случалось, звонил неизвестно откуда в учительскую (превращавшуюся при лягушачьих звуках его голоса из трубки в какой-то отрешенно-внимательный, автоматический в движениях механизм),– звонил, велел дожидаться его вечерком, а сам возникал из нестерпимо почужевшего и как бы опрощенного пространства денька через три, веселый, дышащий горячими спиртовыми парами, совершенно не видящий разницы между своим объявленным приходом и этим, полагавший, что выполнил обещание просто немного времени спустя. Опаздывая таким нечеловеческим образом – словно время не делилось и не различалось для него по суткам и ему не требовалось ни есть, ни спать,– он всегда прибегал запыхавшийся, выигравший напоследок несколько минут, страшно собой довольный. Один раз – и через годы, в свои невеселые праздники, Софья Андреевна вспоминала этот возмутительный случай с необъяснимой нежностью,– один раз он даже гнался за ней по улице, свистящей грудью в сбитом на сторону галстуке наскакивая на встречных. Обернувшись на посторонний шорох, Софья Андреевна увидала дикую фигуру, странно кривоногую на резком, яростно топочущем бегу. Большие перепончатые листья тополей, уже летавшие над улицей, степенно черпая холодный августовский воздух, вились над фигурой, словно птицы преследовали обезумевшую жертву,– и когда осклабленный Иван налетел, Софья Андреевна вдруг ощутила себя такой молоденькой, какой не бывала ни разу в жизни, и стоило ей вспомнить этот миг на загроможденной предпраздничной кухне, как она уже не могла совладать с обидой, готовой гнать ее от кухни и от дочери на край земли.
Случалось, и Иван, не желавший ни знать, ни учитывать рабочего расписания Софьи Андреевны, дожидался ее прихода. Но при этом он не впадал в ожидание, которое у Софьи Андреевны постепенно тормозило все ее дела и в конце концов выставляло ее неодушевленным предметом на поверхности прочих вещей – оставляло лежащей на поверхности своей измученной постели точно в такой же позе, в какой Катерина Ивановна нашла ее мертвой, уже не имеющей отношения ни к опрокинутому стакану, ни к горящему на полу ночнику. Софью Андреевну умиляло, что Иван, не застав ее дома, не уходит, сидит на лестнице (ей ни разу не ударило в голову соединить неприличные рисунки простым карандашиком, что засеребрились тут и там по угрюмой покраске стены, и его неунывающий досуг),– но однажды, вернувшись после родительского собрания, она обнаружила Ивана уже у соседки. Вернее, он обнаружился сам: они оба вывалились на площадку, едва заслышав, как Софья Андреевна открывает свой замок: соседка, крючконосая ученая дама, обыкновенно никого вокруг не замечавшая, распиналась разными позами между своих косяков и дышала глубоко, округло, будто марля, натянутая на форточку.
В скором времени Иван перезнакомился со всем подъездом: эти люди, каждый больше со своей манерой сбегать по ступенькам, чем со своим лицом, бывшие для Софьи Андреевны скорее порождением лестничных пролетов, чем такими же, как она, жильцами, вдруг обрели физиономии и разобрались по квартирам, откуда высовывались, стоило Ивану кашлянуть внизу. Все они испытывали к нему какие-то чувства вплоть до ненависти – со стариком из двенадцатой квартиры Иван вообще подрался, вырывая из его угловато махавших рук то, что старик яростно хватал у себя в прихожей,– смутные личности, начинавшие здороваться друг с другом только возле собственного крыльца и в городе друг друга не признававшие, вдруг слились чуть ли не в коллектив, и чем живее делались их отношения с Иваном, тем более чужды становились они для Софьи Андреевны.
Во все совместные месяцы Иван, вторгшийся в ее налаженную жизнь с бесцеремонным и бездушным любопытством, как бы заслонял от нее людей, забирая их целиком себе и замещая одним собой; даже математик Людмила Георгиевна, которую Софья Андреевна считала чем то вроде подруги и с которой иногда ходила в кино, после культпохода втроем стала казаться непонятной, чересчур перетянутой в талии, перекошенной, со своим аналитическим умом, хозяйственными сумками,– в результате между ними надолго установился натянутый тон изживаемой ссоры, в действительности никогда не бывшей и не имевшей причин произойти. Все-таки Софья Андреевна не могла себя переломить и, представляя Ивана знакомым, сразу начинала держаться так, точно не его, а ее только что ввели в компанию и представили невестой. Она не знала, как много было в ней при этом девичьего, милого, как покорно круглились ее могутные плечи, как хорошо горели новые сережки в малиновых, еще припухлых после косметической иглы ушах. Но знакомые, замечая в Софье Андреевне неожиданную и позднюю красу здоровенной крестьянской девки, все-таки и сами отдалялись от нее: интеллигентская интуиция подсказывала им, что она говорит и держится именно так, как чувствует, и что рядом с хамоватым парнем в цветной рубахе и в широченном, украшенном бляхами брючном ремне они теряют для Софьи Андреевны всякое значение, попросту оказываются забыты.
В то предосеннее, пустое, ветреное время, с прищуром солнца из-за посеревших облаков, Софья Андреевна, впервые жившая во всем огромном продуваемом пространстве, готова была отдать Ивану все и вся – готова была сказать «не мое» про что угодно, вплоть до собственного исландского свитера, который Иван надевал лишь однажды, и после этого Софья Андреевна чувствовала к свитеру что-то вроде вражды, когда он приманивал мягкостью, приятным узором. Полнота ее отречения была такова, что за считанные недели вокруг нее образовалась как бы пустыня с напряженным, ровным, до предела натянутым горизонтом,– а потом, когда Иван ушел и люди вперемешку с вещами, постаревшие и поблеклые, проступили на своих местах, Софье Андреевне стало не по себе, будто она вернулась из долгого путешествия куда-нибудь в Африку, а здесь все необратимо переменилось и не желает ее принимать. Ей даже чудилось иногда, что какая-то другая, правильная Софья Андреевна продолжает жить в квартире с призрачной от пыли полированной мебелью и низким лучом между штор, дает уроки, выступает на профсоюзных собраниях. Часто, открывая дверь ключом, она боялась столкнуться с настоящей хозяйкой, поразительно знакомого и в то же время чуждого облика, какой замечаешь вдруг в неожиданном зеркале и отождествляешь с собой скорее по шляпе или блузке, признавая их своими. Она вполне была готова счесть темноватую скользящую фигуру во всегда раскрытой зеркальной створе шифоньера другим человеком – тем охотнее, чем ярче были на страшноватой женщине полузастегнутые вещи. Худолицая и толстобрюхая, похожая на небольшого динозавра, женщина была неуловима – только иногда удавалось встретиться с ней ладонями, коснуться ее необычайно бледной, словно выходящей из воды руки. Софье Андреевне понадобилось больше года, чтобы снова совпасть с собой: выправить жизнь, вернуться на работу, снова начать раскланиваться с соседями, поначалу только хмыкавшими на разные лады. Все со временем сделалось так, как должно было быть, и от пережитого осталась одна девчонка, которая только и могла теперь, что по-своему искать совпадения с Софьей Андреевной, перенимая еще неготовыми чертами ее асимметричные гримасы и несколько раз за младенчество меняя цвет волос, чтобы через положенный срок достигнуть совершенства.
Впервые услыхав про будущего ребенка, Иван раздулся от самодовольства, начал покрикивать на засуетившуюся Софью Андреевну потребовал себе из серванта болгарское вино. Вытянув бутыль бордовой кислятины под пустые, как калоши, огурцы из прошлогодней банки (Софье Андреевне заботливо подливая из крана белесой шипящей воды), он ушел по просиявшему после дождя двору в недельный запой и вернулся мрачный, с толстой и невероятно грязной варежкой бинтов на правой руке, о своем отцовстве начисто забывший. Понадобилось несколько напоминаний, чтобы это окончательно устроилось у него в голове. Каждый раз он с легкостью соглашался стать счастливым папой и даже начинал перебирать серьезные мужские имена. Софье Андреевне при мысли, что, возможно, будет мальчик, делалось страшновато, вспоминались большие пацаны в замызганных майках и кепках, что гоняли на мотоцикле стахановца по пустырю, похожему на бок исчирканного спичечного коробка, и дразнили ее врагом народа,– а после все до одного погибли на войне, происходившей, по тогдашним представлениям Софьи Андреевны, не на реальном земном пространстве, а сразу в загробной области, куда через город, лязгая и разрываясь катящимся грохотом, ползли товарняки. Пропадать за горизонтом было всеобщим свойством мужчин, уходы Ивана в запой или неизвестно куда были как бы слабыми и пробными проявлениями его естественной природы. Оттого, когда он чудом возвращался, Софья Андреевна тайно гладилась щекой о его одежду, мокрую на вешалке поверх ее сухих вещей, словно испытавшую воздействие иных погод, и чувствовала смутную неприязнь к ребенку мужского пола, пока что ей ненужному. Мальчик мог немедленно вытеснить и отнять у нее Ивана, потому что двое мужчин в семье были бы чем-то невероятным, какой-то буржуазной, чужеземной роскошью вроде двух автомобилей, и чем-то донельзя опасным, почти противозаконным.
Так же легко – и даже сердясь, что ему повторяют опять,– Иван соглашался жениться на Софье Андреевне. Но Софья Андреевна знала уже, что это ровным счетом ничего не значит, что Иван не отличает обещания от дела и так и будет впредь отлынивать от скромного похода в загс, располагавшийся всего-то через два квартала, в бревенчатом флигеле с домашними занавесками и высоченным расшатанным крыльцом, откуда с букетом на локте, осторожно пробуя ступени каблуками, каждые полчаса сходила новая невеста в трепещущем крепдешине. В ответ на малейшую настойчивость Софьи Андреевны – а выпадали такие замечательные дни, с такой текучей, солнечной игрой багряных листьев, щедро сыпавшихся на головы прохожих, что не надо было покупных цветов,– в ответ Иван кричал, надуваясь лицом, что она ни во что не ставит его честное слово и требует еще чего-то, будто он не отец своему пацану,– хватал в прихожей брякавшую кожанку и, распяливаясь в запутанных рукавах, набрасывая куртку чуть ли не на голову, выскакивал вон.
Софья Андреевна уже тогда видела все слабости Ивана; его обидчивость, безответственность, ребячески азартную страсть к питию. Устраивая стол и после сидя за ним, Иван словно играл передвигаемыми посудинами и кусками хлеба, причем бутылка была главная кукла: когда он почтительно касался ее горлышком края стопки, его выпяченные губы пришептывали, будто стопка и бутылка что-то говорили друг другу,– а потом, красивым наворотом подхватив последнюю, готовую сорваться каплю, бутылка отплывала прочь и становилась на самое видное место с достоинством умолчания и сбереженной тайны. Софью Андреевну и смешила, и злила эта глупая игра, кончавшаяся неизменно вне пределов ее досягаемости, в каких-то общежитиях и кочегарках, с изнанки нормального города,– она еще и потому хотела поскорее расписаться с Иваном, чтобы ему некуда было идти дальше ее квартиры, негде напиваться и набивать синяки. Эти синяки, зеленые и твердые, похожие на неспелые сливы, и лиловые, с мякотью, Похожие на сливы перезревшие, делали лицо Ивана старообразным, бабьим и особенно сердили Софью Андреевну тем, что не могли укрыться от ее знакомых и никак не вязались с их представлениями о ее достоинствах, превращая ее с Иваном союз в нечто непропорциональное и непрочное.
В то же время непредсказуемый, не дающийся в руки Иван представлял для нее источник странного очарования, сладостных мук. Именно от него зависела теперь ее судьба, нормальный и правильный ход которой она всегда обеспечивала отличными отметками, пионерской активностью, безупречной аккуратностью тетрадей и конспектов, казавшихся буквально, будто прописи, образцами для подражания. Чтобы избавиться от тени, бросаемой на нее арестованным отцом,. Софья Андреевна всегда стремилась на яркий свет: на трибуну, в президиум, в первый ряд университетского хора, хотя почти не имела голоса,– избегала заводить какие-то собственные тайны, инстинктивно вся и целиком держалась на виду. И теперь, когда весь ее труд, сделавший ее достаточно видным человеком, мог быть перечеркнут одним отказом Ивана жениться, он представлялся Софье Андреевне могущественным, будто античный герой; в его сощуренных глазах, в спадающем на них остром клочке волос ей мнилась железная воля; один его особенный разворот плеча отзывался в ней ударом сердца, шедшим не прямо, как обычно, а куда-то вниз, сладкой кровью стекая до колен. Случалось, что без Ивана, среди ночи, полной мягкого, плодового стука дождя, на Софью Андреевну находила жертвенная покорность. Она воображала, как будет одна растить ребенка и принимать своего мужчину, когда бы и каким бы он ни пришел. Сразу отпадала необходимость чего-то требовать от Ивана, куда-то его тащить, и вместо обычной решимости добиться своего Софья Андреевна ощущала незнакомое телесное томление. Хотелось что-то сделать с собой, обо что-то потереться, выгнуться колесом: Софья Андреевна, лежа на животе, подгребала под себя постель, возила коленями по неласковым складкам, будто младенец, который учится ползать. Иногда размаянной Софье Андреевне удавалось заплакать: слезы, теплые, будто молочные, безо всякого жжения омывали пышущее лицо. Она оглаживала свои колени, обивку дивана, подлокотник: все требовало прикосновения, ласковой пытки. Ужасно были соблазнительны всякие дырки, прорехи: однажды в таком состоянии она разодрала по шву старую подушечку, расшитую бисером,– там обнаружился дурно пахнувший блин коричневой ваты и распадавшаяся на осьмушки ветхая листовка, старинным шрифтом, с крестиком почти над каждым словом, призывавшая к политической стачке.
Если бы Иван хоть однажды явился к Софье Андреевне в такую минуту – и не просто явился, а, поняв значение корки горелого сахара на ее пересохших губах, сумел бы сделаться для нее безликим, как бы неузнанным, сумел бы пожалеть ее своими руками и стать ее новым осязанием, которым она бы ощутила самое себя,– тогда, быть может, Софья Андреевна стала бы другим человеком, умеющим изживать обиды, а не накапливать их, как единственный свой капитал.
Но ни разу не вышло совпадения: Иван по большей части возникал в обычные, трудовые часы, когда выносливое тело Софьи Андреевны бывало поглощено усилиями стирки и готовки и не чувствовало даже укусов масла, стреляющего на сковороде. Бодрая, заранее настроенная, что надо заниматься этим, полагающая через это обязать Ивана благодарностью, Софья Андреевна подчинялась ему с принужденной улыбкой и старалась (чтобы он не трогал) как можно больше снять самой: скорей запихивала под простыню скомканное бельишко. Всегда получалось грубо, тяжело: мокрые всхлипы вспотевших тел, суматошные толчки. После первого раза в сарае поцелуи у них даже в минуты близости сделались почти запретны, оба отворачивались и мотали головами, будто пассажиры троллейбуса, случайно стиснутые давкой. В результате Софья Андреевна чувствовала только жжение и позывы бежать в туалет. Глядя на лоснящегося, моргающего Ивана, она прикидывала, что, если ей настолько плохо, если она платит такую цену, значит, ему должно быть райски хорошо, и испытывала нечто вроде гордости своими женскими качествами.
В глубине души она была готова даже на худшее (сожженные книги и разные смутные отзвуки составили представление о фантастических способах этого, превращающих мужчину в какого-то зверя, что добывает свое удовольствие, терзая женщину до потери сознания). Поэтому Софью Андреевну просто оскорбляло, когда Иван, перекатившись на живот и утвердившись в позе загорающего на пляже, начинал выспрашивать, понравилось ли ей, успела ли она «получить свое». Ей казалось, что Иван пытается уменьшить ее заслугу перед ним, чтобы не быть обязанным жениться. Самая мысль, что она может получать от этого удовольствие, была донельзя оскорбительной и низводила Софью Андреевну чуть ли не до уровня ее десятиклассниц, чьи юбки после каникул настолько укоротились, что форма на них сделалась условной, будто костюмы опереточного кордебалета,– причем красотки были с красненькими, придававшими их передвижениям как бы общий пунктир комсомольскими значками. Софья Андреевна полагала ниже своего достоинства отвечать на вопросы Ивана и лежала перед ним бесстрастная, подоткнув под себя одеяло (ему она купила отдельное за тридцать рублей). Даже когда Иван начинал сердиться и пихаться локтем, Софья Андреевна не произносила желанных ему примирительных слов, потому что это было бы слишком, было бы уже идиотизмом самопожертвования. Наконец Иван, ругаясь сквозь зубы и наворачивая на себя постель, переваливался лицом к стене. Тогда освобожденная Софья Андреевна тихонько выпрастывалась и, натянув халат, первым делом собирала по комнате вещи Ивана, поглядывая на него то оттуда, то отсюда, не веря ровному шуму его неподвижного сна. Вещи, взятые в руки, распадались: от кальсон отваливался заскорузлый комочек носка, второй продолжал висеть на штанине, как кукиш; выскальзывал и брякался брючный ремень, из карманов сыпалась сорная всячина. Не все удавалось найти, и так грустно бывало после, одной, обнаружить закатившуюся конфету в проклеенном фантике или медную зажигалку, из которой после многих нажимов и срывов, оставлявших на пальце рубец, высекался голубоватый и хилый, как пух; огонек. Раз из кармана брюк с легкостью фокуса поплыло, исторгая новые и новые картинки, нечто вроде колоды игральных карт. Нагнувшись, Софья Андреевна не сразу поняла изображения: поначалу ей померещилось, что это сцены убийства полураздетых женщин, вспомнились милицейские уличные стенды с жирно пропечатанными фотографиями преступников, как бы ищущих в кучке зевак ответного черного цвета для предварительного опознания. Однако снимки, расстелившиеся по половицам, не были просто черно-белыми. Фломастером, от руки, Иван разрисовал простертым жертвам то, что, вероятно, казалось ему красивым. У одной блондинки губы и сосцы получились малиновые, а волосы цвета сырого желтка, у какой-то другой, размером поменьше, ярко зеленели трусики и туфли. Что-то отозвалось в душе у Софьи Андреевны – в детстве раскрасить значило полюбить,– но вдруг она, просто потому, что преступники на снимках были исключительно мужчины, догадалась, что убийства имеют отношение к этому. В следующую секунду она поняла, что перед ней именно это и ничто другое,– вспомнила, как на педсовете кто-то говорил, что такие снимки продаются на вокзале, в электричках. Сразу красноротые женщины, ужасные в соединении полуголых тел и улыбающихся, ничего не ведающих лиц, похожие на трупы или вскрытые кукольные механизмы, сделались живыми, и Софья Андреевна, никогда и никого не признававшая таким же, как она, неожиданно ощутила себя одной из них, со всеми их особенностями под своим несвежим байковым халатом. Через какое-то время она осознала, что стоит на четвереньках над рассыпанными карточками, а Иван, приподнявшись на локте, глядит на нее настойчивым взглядом, одновременно умоляющим и злым, каким отличник смотрит на двоечника, вызванного к доске, без слов пытаясь внушить спасительную подсказку. Эта попытка сделать размякшую Софью Андреевну такой же, как остальные, едва не стала успешной: Софья Андреевна на том неметеном полу едва не забыла и свои крахмальные воротнички, и проценты успеваемости, и все свои старания, чтобы арестованный отец, вернувшись, не признал своей пионерку с одними пятерками, студентку с тугими пуговицами до горла, передовую учительницу.
Однако, сделав над собой надлежащее усилие, Софья Андреевна собрала фотокарточки, плотно завернула их во вчерашнюю «Правду» и выбросила в мусорное ведро, жалея, что не может сжечь и избавить Ивана от соблазна выкапывать свое сокровище из мокрых очисток и рваных бумажек с могучими черными сургучами. С тех пор единственную мужскую обязанность по дому – выносить ведро – Иван целиком предоставил ей самой, а однажды Софья Андреевна обнаружила в ведре свои почетные грамоты, где профили вождей пропитались, точно гноем, пятнами жира с томатом. Первой мыслью было, что раньше Ивана за это отправили бы в лагеря, и вместе со вспышкой желания, чтобы его действительно посадили, Софья Андреевна почувствовала тоску. Она поняла, что его, наверное, действительно посадят или он исчезнет по какой-то иной причине, как исчезали все мужчины из их провинциальной благонамеренной семьи. В сущности, странное поведение – сперва вцепиться в мужика и женить на себе, а через считанные недели выгнать из-за обычной пьянки, не бывшей новостью даже для замужних членов ее учительского коллектива,– объяснялось, вероятно, именно этой тоской. Возмущенная Софья Андреевна, указывая Ивану на дверь, до которой он только что едва доплелся сквозь мелкую жгучую вьюгу, допадавшись до ледяных мозолей на штанах и пальто, исходила из должного,– но должным была не благопристойная семейная жизнь, якобы диктуемая ее общественным положением, но подспудно осознаваемая судьба остаться в одиночестве.
глава 15
Свадьба, неожиданно многолюдная и крикливая, все-таки сыгралась в конце октября и вышла чуть ли не вопреки стараниям Софьи Андреевны, на чьи осторожные намеки Иван немедленно бросал из рук любое занятие и тащил ее, как была, в прихожую, к отяжелевшей по холодному времени вешалке и резиновым немытым сапогам, якобы сию минуту идти в этот долбаный загс,– и после стоило труда уговорить его дообедать, дочинить телевизор. Дело, как ни странно, решилось тем, что страшнющие Ивановы мужики, среди которых нельзя было узнать ни одного здорового июньского лица, стали доставлять его, пьяного и говорившего басом со всем, что оказывалось у него перед глазами, к Софье Андреевне домой. Частенько часа в четыре ночи раздавался заикающийся от почтения звонок и продолжал неуверенно брякать, пока опухшая, ослепленная электричеством Софья Андреевна бежала к дверям и распахивала их перед площадкой, полной темного, неразличимого народу. Постепенно перетекая на свет, мужики немного уменьшались в росте и числе и обязательно начинали разуваться, сворачивая с ног башмачищи, а после все вели Ивана, приседающего и сощуренного, на готовую постель, выказывая ему явно большее уважение, чем то, каким он пользовался среди них в действительности.
Однажды мужики заявились обычным порядком, поморгали на лестнице, втекли, наполнив прихожую кислым духом, посвистыванием болоньевых плащиков, развалинами обуви, похожей на мятые ведра,– как вдруг обнаружилось, что Ивана с ними нет, и неизвестно, когда он потерялся на их теперь с трудом припоминавшемся пути по каким-то мостам и мосткам, среди лунных пугающих луж. Мужики топтались перед Софьей Андреевной, красноглазо протрезвевшие, и все обегали друг друга взглядами, точно не виделись с каких-то хороших времен и теперь замечали соленую щетину на мордах, грязь на руках. Внезапно Софья Андреевна разрыдалась, уткнувшись в косяк, и видела только сквозь жгучую муть, как один, матерый, с колючим затылком, утопил в висящие пальто другого, плясавшего на тонких ходульках, полусогнутых вроде очковых дужек, по ее зеленому платку.
Потом мужики каким-то образом исчезли, и прошла мучительная неделя дотлевающей осени, когда последние листья на асфальте превратились в пепел и сетчатые нитки и на улицах сделалось пусто, будто в комнатах, из которых убрали мебель: глядя на знакомые здания, деревья, магазины, невозможно было понять, чего недостает. Отсутствие Ивана было на этот раз особенно тяжело – Софье Андреевне уже начинало мерещиться, что она никогда его больше не увидит.
Однако в воскресное утро, оживленное только звуками соседкиного радио, двое из собутыльников Ивана встали на пороге: на матером красовалась новая кепка, продавившая на твердом лбу владельца глубокий розовый след, а на втором топорщились новые брюки, измятые по-магазинному и казавшиеся в соседстве засаленного пиджака пошитыми из бумаги. Осторожно вращаясь и поглядывая через плечо, они внесли на кухню тряский ящик водки. Затем, в течение дня, появились коробки с вином и трехлитровые банки с расплющенными о стекло соленьями, также сопровождаемые полузнакомыми и полуприодетыми людьми.
А в понедельник днем, когда раздосадованная Софья Андреевна ерзала с кастрюлями среди чужого склада, влетел воскресший Иван, и Софья Андреевна с суеверным трепетом увидала у него на шее, почти за ухом, черную засохшую царапину, похожую на чудом затянувшийся надрез,– а потом этот волос отлип, не оставив шрама. Сияющий Иван самодовольно ухмылялся до ушей (из-за этой косой ухмылки было страшно глядеть на горло), а пухлый шелковый галстук и двустворчатый костюм коричневого мебельного цвета были так великолепны, что обновки прежних посетителей казались только предзнаменованиями этого парада. Возбужденно покрикивая на Софью Андреевну, Иван теперь уже действительно заставил ее переодеться, собрать документы,– а Софья Андреевна сделалась вдруг бестолкова, перед глазами у нее запрыгали блохи, и когда она доставала паспорт из-под стопки белья, дом, сотрясаемый грузовиками, задрожал и взревел, будто у него по примеру тяжелой техники тоже завелся мотор.
С понедельника все и поехало. В деревянном флигельке районного загса все было так, будто он шлакоблочный,– официально, белесо, холодно; это вызывало почему-то недоверие к наружному пейзажу, не тянувшемуся, а повторявшемуся в нескольких экземплярах из окна в окно, размножая ярко-желтую телефонную будку. Здесь отдавало переездом или незаконченным ремонтом, обшарпанные предметы мебели не соединялись в обстановку и казались временно составленными в коридор. Пока Иван совался из двери в дверь, Софья Андреевна на жестком стуле чувствовала себя словно в мастерской фотографа, где не сидишь, а изображаешь сидение,– и лицо у нее было лошадиное, как на фотокарточках, всегда неузнаваемо ее менявших.
Им назначили день регистрации, и поток посетителей в квартиру Софьи Андреевны еще усилился. Теперь, проговорив на уроках положенный материал, Софья Андреевна почти все время проводила дома. Она принимала новые припасы, принимала деньги, передавала их кому указано: справно одетым женщинам, глядевшим из платочков, как из норок, и внимательно считавшим, отслюнивая их к себе, тряпичные десятки и рубли. Софье Андреевне их шепчущий многопалый пересчет напоминал гадание по ромашке «любит – не любит», и с необъяснимым перед свадьбой чувством утраты оживали в памяти деревенские вечера, странное одиночество посередине гаснущей земли, где все в пределах горизонта передвигалось медленно, словно стежками, протягиваясь длинной нитью через каждый стежок,– и ниоткуда не могло свалиться неожиданное будущее. Теперь же все происходило внезапно и помимо воли Софьи Андреевны. Среди приносимых и уносимых грузов она заметила однажды полуразваленный сверток, и, когда попыталась перевязать его шнурком, из него потекли, шурша и скользко шлепаясь в кучу, целлофановые упаковки дефицитных колготок. Одна из женщин, приходившая не раз и по другим делам, оказалась портнихой. Не спросив у Софьи Андреевны, она разметала по столу легчайший жоржет, ухватисто обмерила невесту, забираясь ей под мышки, защипывая ногтем цифру на сантиметровой ленте,– и чем-то были неприятны ее одышливые полуобъятия, прикосновения холодного потного тела, напоминавшие о полуразмороженной, что ли, печени в полиэтиленовом мешке. Портниха работала не покладая рук: даже по ночам в ушах невесты раздавалось мерное, хриплое хрумканье ножниц, шепелявый перестук разболтанной швейной машинки, впервые за долгие годы освобожденной от фанерного чехла. Все-таки платье получилось мешком, и портниха без конца убирала его, напялив на Софью Андреевну швами наружу, и одутловатая невеста в этих перестроченных швах походила на рыбину с колючими плавниками.
В самый разгар приготовлений приехала мать Ивана и бурно вселилась в квартиру, с великим шумом протащив по полу до комода, дверь которого он припер, свой чудовищно раздутый чемодан. Там, как выяснилось позже, уместилось обзаведенье молодоженам: новая подушка и тулуп. Эта зычная баба, со щекастым лицом цвета мороженой картошки и фронтовой медалью на городском жакете, совершенно подавила притихшую Софью Андреевну, но и сама почему-то побаивалась ее. Опасливо, когда, как ей казалось, на нее никто не смотрит, будущая свекровь приотворяла створки, приподымала крышки, щурилась в щели, будто искала наводки на резкость, особенного острого угла. Однажды Софья Андреевна застала ее, когда свекровь, дрожащими пальцами держа на весу обложку, заглядывала в верхнюю из проверенных тетрадей, и на лице ее читалось почтительное изумление. Так бродила она, ничего, даже легкой тетрадки, не беря в могучие руки, ничего не сдвигая с места, будто бесплотный призрак. Шаг ее был увесист и вместе тих: она не топала, но как-то наполняла всю квартиру своим тяжелым присутствием, обозначенным только тонкими и нежными звуками: всхлипами стопок фарфора, пением стекла. Вечера наедине с новоявленной родственницей бывали нестерпимо тяжелы и кое-как проходили за картами, которые у свекрови стелились, льнули, играли гармошкой, буквально расцветали букетами,– а у Софьи Андреевны сразу же разваливался этот шелковый механизм, и приходилось лезть за потерей под стол, где темнели две огромные ноги в шерстяных носках и в мужских клеенчатых шлепанцах. Выбираясь наружу с картой в кулаке и пылью в носу, Софья Андреевна ловила на себе сощуренный свекровкин взгляд, точно такой же, каким она прилаживалась к щелям, настраивая самодельную оптику,– взгляд, слишком поглощенный смотрением, чтобы выражать еще какие-то чувства,– и тогда она ощущала себя лежачим предметом в глухом пространстве: темнота, покорность, покой.
Беременную Софью Андреевну, еще не животастую, но уже косолапую, рано ставшую осторожной в движениях, совершенно отстранили от приготовлений к торжеству. Между тем приготовления шли, и однажды Людмила Георгиевна, ладошкой поддержав под локоть бывшую подругу, боком слезавшую по главной школьной лестнице в вестибюль, сообщила, что Иван без нее заявлялся в школу, всех приглашал на свадьбу, едва не вырвал замок на запертой двери в директорский кабинет,– и с ним была какая-то женщина, очень веселая, в размазанной помаде и сияющих очках, вероятно, кто-то из родственниц. Доставая ногой ступеньку, Софья Андреевна едва не споткнулась: по вздернутым очкам и манере появляться в дверях, занимая их собою будто раму картины (что было особо отмечено наблюдательной Людмилой Георгиевной), она признала соседку, принимавшую какое-то особое и тайное участие в готовящемся празднике,– и потом, во все свои пустые праздники, которые обслуживала исключительно своими руками, Софья Андреевна мстительно припоминала Ивану, в числе других преступлений, и эту позорную связь. Стоя у окна спиной к оцепенелой комнате, где, угрожая своей беспорядочной массой валким безделушкам, свежо и дико чернели охапки цветов, она с торжественным лицом упивалась воображаемыми сценами измены: как напыженный Иван крестом разбрасывает объятья, а соседка виснет на его покрасневшей шее, дрыгая ногами, и с одной ноги слетает туфля. Софья Андреевна с особой силой представляла себе, как преступные любовники, поразив своею наглостью учительский коллектив, выскакивают в школьный сад и гоняются друг за дружкой среди голых яблонь: соседка несется, взбалтывая юбку, и в руке ее призывно трепещет газовый платок. Софья Андреевна была убеждена, что между Иваном и соседкой регулярно случалось это: вероятно, Иван, поднявшись на второй этаж, довольно часто медлил между двумя дверьми, и если только соседкина дверь оживала и жмурилась щелью, немедленно бросался туда, заставлял свою вертлявую добычу быстро пятиться до самой койки,– а дальше воображение Софьи Андреевны рисовало одну из Ивановых вокзальных открыток, что продавались, вероятно, в подземном переходе, у подшитых, как валенки, страшных безногих калек.
Софья Андреевна была уверена, что из-за большей тяжести преступления Ивану приятнее с соседкой, чем с ней. Эта высокобровая узкая дрянь выигрывала только потому, что готова была на безобразия, до каких порядочная женщина никогда бы не опустилась,– и через много лет, в течение которых соседка гнулась и оплеталась морщинами, Софья Андреевна не перестала ее презирать. Наказанная за распутство вихляющей хромотой, опозоренная уехавшими в Израиль племянниками, безобразно усатая – два седых шипа в углах лиловых губ,– она так медленно ковыляла по двору под своим горбатым, изломанным зонтом, что можно было сойти с ума от ненависти. Завидев издали Софью Андреевну, профессорша не устремлялась прочь, а прижималась к какой-нибудь стене и замирала, глядя в ужасе сквозь толстенные кругляши очков, словно налитых влагой. Чтобы не длить оскорбительную встречу, Софья Андреевна вынуждена была буквально спасаться бегством от этих перекошенных плечиков и стиснутых пакетов с продуктами, от треска ломаемых там макарон. Получалось, что соседка, стоя на месте, разъезжаясь палкой и тонкими черными ножками по асфальту, оставляла поле битвы за собой, и Софья Андреевна не могла не признать, что в ней до сих пор оставалось нечто особенное, какая-то вязкая сладость вяленого абрикоса,– а ее носильное бельишко, что сохло иногда на голом балкончике, заслоняя от взглядов прозрачное и словно бы стерильное окно, все было отделано желтыми, жеваными, как остатки апельсинных долек, огрубелыми кружевами.
Соседка по-прежнему принимала тайное участие в жизни Софьи Андреевны: на ее измочаленной шее частенько розовел платок, несомненно, из тех, что румяными кипами возили на продажу спекулянтки из Ивановой родни; коллеги, изредка и по делу приходившие к Софье Андреевне, осторожно здоровались во дворе с этим усохшим существом, явно не забывая ее скандального визита в школу и саму свадьбу, где соседка, слепая без очков, не подымавшая морщинистых, жирным серебром накрашенных глаз, была опекаема подвыпившей свекровью, гордой успехами сына у женского пола и наверняка тайком сходившей к соседке в гости, судя по звучавшим как-то тупым и коротким ответам рояля, в который опасливо тыкали пальцем, что выдавало хорошо знакомое Софье Андреевне свекровкино любопытство. Собственная Софьи Андреевны дочь брала у вкрадчивой злыдни старые, похожие на мыло леденцы и при каждой возможности совалась в соседскую дверь, требуя у матери купить такое же, как там, большое пианино. Из соседкиной квартиры пахло вместо еды французскими развратными духами и такими же, как у Ивана, дешевыми папиросами. Тем последовательнее Софья Андреевна позорила ведьму письмами на ее консерваторскую кафедру и бросала мусор ей на чистенький балкон.
глава 16
Софья Андреевна глубочайше верила и могла присягнуть перед любым судом, что измена была и совершалась с особым цинизмом, так же как верила и в другие преступления окружающих,– в то, например, что возмутительно бордовые перчатки и рижский дезодорант, выпускавший при нажатии вместо мощной пыли слабенький плевочек беловатой микстуры, дочь, чтобы подарить одураченной матери, буквально украла на улице, стащила у какой-нибудь зазевавшейся женщины или даже у двоих. Едва увидав на холодильнике вместо привычного и с душевным терпением ожидаемого рисунка эти пришлые дары, Софья Андреевна сразу же подумала о воровстве и больше не могла заниматься рисом для пирога, густо шлепавшим в кастрюле и уже подгоравшим.
Гладко причесанная, мелко дрожавшая дочь на любые ее слова только улыбалась медленной улыбкой и скользила подальше, перебирая ладонями за спиной и иногда нечаянно хватая терку, полотенце. Софья Андреевна хотела сразу выбросить дары в ведро, но оно оказалось полным доверху и стояло с приветственно приподнятой крышкой, под которой в свою очередь топорщилась разинутая банка из-под сельди иваси. Вслед за этим случился один из самых бурных ее душевных подъемов, праздник гордости и горечи, происходивший в комнате с одной неполноценной половиной, являвшей без Ивана смутную пустоту. Если бы кто-нибудь в эти высокие минуты сообщил заплаканной Софье Андреевне, что все в действительности так и было – девчонка своровала вещи у артистки музкомедии, а Иван имел с соседкой сладкую любовь и даже съездил с нею на три дня в Москву,– она бы сочла осведомителя наглецом, косвенно одобряющим при ней подобные безобразия. Но если бы она смогла каким-то образом самолично и неопровержимо убедиться в грубой правде жизни – что дочь, например, поедая липкий снежок с землей, действительно мечтала заболеть и сделаться несчастней беспомощной матери,– Софья Андреевна была бы потрясена. Это было бы такое оскорбление, какое она, возможно, не сумела бы уже переработать на топливо для своих одиноких торжеств. Картины, создаваемые у нее в уме, удивительно точно совпадали с реальностью (с ноги соседки, когда она обнимала Ивана, правда сваливался шлепанец, и с тех пор, вспоминая об этом мужчине, она ощущала себя босой даже в зимних своих окаменелых сапогах). Однако эти картины отличались от жизни особой театральностью: Софья Андреевна чистосердечно ее не замечала, но выдавала раздирающими жестами, которые наблюдатель с улицы, различи он за ледяным стеклом трагический силуэт, принял бы за попытку распахнуть окно и выброситься в лужу. В сущности, горькие истины не нуждались в подтверждении: высказанные вслух, они должны были устыдить людей, как знаки душевного состояния Софьи Андреевны, вызванного всеобщей черствостью, должны были заставить их в порыве раскаяния броситься к ней, умолять… Она воображала свой настоящий праздник в виде собственных похорон – потому что все равно не сумела бы простить и остаться ни с чем. Единственным разрешением ситуации могла бы стать, среди бури слез и насморочного рева оркестра, ее неприкосновенность в простом и строгом гробу: грешники, обнимая друг друга, будто сумасшедшие слепцы, не находили бы ни в ком замены недосягаемой Софье Андреевне и рвались бы из обманувших рук, не имея уже другой опоры, падая на пол. Воображение Софьи Андреевны работало в однажды найденном ключе. Собственно, драматические ее подозрения казались не связанными с реальностью хотя бы потому, что участники представляемых сцен выражали свою сущность едва не на пределе физических возможностей: их ноги страшно топали, грудные клетки вздымались экскаваторными ковшами, глаза, исполненные страсти, лезли из орбит. Выходило, что на самом деле обвиняемым были просто не под силу гнусности, бывшие художественными гиперболами их каждодневных обычных грехов,– но ирония заключалась в том, что Софья Андреевна почти всегда угадывала правду. Если бы только она могла увидеть, с какой небрежной грацией ее воровка-дочь потянула с подоконника кожаную торбу, в то время как на нее летел атласными и плюшевыми спинами завалившийся хоровод, ведомый вокруг пересохшей, сжигаемой гирляндами и солнцем новогодней елки красногубой Снегурочкой с глубокими артистическими морщинами под очень трезвыми глазами! Если бы Софья Андреевна могла наблюдать, как Иван легко качает на коленях голую соседку, как они весело едят тремя руками на двоих, подхватывая с вилки падающие куски! Она бы сочла их просто демонами во плоти и испытала бы то, чего ни разу не почувствовала в жизни,– полное бессилие. Вероятно, столкновение с реальностью сломало бы ее и превратило в безобидное животное с мутью в тепловатом взгляде, с единственной радостью покушать и с восстановленной по самым простым рефлексам на окружающее способностью орать. Но ее почему-то миловало Верховное Существо. Возвышенный огонь обиды пылал у нее в душе, жарко питаясь любым впечатлением, даже бессмысленной игрою в темноте с дезодорантом и перчатками. Софья Андреевна, думая о своем, потряхивала баллончик и, услышав всхлип, подставляла ему, чтобы он доплюнул, широкую ладонь: руки ее в едва налезших перчатках походили на толстые морские звезды, не совсем развернувшиеся.
Однако, наплакавшись и напевшись, Софья Андреевна очнулась и, с отчетливо очерченным румянцем на щеках, запаковала только что обласканные вещи в мокрую бумагу из-под цветов. Сверток получился неловкий и как бы полупустой – вещи там, внутри, не подходили друг другу,– но Софья Андреевна не собиралась мириться с их присутствием и не желала даже на ночь оставлять их не отчужденными от честно заработанного своего. На внезапно озарившейся кухне грязная посуда, подбоченясь, являла объедки неприготовленного ужина; тесто вылезало из миски перепончатым пузырем – увидев его при свете, девчонка запустила туда пятерню, и сразу в миске ничего не осталось, кроме тягучих нитей на растопыренных пальцах и липких ошметков по краям. Не из чего было восстанавливать праздник, и следовало ждать утра, чтобы избавиться от свертка, выложенного на виду, на тумбочке в прихожей.
Наутро Софья Андреевна с дочерью долго ехали в холодном трамвае, который то без конца заворачивал, протягиваясь вдоль стучащих по нему ветвями кустов, то мчался по незнакомым пространствам с отдаленными громадами многоэтажек и кучками пассажиров на остановках, черневших среди метельного безлюдья, возле урны и поломанной скамьи. Софья Андреевна, сурово глядя мимо всего, размышляла, что девятого марта стол находок может и не работать, а замерзшая девочка удивлялась, отчего они отправились так далеко на незнакомом номере, если милиция есть буквально в двух шагах, в деревянном доме, где высокое крыльцо и на окнах крашеные решетки. Накануне, скармливая дочери вместо праздничного ужина вспузырившиеся, похожие на шляпы мухоморов, ломти жареной колбасы, Софья Андреевна повторила несколько раз, что завтра поведет ее в милицию, и девочка сжималась от мысли, что теперь непременно достанется Колькиной матери, работавшей в тюрьме, а вовсе не волнующим незнакомкам, которых даже поиски пропажи не могли удержать на месте, и они, поозиравшись, уходили – мгновение не успевало остановиться, чтобы из ближних друг к дружке девочек и женщин сделать новых дочерей и матерей.
Вероятно, мать везла ее в какое-то особое милицейское отделение, специально занимавшееся малолетними ворами. Они сошли посреди белесой всхолмленной пустыни и, как только трамвай, заметая рельсы, нырнул под уклон, очутились одни. Серое небо неуловимо рождало колючие белые точки – на фоне зданий с одним большим горящим кубом магазина, неоглядной равнины смиренных гаражей трепет легкого снега был неразличим, но делал призрачным все, кроме самой поверхности земли, где по черному льду волочилась, внезапно замирая яркими языками и снова срываясь с места, драная кисея. На этой бетонной окраине туманные башни и циклопические стены со свистящими арками вздымались безо всякой связи и порядка: вместо улиц были коридоры сыпучего ветра, налетавшего из-за любого мутно-серого угла и непонятно как выбиравшего из разных направлений пустоты, где даже нечего было взвихрить с тротуара; девочка долго смотрела, как ветер подбирал, ронял и, запнувшись, снова подхватывал единственную среди всей метели голубую пачку из-под сигарет. В это время мать, запрокинув голову, пятилась на кучу не то остроугольных снежных комьев, не то побитых камней. Громадные номера на домах проступали из морока так высоко, что, стоя рядом, невозможно было разобраться с адресом, размытая махина со слабой желтизной в горящих окнах нависала безымянно и совершенно сама по себе,– девочка чувствовала, как болезненно врезаются в ее сознание эти щупающие шажки задом наперед, и висящие руки, чувствовала, как свое, тугое сжатие в материнском затылке.
Сейчас ей было гораздо хуже, чем когда ее вели к имениннице Любке. Девочка полагала, что не вернется из милиции домой: уходя, поглядела так, будто квартира ее теперь и не ждала, вот только жалко было коврика над кроватью – томиться в тюрьме означало для девочки не глядеть сквозь решетку, а спать возле голой стены. Еще сжималось сердце из-за старой настольной лампы, внезапно переставшей включаться,– рядом с мертвой кнопкой на подставке темнели как ни в чем не бывало шесть вишневых косточек из варенья, потребовавших почему-то быть сосчитанными. Как будто лампа представляла собой бог знает какую ценность – но девочка знала, что большинство вещей в квартире, неизменно стоявших и висевших годами, доживет до ее возвращения, а лампа, чью беду ей вечером удалось утаить от матери, читая книжку на тусклой тараканьей кухне, не доживет: мать все равно обнаружит дефект и выбросит лампу на помойку. С собой у девочки был только сверток с украденным – мать велела нести его в руках. Девочка, в общем-то, и не хотела обратно домой, потому что ночью проревелась всласть, пролежала до первого тонкого света, пробившегося словно из-под земли,– такого подземного света она прежде никогда не видела,– и теперь не хотела, чтобы все это пропало зря. Она потихоньку думала о том, какие ребята будут в тюремном классе, какие воспитатели,– а еще о том, что так и не призналась матери в воровстве, потому что признание все равно не угодило бы в цель и было бы просто про другое. Все-таки девочке хотелось, чтобы мать не убегала от нее вперед, не лезла бы на кучи битого, снега, охватывая взглядом заметаемые цифрищи,– побыла бы с ней, будто ведет в больницу.
Но даже когда они отыскали нужный номер – целью их оказалась блочная пристройка над обрывом, куда, едва прицепленный корнями и похожий на колючку, свешивался мерзлый куст и где недалеко белели крыши гаражей,– даже тогда отчуждение не исчезло. Тяжелая, но плохо стоявшая дверь была заперта на один кривой железный зуб, и пришлось дожидаться часа открытия, указанного на табличке, главная надпись которого – «Стол находок» – несколько удивила девочку. Однако она подумала, что таков порядок, и дальше безо всякой мысли глядела на высящиеся вдоль тротуаров и проездов руины прошедшей зимы, мало отличимые по материалу от проступавших из метели зданий, казавшихся случайно уцелевшими,– словно бы зима была вторым, отдельным городом, и не верилось, что одно останется, а другое растает навсегда. Мартовский снег, потекший гуще и белее за последний час, уже не мог быть утрамбован в состав руин и струился по обломкам слоистых плит, будто какое-то другое, не сродное им вещество,– не держался даже в глубоких расщелинах, выметаемый дочиста взмахами легкого ветра.
Девочка замерзла до того, что уже почти не чувствовала ног, тупыми чурками стоявших на выпирающей с ответной твердостью земле; у матери нос горел, простая красная помада на губах побледнела и потрескалась. Она то и дело копалась в толстом рукаве, выпрастывая часы. Наконец дверь протявкала двумя оборотами замка и освобожденно села. Мать и дочь столкнулись и почти в обнимку бросились в тепло, поплывшее на них из полутемного помещения вместе с застарелым запахом кладовки, немытых казенных стен. Впереди, не оглядываясь и будто удирая от посетителей, переваливалась большими и как бы плохо совмещенными половинами зада узкоплечая тетка, вероятно, открывшая дверь. Корпус ее, опоясанный единственной, зато толстенной складкой жира, похожей на спасательный круг, затмил по очереди два окна, бледных и словно растянутых за углы для обострения слабого света, сразу исчезнувшего в трепете люминесцентных трубок, с нескольких попыток прочертившихся на потолке. Почти одновременно тетка и обе посетительницы достигли барьера, делившего помещение на прихожий закуток с угрюмым растением в кадке, хищной позой напоминавшим музейный скелет динозавра, и на казенную часть с многоэтажными рядами стеллажей, упиравшихся в голую далекую стену: там, в глубине хранилища, стоял, неестественно вывернув переднее колесо и как бы преграждая им себе дорогу, гоночный велосипед. Тетка протиснулась в два приставных приема, уронила за собой лоснящуюся досочку на петлях и только теперь, служебно утвердившись, предстала лицом, где преобладали большие, потекшие щеки и лиловые припухлости на месте выбритых бровей, с наслюнявленными карандашиком черными нитками. Теперь она уже не торопилась: выдернула из розетки шепчущий, исходящий слабым паром электрический чайник, ударом бедра задвинула пару каких-то легких ящиков, осторожно, одною стороною рта, пристроилась к обкусанному вкруговую бутерброду с разомлевшей колбасой. Перед нею на столе покоилось обширное вязанье, собранное на спицах мешком: бережно перенеся его к себе на колени, тетка заработала спицами, точно веслами, совершенно, казалось, позабыв о посетительницах.
Во все это время на лице у матери сохранялось очень воспитанное выражение, слегка подпорченное какой-то опаской, заставлявшей ее быстро-быстро скашивать глаза на дочь. Теперь она наконец подступила к хозяйке помещения и заговорила с нею нарочито бодрым и ясным голосом, употребляемым родителями в присутствии детей, но получила в ответ только надрывный вздох, отчего из ворочавшегося на выпяченном животе вязанья выскочил клубок размером с футбольный мяч и мягко стукнулся об пол. Девочка между тем, прижимая к груди распеленавшиеся вещи, завороженно глядела на решетчатые стеллажи, напоминавшие в холодном судорожном свете рентгеновские снимки. Там, будто неизвестные органы, все до одного пораженные болезнями, темнели некие предметы, и девочка, мигая, силилась их распознать. Наконец она различила несколько вроде бы портфелей – все со впалыми боками, грязной желтизною ревматических замков,– и вдруг, стремительно увлекаемая зрением в угол, увидала черную лаковую сумочку стриженой дамы, похожей на птицу. Несомненно, то были останки первой воровской добычи: твердый ремешок сломался на многих сгибах, по лаку вздулись перламутровые волдыри, и сама расстегнутая сумочка стала как будто меньше,– но это, конечно, была она, и теперь по соседству с нею сделались узнаваемы и другие вещи, когда-то украденные и брошенные в городе на произвол судьбы. Все они были тусклы и покрыты пятнами, а главное, странно усохли и лежали каждая наособицу, на расстоянии одна от другой, словно простое соприкосновение, не говоря уже о сваливании в кучу, как это делала с ними девочка на первой попавшейся скамье, могло уничтожить остатки их истраченной сути. Уменьшение размеров делало вещи почти непригодными для пользования: к примеру, рюкзак очкастой гитаристки из стройотряда, на первый, еще не узнающий взгляд напомнивший девочке дряблое сердце, был теперь котомочкой с такими тесными лямками, что если даже ее натянуть, продирая в петли прихваченные рукава, то она усядется буквально на шею, будто хищник, спрыгнувший с ветки. Ни в одну из усохших сумок, не выдержавших своей пустоты, не вошло бы теперь и половины того, что девочка из них вытряхивала, и они лежали в безнадежных позах, обкрученные собственными ремнями, измочаленными в веревки с дерматиновой чешуей. Девочка подумала, что теперь все выйдет гораздо хуже, чем она представляла вначале, все будет длиться гораздо дольше, ведь каждая вещь потребует отдельной процедуры, и придется вспомнить всех потерпевших: их приведут на опознание, и все они увидят, какая девочка толстая, жалкая, засахаренная розовой сыпью, совсем не похожая на них, красивых и таинственных, будто иностранки.
Пока девчонка топталась, разинув рот, мать продолжала уговаривать тетку, шепотом считавшую петли. За спиной у матери уже скопилась очередь из нескольких человек, державших, чтобы закрепить за собою порядковое место, руки на барьере, и какая-то обтрепанная личность с белокурой прядью до кончика носа чуть не прыгала сзади на спины, заглядывала в лица под неприятным углом и все пыталась вставить слово, чего терпеливая Софья Андреевна ей не позволяла, но сама говорила все громче и все раздраженней. Наконец затравленная хранительница стеллажей не выдержала, швырнула свою работу в какую-то корзину и заорала на очередь так, что люди отшатнулись, а на полу произошел словно бы размен отдавленных ног, в котором белокурая личность потеряла шапку. После этого тетка хряпнулась на место и выдернула из стопы амбарных книг, поехавших набекрень, самую нижнюю, заложенную глянцевыми розами, вырезанными, должно быть, из открытки. Сунув палец и развалив плеснувшую толщу страниц, тетка уперлась локтем в разграфленный разворот и принялась его царапать допотопной вставкой с железным пером, глухо стукая им в заросшей чернильнице. Мать перегнулась к склоненной теткиной голове и стала отчетливо диктовать домашний адрес – когда она говорила громче, тетка нажимала сильнее,– и девочка подумала, что наконец-то началось. С облегчением, привстав на цыпочки, она вывалила на барьер содержимое свертка и тут внезапно встретилась с глазами тревожной личности, пихавшей ее осторожным локтем туда, где очередь плотно встала в затылок в маленькой пустоте, теснимая и пугаемая ветвями растения в кадке. «Не вертись, сейчас поедем домой»,– раздраженно сказала мать, хватая девочку за плечо.
До нее не сразу дошло, почему домой, если вечером мать, преследуя ее с какой-то неутоленной страстью и не давая глядеть ни на что, кроме себя, так подробно рассказала ей тюремные порядки вплоть до заразных ночных горшков под нарами (получалось, что тюрьма – это ясли для больших, лишенных возможности заниматься своими делами сообразно возрасту),– а потом заставила вымыться в ванне и едва не вышибла задвижку, когда девочка закрылась, чтобы просто полежать в воде. Теперь выходило, что мать обманула: не будет никакой тюрьмы и возвращения домой через много лет – все эти годы предстоит прожить в квартире у матери незаконно, вообще безо всяких прав. Зря пропало ночное прощание с обезображенной букетами комнатой: ночью горе казалось чем-то случайным и нестрашным, к нему примешивалась отдающая каникулами радость новизны,– но сейчас, когда каникулы внезапно оказались отняты, девочка ощутила, как велико нажитое этой ночью имущество горя. Теперь, в неожиданной пустоте, отделенной лишь стеклом от безвидного наружного пространства с огоньками окон, бывшего в точности как отбеленная ночь, девочка догадалась, что даже еще не начала справляться с горем, враз потерявшим причину и основу,– значит, ей придется нести этот груз на весу, только на своих плечах. Чувствуя на себе взгляды растопырившейся очереди (бабуся в сборчатом плюше даже шагнула в сторону и раскрыла рот), девочка поняла, что не может позволить этому действию продолжаться.
Между тем вздыхающая тетка кончила писать в журнале и развернула его осклабленной матери, уже державшей наготове ручку, привязанную бечевкой к чему-то внутри барьера, а сама подозрительно посмотрела на сдаваемые вещи, словно не веря, что они действительно есть. Очередь, чуя конец процедуры, подалась вперед, и плюшевая бабуся, оказавшаяся рядом со своим сомкнувшимся местом, стала, как большая старая кошка, тереться о бока и локти стиснутых людей. Очередь потерявших вещи походила на очередь обворованных, и медлить было нельзя. Выхватив прямо из-под носа привставшей тетки дезодорант и одну перчатку (другая с легким полым звуком шлепнулась за барьер), девочка бросилась к выходу. Пролезая с поворотом в тугие двери, она успела увидеть тетку, вставшую в рост с мужским от гнева лицом, и мать на пару с белокурой личностью, танцующих, чтобы разминуться, неуклюжий испуганный вальс.
глава 17
На улице снежная пыль осыпала и охладила влагой горящие девочкины щеки, ресницы стали радужны и тяжелы, будто перед сном. Кругом, куда ни глянь, сухое молоко текло по стеклянистой тверди, нигде не в силах задержаться и скопиться, белое солнце пробивалось из ровной облачной пелены, как из подушки круглое перо. Хрупая и оскользаясь на льду, девочка сперва побежала в курящийся проем между домами, откуда они с матерью пришли не больше двух часов назад, но, услыхав далекую трамвайную трель, резко повернула и полезла на сугроб, где темнели намозоленные комья-ступени и где начиналась – явно поверх настоящей и летней – твердая и звонкая тропинка. Скоро девочка увидала черные баки помойки, переполненные мерзлым, словно просоленным мусором: самое подходящее место для смятых на груди остатков свертка. За крайним баком, на мусорном склоне, посреди обширного горелого пятна рвался со своего насеста клочковатый костерок, а снег летал над ним как сумасшедший и внезапно пропадал в струе расплавленного жара, сквозь который плыл и зыбился забор. Возле костра бродили и сидели на корточках несколько пацанов: сами красные и грязные, как угли, в лопоухих шапках, сбитых на затылки, они зачем-то собирали и бросали в глухо брякавшую кучу консервные банки, а один с рассыпчатым шумом шуровал в костре, пытаясь поднять из него на палке какую-то раскоряку, которая неизменно переваливалась вниз, рождая взрыв. Отворачиваясь от дыма, этот пацан навел заплывший слезою взгляд на чужую девчонку, и той издалека показалось, что она узнала рыжего Кольку, из-за надутой красноты лица и горчичных веснушек более чем когда бы то ни было похожего на свою мамашу. Пацан глядел исподлобья и как бы примериваясь, его мясистый бабий подбородок слегка отвис. Тем временем другие пацаны, выходя из-за дымной, струящейся мути над костром, подтягивались к вожаку, и девочка, чувствуя подвижный жар огня на высохшем лице, попятилась в испуге. Ее страшило, что вот-вот среди мальчишек обнаружится кто-нибудь еще из знакомых, втайне желающих ей неизвестного зла. Повернувшись опять, девочка бегом понесла свою неловкую, норовившую предательски упасть под ноги ношу туда, где тропа углублялась в сугробы, стоявшие как украшения по обе стороны от входа в другие, безопасные дворы.
Но вместо дворов разогнавшиеся ноги вынесли девочку на обрыв, и она едва удержалась каблуками над самым его провисшим краем, откуда посыпались мерзлые комья величиной с картошку и звучно плюхнулись в воду, стоявшую внизу. Перед девочкой далеко-далеко расстилалась полузатопленная равнина, будто непрожаренная яичница на чугунной сковородке. Местами маслянистая открытая вода парила, местами, подернутая ледком, отлипала и снова прилипала к тонким белесым закраинам, будто готовая вспузыриться. На плоских и унылых островах, смутно отвечавших друг другу изгибами берегов, черными кусками хлеба горбились заброшенные избы – возле одной крутилась тощая, как чертик, собачонка,– и кое-где в желтоватой переболтанной лепешке воды и суши, хрупкие, будто горелые спички, виднелись позабытые мостки. Далеко на горизонте, являвшем мелкие черты каких-то строений, три туманные, почти небесные трубы выдували клубы густого белого дыма, куда плотнее и рельефнее их самих, и три округлых наклонных столба висели и плыли среди серых облаков, будто длинные-предлинные воздушные шарики. Под самыми ногами девочки к подножию обрыва лепилась малая деревня гаражей с остатками старого снега на крышах, высосанного недавним солнцем и подсохшего на холодном ветру. Точно такой же снег, с зернистой корочкой и плавной дудкой для каждой былинки, выходящей из него на свет, лежал и здесь, на задах двенадцатиэтажек. Разгоряченная девочка, присев, нацарапала полную горсть холодного зерна и мнущейся мякоти, но, едва поднесла ее ко рту, ощутила неожиданный резкий запах: этот снег, такой на вид природный, весь пронизанный золотым, со всякими висячими игрушками, бурьяном, пахнул стиральным порошком. С уварившейся слюною во рту девочка припомнила вкус неглубокого снега со своего двора – талый, с шерстинкой, весенний, хоть дело было осенью,– и кинула снеговой пирожок, потекший в кулаке, подальше в пропасть. Раздавшийся звук был похож на поспешный глоток, каким запивают лекарство: нагнувшись, девочка увидела, что ближе гаражей, у самого обрыва, дегтярно чернеет канава, надуваясь студенистыми водяными комьями над каким-то родником. Дрогнув ногой, девочка отпрянула и брезгливо вытерла об себя мокрую пятерню. За ее спиной раздался возмущенный возглас.
Колька, наступая сапогами и коленями на полы длинной болоньевой куртки, лез на кучу ярко-ржавых, почти оранжевых труб и показывал пальцем, похожим на морковь. Мать, кивая, уже отходила от него, и по рубчатому пятну ее лица было понятно, что она увидела и смотрит – как смотрит то, что не имеет глаз и только каким-то наклоном, светом или легкой отделенностью от темноты выдает свое внимание. Надо было немедленно избавиться от ворованного, чтобы не возвращаться в стол находок, куда, скорее всего, уже явилась злая припухлая артистка с мятными ладошками, неприятными, как ватка перед уколом. Наверняка артистка запомнила девочку еще на елке, потому что там она была одна большая и пряталась в углу, а Снегурочка, командуя игрой, то и дело налетала и тащила ее к осанистому, будто директор, мутноглазому Деду Морозу, и ее ледяная хватка была как внезапная медицинская процедура. Больше не глядя на подбежавшую мать, девочка размахнулась: ветер с тугим хлопком вывернул у нее из руки бумажный кусок, и внезапно бумага, будто намагниченная, налипла ей на лицо, а ноги заплясали на пятачке, кренящемся в пропасть. Тут же яростная рука цапнула пальто у нее на плече, и девочка, проваливаясь по колено, сделала несколько путаных шагов в неизвестную сторону. Бумага ослабла и отвалилась.
Лицо матери, продолжавшей ее держать, было абсолютно бесстрастно, будто у нее для дочери не осталось ничего, кроме самого склада черт, где, как не замечаемая матерью случайная поблажка, темнела на щеке размазанная грязь. Легкая шкурка перчатки алела неподалеку и волочилась по насту под порывами ветра, валявшего ее с небрежностью заметающей мусор невидимой метлы. Мать, оставляя угловатые дыры вместо следов, грузно побрела на глубину, и девочка поняла, что она теперь ни за что не отступится и сделает все, чтобы вернуться с вещами в стол находок, где на них уже заполнены документы. Чтобы не допустить повторного воровства, теперь уже у государственного учреждения, она полезет даже в канаву и натащит из нее разных леденеющих, чем-нибудь опутанных остовов, какие только могут быть в подобном месте, пока взбаламученная вода не опустеет между изуродованных берегов,– а если и тогда не удастся подцепить баллон, пойдет и заплатит за него в тройном размере, будто за книгу в библиотеку. Мимолетно девочку поразила разница между собственным личным жестом, каким она, будто только поманив, стянула кожаную торбу с подоконника, косо застеленного целлофановым солнцем и оставшегося совершенно невинным в своей первоначальной пустоте,– и предстоящей матери тяжелой работой. Чтобы представить зарегистрированное, ей придется буквально добывать те же самые вещи среди огромной бессмысленной местности, где одною обозримостью затрудняется всякое движение, превращаемое в труд по перемене собою всего рельефа, являвшего сейчас, при полном серебряном свете дня, словно бы ухмылку слабоумного блаженства. Одновременно девочка вспомнила про свое ночное горе и почувствовала, что держит его, неправильное, гуляющее неустроенной тяжестью, над этой бездной со всем ее воздухом и трубами, на птичьей высоте.
Между тем румяная мать вывалилась вместе со стеклянистой, шелестящей кучей снега обратно на тропу. Перчатку, принесенную в мокром кулаке, которым она, выбираясь, махала перед собой, мать соединила с другою, вынутой из кармана, и девочка догадалась, как матери было обидно, когда ей подали эту другую, поднятую из-за казенного барьера, и предложили выйти из очереди. Уже покорная, немного пьяная, девочка побрела впереди непреклонной матери (та опять взяла ее царапающей, забирающей хваткой за поднятое плечо) к затоптанному обрыву, чтобы показать канаву, будто специально повторявшую зигзаги верхней тропки, как она сама повторяла походку незнакомок, чтобы подстроиться и украсть.
Внизу уже не было пусто: по заблестевшей дороге с осторожным хрустом пробирались в неровных колеях грязно-серые «Жигули», а неподалеку другой хозяин, расстегнутый и размотанный, с шапкой на ветке и желтой, как репа, покатой лысиной, долбился под дверь своего гаража, гораздо более других обросшего сосулями. С угла молочно белело целое ледяное вымя, уже начинавшее капать,– там, на крыше, вниз отпавшим колпачком, лежал дезодорант. Мать и дочь увидели его одновременно, слегка задев друг друга рукавами, и девочка, глядя издалека на зеленый баллон, подумала, что их отношения с матерью всегда почему-то строятся вокруг пустяков вроде дезодоранта, или шерстяных рейтуз, или липкого пузырька из-под духов,– чувства словно нуждаются в конкретном мелком предмете, чтобы не разминуться в пространстве и на чем-то сойтись, и сойтись тем вернее, чем мельче точка, становящаяся целью. Не зря они, когда поссорятся, стараются не глядеть на одну и ту же вещь,– но уж зато, получив мишень, бьют в нее до последней возможности, пока вещица не превратится в мусор, как вот эта крашеная жестянка, не стоящая того, чтобы за ней идти. Все это девочка представила очень смутно, но с иголкой в сердце, а тем временем мать объясняла ей, что, когда она спустится с горы, девочка должна стоять все время здесь и махать, показывая направление. Она даже продемонстрировала, как надо, подымая руки в толстых рукавах,– пальто у нее задиралось и налезало пуговицами на подбородок, а девочка вспоминала, как утром, собираясь в тюрьму, застряла в платье и стояла как пугало, а радио на кухне играло гимн. Не добившись толку и заспешив, мать провела сапогом по снегу глубокую, до самой прошлогодней бумажной травы, кривую черту, которую девочка не должна была заступать, и заскользила под неуверенный уклон тропинки, хватаясь за стволы боярышника, и там, где ей под варежку попадались более тонкие ветви, с них, будто гнилая изоляция, сходила кора.
Матери довольно долго не было, и девочка, переминаясь у рыхлой линии в снегу, от которой не смела отходить ни в какую сторону, слышала, что вся стучит, как часы. Боярышник у обрыва почему-то казался неработающим, будто сломанный механизм, и ни с чем не мог соединиться своими оборванными проводами, которые торчали безо всякой связи с небом, плывущим без связи с путями и направлениями внизу. Колька еще не ушел и по-прежнему маячил на трубах: то целился в девочку из пальца, как из пистолета, то крутил перед глазами кулаки, изображая бинокль, а заметив, что девочка оглянулась, стал показывать ей мелкий ракушечный кулачишко, другой рукою щупая у себя под курткой хилые мускулы. Под обрывом мужик, долбивший лед, вдруг отшвырнул инструмент в набитое им зазубренное крошево и вприскочку побежал к соседнему гаражу. Там, утвердившись лицом к стене, он весь напыжился, как от важности, а потом, уже медленно и блаженно, отошел, освободив для обозрения большое мокрое пятно размером с целую арку. На груди у него, точно награда, лежала округлая смоляная борода, физиономия над ней была широкой и как бы перевернутой. Девочка надеялась, что теперь мужик возобновит работу, потому что мать собиралась идти на звук, монотонной жалобой разносившийся по окрестностям,– но вместо этого хозяин, став возле своего ледяного теремка, сунул сморщенную физиономию в ладони, сложенные миской, и распрямился, отбрасывая спичку, застилаясь дымом: дым, относимый ветром, поворачивался задом наперед. Внизу еще прибавилось народу, девочка уже не могла за всеми уследить. Они передвигались так запутанно по запутанным ходам среди гаражей, что словно превращались один в другого,– стоило на минуту отвести глаза, как двое мужчин, несущих за углы провисший, пережатый пополам мешок, становились сутулой женщиной с пустыми беспокойными руками, которые она то и дело подносила к беретке или к шапке, заправляя лезущие в рот растрепанные волосы. Некоторые одинаково, как бы неловким оборотом брошенного кубика, перескакивали в одном и том же месте плоскую протоку и уходили напрямик через топь по дорожке, темневшей там и там несколькими плохо согласованными зигзагами,– застревали уже вдалеке перед какими-то препятствиями, скапливались и туго, будто бусины через узел на нитке, проталкивались дальше, уменьшаясь куда многократнее, чем точно такие, как у девочки за спиною, видные теперь на горизонте по отдельности жилые корпуса. Только очень крупная вещь могла преодолеть перспективу и не кануть на студенистой равнине, где люди один за другим пропадали из глаз, не успев никуда дойти, исчезали прямо на открытом месте посреди сливающихся в полосы подробностей. Их тропа, вероятно, тоже не могла одолеть желтовато-серых, с металлическими проблесками, полос, лежавших поперек ее направления и становившихся чем ближе к горизонту, тем туманнее и тоньше. Сам горизонт с домами и трубами, темней и материальней затонувшей в воздухе равнины и облачной пелены над ним, стоял в глазах как окончательное препятствие. Внезапно девочка ощутила странную связь между линией горизонта и рыхлой чертой у себя под ногами. Вместе с ощущением утянутого куда-то под сердце живота, всегда сопровождавшего девочкины мысленные полеты и связанные с ними преступления, к ней пришла отчетливая догадка, что эта черта на земле обозначает место, от которого надо прыгнуть. Горизонт синел впереди как цель – рукотворная и, значит, взятая из головы гряда,– и ликование свободы, охватившее девочку оттого, что она-то знает способ достигнуть самого крайнего, соединилось с уверенностью, что при желании она способна единым вдохом вобрать в себя весь воздух над равниной, замечательно жгучий и кислый, слегка горелый, отдающий сквозь весенний холод нагретым муравейником, слабой теплотой.
Вспомнив о матери, девочка поспешно глянула под ноги и как ударилась о близкие крыши с волнистыми пятнами снега, будто ерзавшего по железу в усилии растаять и убежать водой. Давешняя полорукая женщина опять попалась девочке на глаза: она вносила больше всех сумятицы в людское движение возле гаражей, потому что ходила беспорядочно и быстро, то и дело меняя шаг и явно не имея здесь направляющей собственности. Ее лицо запрокинулось, крикнуло, и девочка увидела, что шапка женщины на самом деле беретка, а именно голубая беретка матери. Тут же все встало на свои места: мать, живая, настоящая и очень злая, махала, притопывала, чтобы привлечь к себе внимание, и, вероятно, делала это не в первый раз. Быстро прикинув, девочка сообразила, что мать находится левей и дальше мужика, который теперь стоял, поскабливая пятерней мохнатую щеку, и зачарованно глядел на оплывшие ледяные украшения своего гаража, где капель пока еще медленно, будто гамму, разучивала свой порядок и строй, нетерпеливо срываясь на беглые проблески и опять начиная с нависшего угла.
Кивнув на девочкин старательный знак, едва не разорвавший ей пальтовую подмышку, мать побрела сначала в нужном направлении, прошла, неловко вскидываясь, по разнобою жидких хлюпающих досок,– но тут какое-то препятствие, не видимое сверху, стало уводить ее все дальше неровными зигзагами. Между тем мужик, томившийся от нежелания работать и не сделавший больше ни единого удара ломиком, уже пустившим ржавчину в ледяную кашу, увидал каких-то двоих, ладно ступавших тяжело обутыми ногами, выдвигая их в такт, будто три вместо четырех, и бросился им навстречу с приветственным возгласом, весь напоказ от бездомности перед своим запечатанным гаражом. Мужики остановились, сгрудились, закурили. Проклятый баллон глупо зеленел на крыше, придавая всей картине неправильность, потому что мужики болтались поодаль, а кто-то словно должен был дежурить там, куда баллон готовился упасть. Он был как яркая метка на местности, пропадающая зря, лишенная положенного ей события.
Мать, склонившись словно для пристального взгляда и решительного вывода о канаве, перескочила ее там же, где и все, грузно воткнувшись в противоположный берег. Теперь она была, наоборот, правее цели и, получив сигнал, пошла уже не так уверенно, то и дело задирая голову к дочери и непроизвольно дергаясь на каждый ее угловатый взмах. Часто, будто переспрашивая, мать повторяла жест и двигалась дальше только тогда, когда выходило похоже,– но все равно сбивалась и забредала то в кустарник, что тыкал ей в пальто гнущимися дыбом черными прутьями, а то попадала в незатоптанный опрятный тупичок, где от отчаяния, прежде чем поглядеть на дочь, сперва обследовала крыши с помощью палки, которой только расцарапывала снеговые корки да вспугивала толстых голубей. Все-таки, несмотря на явную усталость, заметную по неровной походке, по тому, как мать, выронив зацепившуюся палку, долго стояла, прежде чем за ней нагнуться,– все-таки, а может, благодаря этому железному отвердению, в матери ощущалась страшная сила и воля довести творимую глупость до полного конца. След ее, будто распоротый, с глубокими дырами, выглядел так, словно она тащилась ползком,– но она продолжала идти вертикально, будто нечувствительный механизм, борозда за ней серела и осыпалась поперек почти что всех путей, проложенных внизу людьми с их нормальными и повседневными делами. Девочка у своей черты уже едва не плакала от голода и ломоты в плечах и хотела только одного: чтобы все это поскорее кончилось. У нее в глубине души таилось странное чувство, что потом, оторвавшись от матери, она действительно сможет перенестись настолько далеко, насколько хватит взгляда,– туда, где три трубы отражаются дымами в небе, будто в молочном озере, и гладкие промоины синевы обозначают области счастья, которого можно достичь. Все, происходившее с утра, включая обязанность стоять и махать, было настолько подневольным и противным, что свобода потом казалась реальной и едва ли не обязательной, освобождение должно было прийти не через годы, а прямо сейчас,– но раньше следовало пережить событие, отмеченное зеленой точкой на панораме обычных исчезающих ситуаций, как бы заранее занявшее место и только ждавшее времени, чтобы превратить затянутую глупость в совершенный абсурд.
Оно и дождалось. Девочка, давно страдавшая оттого, что лямки еще непривычного лифчика как-то ослабли под толстым слоем одежды, из-за этого словно надетой кое-как и готовой съехать, будто с вешалки в шкафу, вскинула руку, чтобы вернуть на плечо бретельку, и этим жестом направила мать, уже почти достигшую нужного гаража и даже, вероятно, видевшую топчущих окурки мужиков, в далекий обход. Между тем бородатый уже едва удерживал своих знакомцев: он все пытался вклиниться между ними и был нелеп со своими ватными плечищами, болтавшимися на узких плечиках, с тонкими ножками в полупустых сапогах, отчего походил на вилку, шатко вставленную в розетку. Наконец мужики, глянув друг другу в глаза поверх блаженно рассиявшейся лысины, одновременно выкрутили руки из ласковых кренделей и пошли, как будто и не останавливались, а бородач заорал им вслед веселую матерщину. Сразу же истекающий всеми скользкими буграми, невообразимо уродливый ледяной кусок с шелестящим ударом разбился в своей воде, и упавший баллон, откатившись полукругом, застрекотал под частой, едва разрывающей скорые нитки капелью. Мгновение бородач выбирал глазами между баллоном и ломиком, но нежелание работать, подкрепленное видом ноздреватого, словно разваренного льда, не стоящего, чтобы его долбить, победило в его душе, и он, опустив зеленую приманку в карман, устремился прочь широкими, попадающими в каждую яму шагами, в довершение столкнувшись с матерью корпус в корпус, так что девочке сверху показалось, что мужик увлекает ее с собой.
Теперь, когда все окончательно обессмыслилось, мать и дочь оказались на таком расстоянии друг от друга, будто каждая принадлежала как часть своему пейзажу и имела отношение только к дали за собственной спиной. Между ними промахнула в воздухе большущая ворона, и девочка ощутила это как нечто болезненное, мечтая только, чтобы птица поскорей сложилась на земле. Ей были бы сейчас невыносимы в воздухе и голуби, и воробьи: ей хотелось, чтобы все застыло, припало к почве, отделилось от пустого пространства. Она и мать стояли друг перед другом и были гораздо более одинаковы, чем рядом: различия поглощала пустота, которая и сама была никакой. Мать все еще пыталась околачивать палками крыши, добыв одну скатившуюся с гулким громом мутную бутылку, и девочка, глядя на нее, думала, что просто не выдержит эту весну, эту ледяную баню, изнурительное таяние исчезающей тверди, выставку уродливых скульптур из материала зимы, постепенно переходящих из сидячих поз в лежачие, выдавая в себе какое-то подобие жизни… Со стороны, вероятно, выглядело так, будто мать и дочь пытаются выразить друг другу сильные чувства, но на самом деле они были будто связаны невидимыми нитями: любое, даже нечаянное движение дочери заставляло Софью Андреевну поворачивать туда и сюда, и девочка чувствовала, что могла бы сейчас направить ее куда угодно. Но что-то выразить, донести было невозможно, потому что каждый жест, повторяемый буквально или в преломлении, возвращался невоспринятым, как бы отскакивал рикошетом, и скоро мог наступить безвыходный момент, когда мать и дочь станут повторять одно и то же, будто заведенные игрушки. Девочка поняла, что свобода ее только поманила. Мать, словно якорь, держала ее на земле,– неподъемная, обросшая всем, про что она говорила «мое». Сама она забыла скопивших скарб бабок и прабабок, кружевных и грудастых учительниц, что выцветали засушенным гербарием на картонных желтоватых фотографиях между страниц поеденного молью бархатного альбома, а иногда пропадали совсем, оставляя по себе только брошь или шнурок, что хранились в том же шкафу,– может, из-за этого забвения имущество семьи сделалось таким, что впоследствии Катерина Ивановна просто не смогла, не отыскала способа принять фамильное наследство. Чтобы получить свободу, требовался рывок, но девочка, одиноко стоявшая над выеденным, как яблоко, ржавым обрывом, на самой предательской кромке, почувствовала страх. Она теперь боялась только одного: потеряться и не доехать одной до дому, куда теперь хотела гораздо сильнее, чем когда готовила себя к тюремной камере,– и знала, что стоит ей и матери выпустить друг друга из виду, как это произойдет.
глава 18
Они действительно потеряли друг друга: Софья Андреевна, возмущенная до глубины души, битых три часа искала девчонку, упорхнувшую с места как безответственный воробей,– будто она махала руками и выделывала разные фигуры с прискоками вовсе не для матери, а только для того, чтобы у нее наконец получилось взлететь. Софья Андреевна истоптала чугунными ногами целый микрорайон, где все, особенно магазин и базар, казалось ей ничтожным, не стоящим даже взгляда. Было особенно трудно искать во дворах, резко разделенных весенним солнцем на свет и тень. Тени домов выглядели как принадлежащие им помещения, вроде подвалов, с какой-то хозяйственной рухлядью по углам,– Софья Андреевна вступала туда опасливо, ногой невольно нашаривая ступеньку вниз, а когда глаза немного привыкали к холодному сумраку, мир снаружи, в сборчатом, без конца распускаемом блеске и подсиненной белизне сырого снега, с двумя-тремя веревками тяжелого, не в лад качаемого ветром белья, был удивительно отчетлив и далек. Наконец девчонка обнаружилась там, где Софья Андреевна проходила много раз: в деревянных обтаявших рядах убогого базарчика. Она невнимательно трогала разложенные перед мягонькой бабусей грубовязаные воротнички, приподымая узловатое кружевце и словно удивляясь, что оно отделяется от газеты; бабуся, подрагивая головой, слепенько поправляла на листе свои нитяные каракули, а девчонка другой рукой рассеянно мяла ее же мешочек луку, где со щелканьем лопалась сухая кожура. Мальчишки-оборванцы, давеча палившие на помойке вонючий костер и показавшие Софье Андреевне, куда побежала девчонка, тоже вертелись здесь и матерились маленькими ртами, черными от семечковой шелухи; тот, мордатый, у которого Софья Андреевна спрашивала последним, глумливо ей ухмыльнулся и, как-то по-воровски притеревшись к зазевавшейся девчонке, рванул наверх подол ее пальто. Там не мелькнуло ничего, кроме упавших складок перемятой юбки,– но девчонка, запоздало присев, одернулась без звука и таким движением, что Софья Андреевна сразу поняла, сколько раз в ее отсутствие происходило это безобразие.
В довершение всего, когда они, уставшие до полной бессловесности, с чесночным жиром во рту от рыжих и плоских, как стельки, столовских котлет, наконец добрались домой, то увидели в подъезде темную пару: от молодости и угловатой худобы парень с девчонкой не могли как следует обняться – каждому хватило бы длины неуклюжих рук, чтобы обвить другого много раз, но между ними все оставалась пустота. Длинноволосый парень, заехавший локтем чуть ли не в небо, стоял спиной и видел только ее и безнадежную стену, в которую упирался, а она, не скрытая его недостроенным телом, видела все и была видна сама, не в силах пошевелиться и спрятаться от людей, поднимавшихся по абсолютно голой лестнице. От нее исходил какой-то оцепенелый туман, и Софья Андреевна только в последний момент узнала дворовую Любку, неожиданно ставшую ростом едва не под скос беленого верхнего марша: на ее худом лице глаза сделались маленькими, а губы большими, будто темное дно опрокинутого сосуда, и парень, сколько ни наклонялся, ничего не мог из них добыть. Софья Андреевна хотела было высказать им замечание, но вместо этого, точно подавившись, прошла с опущенной головой. Кое-как сплетенная пара внезапно и оскорбительно оживила в памяти далекую собственную свадьбу: эти двое в подъезде были куда как безобидней целующихся парочек, тех двойных, словно что-то перетирающих фигур, что, налитые и ладные, работали буквально в каждом закутке Дворца культуры металлургов, где богатая родня откупила под праздник темноватый, лоснящийся стенными росписями, будто обтянутый клеенкой ресторан. Там Софья Андреевна бродила в одиночестве среди парных химер, будто нездешняя в белом креп-жоржетовом платье, будто порождение высоких окон, пышно занавешенных тюлем, и никуда не хотела возвращаться.
Ее «украли», когда Иван ушел покурить – удалился, твердо ступая, уже изрядно подвыпивший, но еще вполне пристойный в своем влитом костюме, похожий на ящик, в котором распиливают в цирке, или на стоячий гроб. Матерый, в сущности устроивший свадьбу, но теперь зажатый голосистой, внезапно сдвигающей рюмки над головами посторонних Ивановой родней, тихонько вытащил ее из зала через боковую дверь, за которой, встряхиваясь, ехали на решетках груды горячих вилок, а в одном из квадратов мутного окна то надувался пузырем, то замедлялся до видимого перешлепа лопастей громадный вентилятор. Не успев разглядеть грязно-белой гремящей кухни, казавшейся больше ресторанного зала из-за пара и величины котлов, Софья Андреевна очутилась на узкой старой лестнице, где мраморные ступени, истертые у перил, были ненадежны на взгляд, будто стопа кое-как составленных тарелок,– но поджидавшая здесь компания, обдав невесту запахом вина и лука, энергично увлекла ее наверх.
Наверху у них уже был облюбован тайник: пощекотав изогнутой проволокой в замке одной из дверей, они, приглушая смешки, пробрались в какую-то длинную темную комнату, где сразу въехали в собравшиеся стулья, а когда чья-то сбиваемая со стены рука все же нашарила свет, Софья Андреевна увидела себя и своих зажмуренных спутников в начальственном, возможно, что и в директорском кабинете. Во всяком случае, Ленин над главным столом висел именно такой, что и в кабинете директора школы: нос, клиновидная бородка, полосатый галстук и вырез пиджака располагались правильной елочкой, и, вероятно, хозяин кабинета тоже старался сидеть ровнешенько под портретом, будто зайчик под деревцем, на что указывал порядок очень белых, отвернутых от посетителей бумаг. Софью Андреевну под локотки, отпинывая стулья и застревая, провели на хозяйское место, за полировку и телефоны, и она, не раз воображавшая свое водворение как раз за таким столом и втайне полагавшая, что давно пора, теперь, усевшись в покойное, хорошо отцентрованное кресло, ощутила себя донельзя нелепо в жоржетовом платье и условной фате, пришпиленной, как носовой платок, к ее залакированной прическе.
Теперь уже Софья Андреевна могла воспринимать происходящее только как издевательство. Подруга Матерого, уверенная брюнетка с сорочьим отливом волос, сноровисто выкладывала резаную колбасу, конфеты вперемешку с их пустыми фантиками, расставляла початые бутылки, из которых мужики со скрипом выворачивали газетные затычки, а Софья Андреевна, из-за места ощущая себя едва ли не ответственной за тайное застолье, со страхом глядела на приоткрытую дверь и чувствовала с той стороны табличку, которую вовремя не прочла. Это было только начало ее мытарств. Матерый, чья физиономия, побритая с утра, опять казалась вывалянной в песке, даже не стал садиться и, звучно выглотав из стакана тормозившее неровными качками, словно насилу шедшее вино, объявил, что отправляется к Ивану за выкупом. Поддержанный шлепками по спине и взбодрившийся от них, как резиновый мяч, он потребовал и туфельку невесты, как отдельный пункт торговли с женихом. Софья Андреевна нехотя своротила с ноги твердопятую «лодочку»: из нее, опроставшейся, размятой, противно запахло обувным магазином. Софья Андреевна застыдилась отдавать, но Матерый почти насильно вырвал добычу и, повисев в дверях, вывалился в коридор.
Его довольно долго не было; сделалось скучно. Подруга Матерого, напевая в нос, сметала в кулек кудрявые колбасные кожурки; чья-то клочковатая голова с неправильным затылочным углом безжизненно упала на руку, протянутую вдоль объедков, пальцы этой руки выбивали дробь. Софья Андреевна, томясь, ощущала свой овальный живот, будто поставленный на колени портрет: на нее внезапно напахнуло воспоминанием о бабусиных похоронах, когда она, десятилетняя, вот так сидела с тяжеленной траурной фотографией, не решаясь положить на верхний край плывущий от зевоты подбородок. Сердясь на неуместность сопоставления, она внезапно ощутила в ноздрях сладкую гарь от множества тонких розовых свечек, похожую на сытный запах горелых бабусиных сырников, увидала мелкое золото плачущих огоньков: все ныло, рябило, дрожало, навевая дрему, и так же, как теперь, жали твердые новые башмаки. Понимая, что, если не стряхнуть наваждение, ее немедленно вырвет прямо на стопу побитых печатями бумаг, Софья Андреевна кое-как сковырнула и вторую туфлю: обе ступни набухли от натертых шишек, рдеющих сквозь капроновые чулки. Запах не исчезал, комариками ныли церковные старухи, потрескивали воспаленные фитили. Вдруг из коридора послышались шаги – чужие, скорее детские, с перебежками и скользящим пришаркиванием, сопровождаемые, впрочем, тихим скрипом паркетин под чьей-то более увесистой стопой. Мужик, что лежал башкой на столе, вскочил в багровом пятнистом ужасе и, мутно выпучив глаза, мазнул по выключателю.
Темнота и смещение всех фигур по диагонали лунного окна спасли надувшуюся Софью Андреевну от приступа рвоты. Сделалось как-то прохладней и легче дышать. Но страшная луна в раздернутом окне пылала слишком ярко и была почти неузнаваема без рисунка оспин и пятен, а отмеченные ею предметы – трамвайные рельсы на площади внизу, коротконогий бронзовый металлург в бронзовых же очках на пол-лица, шишка пресс-папье на столе перед Софьей Андреевной,– отсвечивали повсюду, словно ее неотъемлемая собственность. Чувство, будто Софья Андреевна попала в чужое место, сделалось почти нестерпимым. Ей показалось, будто она выходит замуж за незнакомца, а усаживание за директорский стол – такая же часть ритуала, как и превращение невесты во временную принцессу при помощи всяких рюшей, брошей и этой встопорщенной штуки на голове. Шаги, напугавшие похитителей, исчезли в распахнувшемся проеме одной из ближних дверей, откуда им навстречу вырвался старательный детский хор,– но даже когда неизвестную дверь затворили, еще поддернув, неустойчивые голоса оставались слабо слышны, и Софью Андреевну охватило неприятное чувство, будто поющие дети пьяны, как это не раз бывало на уроках в старших классах, когда по рядам блуждали одурманенные ухмылки, словно никому в отдельности не принадлежащие. Один из сидевших перед Софьей Андреевной за столом, где пустые бутылки походили сейчас на испорченные лампы, осторожно встал и, с трудом передвигаясь в липких лунных сетях, медленно освобождаясь от щупавших его теней, выбрался в коридор. Прочие остались сидеть неподвижно. Кто-то еще продолжал жевать, кто-то угрюмо сопел. Софья Андреевна решила, что будет лучше смотреть в окно,– но скоро пожалела, что вылезла из кресла.
Внизу простиралась как будто настоящая луна: глядя на площадь, пересекаемую двумя прохожими, которые словно боялись друг друга в кольце неподвижных домов, Софья Андреевна вынуждена была напомнить себе о неполных девяти вечера обыкновенной пятницы. Грубый сухой асфальт бугрился среди лиственной трухи, трамвайный вокзальчик конечной остановки стоял на мерзлой слякоти, отдающей по цвету железом. Потупленный, прямо упертый в землю свет фонарей казался необыкновенно низким, буквально по колено, и тени от электричества были желтовато-серые, простые, как бумага, а лунные поражали резкой синей чернотой. Непроглядные тени от луны были словно плотнее самих вещей: жиденький сквер у мощного подножия Дворца культуры, возносившего Софью Андреевну, превратился в настоящий бурелом, и возникало странное ощущение, будто внутренняя темнота предметов, недоступная глазу, каким-то образом выпросталась и легла под боком у покинутой оболочки. Все – квадратные башмаки колонн, приземистый памятник в маске на инвалидном постаменте, афишная тумба с таинственной улыбкой полуоторванной актрисы, пустой трамвай, тщетно заполняемый робкими людьми,– все казалось полым, сминаемым, хрупким. Казалось, будто луна, подобно лампе гигантского инкубатора, своим леденящим жаром заставляет вылупиться самую суть вещей – суть, похожую и непохожую на дневные формы, расколотые, бросаемые лежать безо всякого применения. Кое-где от целого оставался только кусок скорлупы со слепыми балконами или залитой в гипс водосточной трубой, а остальное была сплошная тень, пугающая взгляд какой-то острой птичьей позой, выдающей желание взлететь. И снова то, что вот она выходит замуж и счастлива, показалось Софье Андреевне диким, совершенно невозможным.
Она попробовала думать о чем-нибудь обыкновенном, вроде родительского собрания или накопившейся стирки, где лежали вперемешку с домашним бельем большие штопаные вещи свекрови, но мысль о подробностях прежнего хода жизни вдруг причинила ей такую боль, словно прошлое было утрачено насовсем. Тогда, чтобы восстановить потерянную связь, она принялась вспоминать сегодняшний день – бессолнечный, пыльный, с порывами холодного ветра, внезапно налетавшего из ниоткуда и падавшего в никуда, бросавшего куски бумаги, сорванные шляпы, оставлявшего людей почти без дыхания в тусклой неподвижной пустоте. Когда разъезжали по голым улицам в нанятой «Чайке», у куклы на капоте все время задирался подол, выставляя напоказ ее невинное устройство, и мужики в машине гоготали, просто покатывались. Соседка явилась в загс застенчивая и страшненькая, в туфлях своего сорокового номера на высоченных шпильках, в очень коротком платье малинового крепа, кое-где прожаренного утюгом до грубой желтизны. Открытые коленки у нее подламывались на каждом шагу, и соседка по пути все норовила за что-нибудь ухватиться, почти бежала от опоры к опоре, точно скользила под уклон, но не выпускала букета мелких, как ягоды, остреньких роз. Она не преподнесла букета невесте, не оставила его, как многие, у главного и самого энергичного городского памятника, высоко отстоявшего на своем постаменте от привядшей цветочной мелочи, выложенной скошенным рядком на полированный гранит. Слабо держа колючий ворох, прихваченный папиросной бумагой, в опущенной руке, соседка таскала его всю дорогу от загса до ресторана: неловко лезла с ним в машину и так же нескладно, в несколько пересадок и рывков, выбиралась на многих остановках, чем вызывала нетерпеливое бормотание пихавших друг друга попутчиков. Но к ней – казалось, именно из-за этих жестких, тряских, нелепых, рдеющих роз – никто не мог прикоснуться. Поселковая родня, забившая собой вдобавок к «Чайке» несколько такси, упоенно раскатывала но городу, где толпы народу тянулись мимо видных сквозь голые сучья запыленных зданий, а родне был интересен и ЦУМ, и цирк, а один мужик, с глазами безгрешной голубизны на сырокопченом лице, обнимая жену под цветастую грудь, все орал; чтобы заворачивали на Красную площадь. Быстро насытившись зрелищем дощатого цирка или пустого фонтана с серпами и молотами на железной крашеной кочерыжке, удивительно глупой без водяного кочана, свадьба в накинутых на плечи пальто бежала обратно к машинам, и в глазах у гостей появлялась тревога, как если бы они не верили, что в следующий раз опять окажутся вместе. Одна машина, точно, потерялась; ее пассажиры ждали свадьбу в пустом ресторане, занявши угол длинного стола: маленькие крепкие мужчины значительно беседовали, наклоняя бутылку, а единственная женщина с ними беззвучно плакала, утираясь концами платочка, смотревшегося на ее могучей шее пионерским галстуком. Остальные, прибыв на очередное заказанное место, радостно валились друг другу в объятия, влепляли пунцовым бабам молодецкие поцелуи, устремлялись к последнему причалившему такси и за руки вытаскивали своих дядьев, шуряков и племянниц на секущий ветер, от которого зажмуренные лица становились будто треснутые чашки, и семейное сходство проступало настолько очевидно, словно людей другого типа не существовало вообще. Их почему-то особенно взбадривало, когда они высаживались там, где уже побывали, только с другой стороны квартала. Исторические памятники города мостились на нескольких прорубленных улицами горках посреди пологого марева бетонных домов. Гости видели от позолоченной, тихонько звякавшей церквушки знакомый фонтан без воды, а подальше, за парапетом и отчаянно виляющей масленой речонкой, голубоватый цирк с мелко-пятнистой афишей,– оказавшись, таким образом, в обжитой среде, они уже не ощущали себя такими посторонними среди обегающих свадьбу горожан и даже тихонько крестились на разубранные луковки, как будто хотели поплотнее застегнуться.
Во все часы бестолковой экскурсии продрогшая Софья Андреевна (жесткая пыль была холодна, будто земляной, какой-то вечный снег) испытывала стыд и страх нарваться на знакомых, которые, будучи в своем обычном и нормальном виде, узнают ее под этой тряпочкой, пришпиленной к начесу, подле несомого на резвых, но бесчувственных ногах Ивана, выставлявшего ей локоть так, будто он хотел держать невесту как можно дальше от себя. Софье Андреевне было обидно, одиноко; бумажная хризантема на выпяченной груди Ивана встряхивалась, шуршала, петушилась, а ее живые цветы потемнели и смякли. В первый и последний раз она ощутила что-то вроде симпатии к соседке, так же, как она, чужой среди горластой оравы, чьи голоса выбивались из сухого городского шума будто крики бедствия,– и культурная соседка невольно делила с невестой неприкаянность и стыд. Как и забиравшего на сторону Ивана, ее буквально несло по вспученному асфальту – казалось, будто их объяло общее головокружение, как-то связанное с высотой горелых облаков, влекомых в беспорядке за башню телецентра, будто они оказались подвешены на каких-то длинных нитях и могут, просеменив, удариться о дерево, о стену, будто обоих марионеток спустили с неба и водят ими, дразня наблюдателей, по заметаемой прахом земле.
Словно пугаясь своей неустойчивости – на горке, в виду у множества отливающих сталью окон и стеклянистых автомобилей,– соседка медлила ступить вперед, и когда многолюдная свадьба с застрявшей невестой уже целиком толклась у такси, она все продолжала стоять на опустелом пятачке, совершенно не заслоняя собою дымную панораму. Чтобы посмотреть на ее скособоченную фигурку, приходилось отдельно настраивать взгляд, и тогда уже пропадало, выросши сперва в огромную муть, все реальное окружение, включая чугунную женщину с книгой, которую гости пять минут назад охлопали руками. Словно почувствовав перемену фокуса, соседка делала первый огромный шаг и на глазах у всех одна пересекала отчужденное пространство до машин, враскачку перебегая путь одним прохожим и замирая перед другими; жирные серебряные веки, будто печати, мертво поблескивали на сером лице. Обозленные гости просто не могли оторваться от соседкиных виляний и припрыжек: им казалось, будто она спешит не к ним, а куда-то вбок, и придется ждать еще. Только спокойная свекровь, надевшая по случаю праздника бархатную шляпку с рытвинами и пятнами свежей черноты от каких-то споротых украшений, следила за соседкой с гордым прищуром из-под твердых полей, и когда соседка, приблизившись, совсем замедляла шаткие шаги и словно вручала себя толпе, готовой ее убить, свекровь весомо выступала вперед и брала ее за руку, будто малого ребенка. Через заднее стекло машины было видно, как они обе ерзают, подскакивают не в лад, чтобы как следует утесниться, а потом одновременно валятся от рывка автомобиля, и свекровкина шляпа прыгает набок, открывая мягонький перманент – комочек ржавой пены на вареной картофелине, так не шедший к свекровкиным крупным чертам. В ресторане свекровь, по-домашнему обходя гостей с большими посудинами еды и выворачивая каждому на тарелку мокрые комья «столичного» салата с черной колбасой, особо останавливалась возле «профессорши», стиснутой двумя отворотившимися спинами до складки платья между тощих грудей и до изумления на вскинутом личике, уже ни на кого не смотревшем. Очевидно, жалея ее за ученость и за любовный грех, свекровь выгребала ей через край замутненного хрусталя двойную порцию, так что из салата на тарелку бежала белая сметанная вода, заполняя ее до краев, будто суп. Софья Андреевна видела все из-за главных букетов, поставленных в вазы, и бабья доброта свекрови, перемешанная с тайной гордостью за сына, сумевшего неведомо как и зачем присушить такую образованную женщину с рубцом от очков на носу, совершенно убила ее мимолетную нежность к сопернице,– умершее чувство долго и едко тлело в глубине ее души, более ощутимое, чем когда она переживала его в действительности. Оно отравило измученной Софье Андреевне даже те короткие и лучшие минуты, когда они с Иваном, поднятые для поцелуя стенобитным хором раскачавшейся родни, успокаивали друг друга. Иван шептал ей на ухо имена и отчества лезущих поздравителей, чтобы она не боялась,– а ведь с самого утра он держался с ней как чужой, точно жених и невеста были соперники на викторине, и Иван вовсю старался понравиться публике больше, чем Софья Андреевна, терявшаяся от его пересоленных шуточек и стоячей безрукой осанки, представлявшей во всей красе полосатый костюм.
глава 19
Терзаемая долгом быть счастливой здесь и сейчас, Софья Андреевна старалась пробудить в себе доброту к Ивану, к соседке, к свекрови, к покойной бабусе, к маленькому мужчине на трамвайной остановке, одиноко сидевшему в виду освещенного вагона с перешедшими туда людьми, к детям в соседней комнате, чьи старательные песенки перебивались сиплым вальсом из ресторана. Внезапно в кабинете зажегся свет, и Софья Андреевна поспешно обернулась. Матерый что-то тихо говорил мигающим приятелям, поставив перед ними на стол ослепительно белую, будто эмалированную туфлю, и Софью Андреевну охватило предчувствие беды. Она увидела, что в кабинете из всей компании осталось только пятеро, включая подругу Матерого, зевавшую так, что ее лицо напоминало собранный для надевания носок, Улыбаясь одними железными зубами, Матерый с какой-то мстительной глухотою в голосе сообщил, что Ивана не смогли найти, что он не возвращался в зал, и по тону его Софья Андреевна поняла, что своим друзьям он рассказывал о пропаже в гораздо более крепких выражениях.
Сразу все вокруг сделалось серо, и Софье Андреевне показалось, что она уже тысячу раз бывала в этом кабинете с убогой потертой мебелью, постылом, будто собственная комната, где она уже привыкла ждать Ивана, гулявшего словно в ином измерении, куда она не знала способа попасть. Порою ей хотелось умереть, чтобы только увидеть, что происходит с Иваном сию минуту,– казалось, что она не может больше оставаться здесь, где мебель стала проходной и ничейной, будто на улице, а все предметы свелись к немногим видам, и одна узорная подушка или статуэтка совершенно обесценивает другую. Любовь к Ивану в часы ожидания его неизвестно откуда начисто лишала бессонную Софью Андреевну ощущения собственности, заменяя его чувством реальности, где за домами ожидали дома, за магазинами магазины: всего не больше восьми или девяти разновидностей ничейных вещей, создававших впереди точно такое же пространство, какое зияло за спиной. Иногда, уже почти добежав до молчавших дверей, Софья Андреевна цепенела в темноте прихожей, ночной даже среди бела дня, не в силах потянуться к выключателю: она понимала, что не побежит искать Ивана, не перейдет границу реальности, чья цельность только слегка нарушается мусором, повсюду относящимся к прошлому; вообще не могла вообразить, как пошагает по улицам, пересекающим одна другую под прямыми углами, когда на поворотах ощущаешь себя особенно глупо, точно сам решил переменить направление, увидев что-то новое, в то время как реальные улицы, хоть и поделенные своей геометрией на два разряда – поперечные и продольные,– в действительности одинаковы по всей своей длине. Если Софье Андреевне в пустые дни отсутствия Ивана случалось выйти в город по делам, ей все равно мерещилось, будто она вслепую бредет туда, где с ним происходит несчастье, и это чувство, когда на перекрестке ни с того ни с сего вдруг поворачиваешь на девяносто градусов, заставляло ее идти по газонам, залезать в кусты, на склизкие тропинки, только чтобы срезать, подневольный угол, превращающий ее хождение в бессмыслицу. Глядя на других людей, спокойно подчинявшихся механизму города, счетным машинкам светофоров, без конца умножавшим три на три, Софья Андреевна воображала, будто под асфальтом укрыт мотор, движущий людские фигурки, и прохожие в этой игре разделены на две, максимально на три команды, среди которых будут победители и проигравшие. Мир в отсутствие Ивана упрощался до конечного счета вещей – между ними оставались проходы по земле, но Софья Андреевна понимала, что бежать ей абсолютно некуда, что в каком бы незнакомом месте она ни оказалась, все будет то же: комната, мебель, окно. И сейчас кабинет неизвестного лица подтверждал ее уверенность тремя шкафами разной высоты, стоявшими в ряд, с претензией на «стенку»; двумя стеклянными графинами – один, сияющий, с мурашками свежей воды, на столе, другой, сухой и с зеленью, на подоконнике,– четырьмя различными пепельницами, рыхлыми и серыми внутри, точь-в-точь сегодняшнее небо, похожее на пепельницу с незатушенными сигаретами, испускавшими белесые дымы. Угрюмые лица Матерого и его приятелей представились ей рожами бандитов, убивших Ивана прямо посреди заваленной тенями площади у всех на виду.
Была, однако, еще одна возможность: что соседка первая нашла Ивана и утащила его куда-нибудь в недра ДК, где он и шлепнулся на нее, будто бифштекс на раскаленную сковородку. Глухое каменное здание, чьи звуки витали снаружи и доносились, будто посторонние, из окна в окно, способно было укрыть в себе и не такое – и не зря соседка высидела целый вечер угловатой задницей на краешке стула, готовая в любую минуту вскочить и побежать. Теперь растревоженной Софье Андреевне хотелось ее увидеть почти так же сильно, как и самого Ивана, ей даже почудилось, будто между любовниками имеется сходство – какая-то полинялость и на ней яркие пятна синяков, румянца, запекшихся губ,– нечто неуловимое, что как раз отличает Ивана от его круглоголовых, слишком одинаковых родственников. Ей надо было поскорей спуститься в ресторан,– тем согласней она кивала Матером); убеждавшему ее, с ладонью на лацкане пиджака, посидеть еще, пока они достанут Ивана из-под земли и возьмут с него не меньше чем ящик водки. Туфли, опять составленные вместе, больше не были парой обуви: правая, которую таскали на торг, задирала помятый нос, нога в ней сразу слиплась, точно туфля стала на номер меньше, и вдобавок к обеим отверделым «лодочкам» словно привязали коньки. Балансируя на этих иллюзорных коньках, сбивших складками ковровую дорожку, Софья Андреевна терпела, пока Матерый, придерживая дверь, выпускал своих. Они тянулись понуро, шаркая плечами о стену, и, судя по звукам, сразу останавливались в коридоре, не желая делать ни единого шагу без своего вожака. Ему, чтобы выйти, пришлось обеими руками толкать перед собой захмелевшую подругу, свесившую волосы на лицо, так что стали видны голая нитка между редкими красными бусинами, седельце жира на смуглом загривке.
Как только дверь за ними затворилась, Софья Андреевна, чувствуя себя на коньках чересчур высокой и как бы составленной из разных половин, проковыляла к хозяйскому столу, где еще раньше видела нарезанную четвертушками бумагу и тяжеленный, с куском голубовато-тусклого металла, видно, образцом какой-то плавки, письменный прибор. Хромированная ручка, с визгом вывернувшаяся из гнезда, была чересчур тяжела для легонького листика и все норовила его отбросить, будто сор, мешающий ее тупому и почти бесследному труду. Все-таки Софье Андреевне удалось нанести на бумажку несколько угловатых, из крестов и палок составленных строк,– но едва она собралась пристроить записку для Матерого на видное место, как она распалась надвое. Бумажек оказалось две, они не совмещались больше, на месте исчезнувших слов косо лежала белизна,– и послание из двух непонятных частей сделалось таким же странным на чужом рабочем месте, как и темные бутылки, стоявшие на собственных липких круговых следах, среди крошек и корок.
Софья Андреевна погасила свет и замерла в дверном проеме между двух темнот – полегче и потяжелей,– совершенно друг в друга не проникавших. Какое-то чувство симметрии относительно крайностей своего положения привело ее на лестницу, где электричество теперь горело только глубоко на дне и всходило долгим отблеском по натертому руками дереву перил. Затаив дыхание, Софья Андреевна стала спускаться по бесконечно нежным выемкам ступеней, словно водой проливаясь из чаши в чашу, и каждая глубокая ступенька стремилась удержать ее, обмирающую от страшноватой разницы между собственным влажным телом и безопорным воздухом. Софье Андреевне мерещилось, что если она будет дышать как можно глубже, то сумеет сгладить эту щекотную разницу и не упасть,– в то же время ее пугало, что, спускаясь, она как будто теряет в весе, будто часть ее остается, следами на смиренном мраморе, подражающем ей в неуклюжести. Тогда она локтями ложилась на перила и, боком слезая в полумраке, видела далеко внизу, едва ли не в подвале, свалку разодранных планшетов, освещенную ярко, до ножевидной остроты углов. Из-за резкого электричества каждая дыра в слепящем ватмане казалась выбитой с ужасной силой, и Софья Андреевна уговаривала себя, что не провалится, попросту не пройдет в сквозную щель между встречных друг другу, лыжней накатанных перил. Она старалась не оглядываться на квадратные маленькие окна в толстых стенах, тоже внушавшие ей непонятный страх: лунные ромбы торчали из них, точно орудия, которыми только что были прорублены эти отверстия.
Кухню она узнала по влажным насморочным шумам, идущим из-за отпотевших дверей. Коренастая девушка в марлевом колпаке, в мокрых шлепанцах на босу ногу, сбрасывала в ведро из тарелок остатки еды и погружала тарелки в бак с тяжелым кипятком, где они покачивались и глухо стукались о стены. Ее розовые сальные руки двигались сами по себе, а голые припухшие глаза неотрывно смотрели куда-то в сторону, будто завороженные. При появлении Софьи Андреевны посудомойка попыталась оглянуться на нее, но не смогла, и это опять напомнило покойную бабусю, как она работала руками вслепую, хотя ее глаза, большие, линялые, с коричневыми пятнами па белках, бывали в это время широко раскрыты,– только что-то сбросив на пол, бабуся вздрагивала и медленно нагибалась. Невидимкой Софья Андреевна проковыляла в зал. Там изрядно поубавилось людей, табачный дым мешался с холодом из форточек. Те, кто остался, отрешенно сидели вдоль столов, у огромных нарисованных ног первомайской демонстрации, похожей отчасти на выступление танцевального ансамбля,– так дружно двигался на зрителей нарядный полукруг, и розовые улыбки были чем-то вроде цветочной гирлянды, несомой сразу несколькими девушками в национальных костюмах,– а позади лоснились и исчезали в пятнах отраженного электричества бордовые башни Кремля. Мужик, который хотел на Красную площадь, теперь покачивался возле небольшого тусклого рояля над рядом совершенно одинаковых черных и одинаковых белых клавиш, время от времени тыкая туда нацеленным пальцем, вызывая звук, который после ни с каких попыток не удавалось повторить,– и за ним, подперши кулаком толстую складку щеки, с усталым интересом следила сонная свекровь. В зале никто не собирался по четыре, по пять человек: казалось, если гости сделают это, то должны будут что-нибудь исполнить, станцевать или спеть, чтобы как-то разрядить томительную скуку, и каждый предпочитал отсиживаться сам по себе, ковыряя мокрое пирожное.
Соседку Софья Андреевна увидала на прежнем месте: она сидела на стуле боком, закинув ногу на ногу, и сосредоточенно терзала ногтями подол, очевидно оттирая какое-то пятнышко. Весь ее облик был донельзя будничный и хмурый – морщины под челкой, двойная стрелка рваного чулка из запыленной туфли,– но больше всего Софью Андреевну поразили ее открытые руки, огрубелые и дряблые, с чернильными синяками, похожими на инвентарные штампы с изнанки казенного постельного белья. Эта старческая изнанка, будто соседке было чуть ли не пятьдесят, вызвала у Софьи Андреевны горькую мысль, что Ивана к ней могла привлечь только особая гнусность натуры. Еще она подумала с острой болью в душе, что Иван только тогда принадлежал бы ей целиком, если бы не мог заниматься этим вообще ни с кем. Тогда бы Софья Андреевна могла считать его действительно родным, настоящим близким родственником и не бояться приступов отчуждения, когда на Ивана находила эта лихорадка и он, имевший привычку ногами ступать по постели к своему укатанному месту у стены, вдруг окидывал ее из-под глухого потолка неузнающим взглядом, а потом валился со страшным хрустом диванных пружин, и на потолке проступало именно то, что было там и в прошлый, и позапрошлый раз: два потека и трещина. Если бы Иван, по крайней мере, умел скрывать, что занимается на стороне такими вещами,– но он, наоборот, являл свои умения и там, и здесь, позоря Софью Андреевну, потому что соседка знала в подробностях, как его тяжелые руки шарят по телу, как царапаются по-бабьи и как он, забившись в судороге, тонко вскрикивает – сначала за себя, а после словно за Софью Андреевну, показывая, как надо, играя, будто это она кричит и закатывает глаза. В такие минуты они с Иваном были действительно чужими – совершенно разрушался семейный тон, какой у них бывал у телевизора или на кухне, когда они касались друг друга уже почти машинально,– и долго после того, как Иван в последнем содрогании пускал на подушку желтую слюну, они не могли говорить нормальными голосами и начинали, будто после ссоры, часа через три.
Сейчас Софья Андреевна стояла перед застольем в кукольных жоржетовых рукавчиках и дурацкой фате, словно помеченная на сегодняшнюю ночь, и задыхалась от ненависти. Соседка переменила ногу, чтобы лучше рассмотреть свою неприятность, но вместо этого вскинула глаза. Сразу она оскалилась от страха, закинутое колено сорвалось, и вся она стала как-то ломаться и тянуть подол, будто надеялась целиком укрыться в своем коротюсеньком платьишке. У Софьи Андреевны мелькнуло удивление, что обе они одеты совершенно по-детски, но она без труда загасила в себе тепло. Она наконец ощутила, что не боится больше нарушить некое пристойное равновесие – якобы в собственную пользу,– ради которого иногда караулила соседку на лестнице, чтобы обменяться с нею обезьяньими улыбками, якобы такими, как всегда. Теперь она могла свободно выразить, что накопилось без Ивана, когда квартира через зеленую стенку, чью краску Софья Андреевна обтирала на себя, представлялась ей одновременно адом и раем, и она, измазанная, лепилась на зелень, будто неуклюжий хамелеон, не воспринимая оттуда ничего, кроме мучительно неполной, ни на что не похожей музыки. Софья Андреевна знала, что вот сейчас она за волосы вытащит соседку из ресторана и потребует, чтобы та пустила ее к себе,– увидит запретную область, куда скрывается Иван, ляжет сама на их кушетку или койку, а после затолкает стерву в свою квартиру и проведет, как по музею, показывая раскопанные дырки в обивке дивана, заброшенные вышивки с бородами перепутанных ниток, пятно на стене, похожее на белесый призрак Софьи Андреевны. Соседке в конце концов придется показать, где находится тайная дверца в ее обиталище, которая бессонной Софье Андреевне мерещилась то за комодом, то в кладовке, а когда среди ночи, в темноте, она тихонько выходила на площадку и тупо стояла перед большой соседкиной дверью, придерживая, чтобы не захлопнулась, несчастную свою, ей казалось, будто там, внутри, между квартирами открыто, будто только перед ней всегда стоит преграда, а кругом, куда она не смотрит,– сквозной свободный путь.
Оцепенелую Софью Андреевну заставил встрепенуться патетический стонущий гром – это гость, игравшийся с роялем, пошатнулся и умял в клавиатуру обе пятерни. Мельком отметив, что скоро увидит другой, ненавистный рояль, Софья Андреевна пошла через зал к побелевшей соседке, уже отъехавшей от стола вместе с креслицем на добрый метр и все толкавшейся каблуками в пол, будто пытаясь раскачаться на качелях. Еще издалека Софья Андреевна увидала, что тарелка со сметанной жижей и грубой стружкой овощей все еще стоит перед ней неубранная,– но тут прямо перед ее лицом промелькнуло что-то темное, крепко пахнувшее «Шипром». Перескакнувший ей дорогу мягкий толстячок, бочком и на цыпочках протираясь между раздвинутых кресел с плащами, очевидно, устремлялся в туалет. Людмила Георгиевна, стоя в трех шагах, пережидала, пока он пройдет, ее подведенные глаза скользили вправо и влево с равнодушным интересом, а пальцы в том же ритме вертели играющий кулон. Только тут Софья Андреевна поняла, что заскучавший было ресторан оживился переглядками и шепотками: ее хромающий выход, предваренный расшибленным аккордом, оторвал гостей от неинтересной размокшей еды, и теперь все происходило будто на сцене. Между нею и соседкой образовалось неприкосновенное пространство с чьим-то газовым платочком на паркете, а вокруг перевивался грубошерстный дым оставленных папирос. Двигаясь, будто выучила все заранее, Софья Андреевна подошла к соседке сбоку, взяла тарелку, которую та поспешно ей придвинула, и, успев увидеть на малиновом крепе несколько изжеванных ногтями крапинок, вылила туда заурчавшую жижу, в которой вильнула килька. С какой-то странной истомой на ослабевшем лице, с ужасными пятнами рыжей пудры, соседка стала медленно подниматься, перехватываясь руками, словно ноги у нее отнялись и не могли держать изогнутое тело, облепленное мокрым хляпаньем до бельевых застежек и костей. Порозовелая жижа толстыми струйками застрочила в паркет, и Софья Андреевна, опустив глаза, увидала, что и ее привядшее платье забрызгано жиром и помидорными семечками. Она спокойно подумала, что теперь-то ей, конечно, не видать директорского кресла. За спиной послышались гулкие звуки, будто пинали по мячу: это Матерый бил в ковшовые ладони, и на его багровой, совершенно пьяной морде читалось непреклонное одобрение. Соседка отпустила подлокотник и, согнувшись, болтая длинными руками, поволоклась куда-то, точно одурелый конькобежец по широченной дорожке,– и после Софья Андреевна отмечала с законной гордостью, что ощущение коньков на ногах, владевшее ими обеими в тот несчастный праздник, для развратницы закончилось болезнью и палкой, на которой она елозила и вскидывала задом, точно мошка на булавке, тогда как Софья Андреевна продолжала ходить горделиво, и всякий, видевший ее, одновременно видел цель, к которой направлялись эти равномерные шаги.
глава 20
Софья Андреевна не скрывала чувств и продолжала ставить соседку на место тем же самым способом, который в первый раз оказался удачным: метала на ее аккуратный балкончик бомбы мусора в мятой газете, запихивала в почтовый ящик немытые мешки из-под рыбы и с годами пришла к убеждению, что ничем иным – ни ядом, ни огнем – соседку не взять. Встречая ее неожиданно, отступая перед этим вздыбленным на трех ногах и цепенеющим от страха существом, Софья Андреевна испытывала обидное ощущение, будто ничего не может против нее и ее одежды, застиранной до каких-то нереальных, ангельских оттенков чистоты, если не имеет в руках чего-то ненужного, лишнего. Однажды она довольно ловко бросила в соседку засохшей елкой: было нечто фантастическое в том, как деревянный шершавый остов повалил негодяйку в сугроб, осыпавшись туда хвоей, будто огромная расческа, и как негодяйка пыталась встать, шебурша беспомощной палкой в блескучих, раздуваемых ветром космах мишуры. После этого Софья Андреевна неоднократно жертвовала то упаковкой соды, то десятком яиц, понимая, что мусора все равно не хватит, чтобы справиться с ведьмой,– не хватит целой жизни и всего их с девчонкой небогатого скарба, и если уж поддаваться ненависти до конца, то следует жертвовать всем, что она называет своим. Софье Андреевне все же порой приходилось унимать свои справедливые чувства. К примеру, соседкино постельное белье, которое та сушила во дворе (едва отжатое, провисшее до земли), вызывало в ней буквально вожделение своею большой белизной, сырым заветренным холодом, грузным вздыманием всей скрипящей снасти над верхушками бурьяна. Особенно мысль о том, как худосочной соседке было тяжело топить, ворочать и выкручивать сопящие полотнища, будила у Софьи Андреевны вспышку энергии – уж она бы в два счета управилась с этим заманчивым бельем,– но ее останавливало убеждение, что пачканье чужих простыней несовместимо с ее учительским достоинством.
По сути, она за счет соперницы изживала отсутствие Ивана, делала то, что ей хотелось и что при нем бы сделать не смогла. Каждый раз, добавив заслуженной грязи в соседкин лицемерно-чистенький быт, она старалась испытать облегчение, какое ощутила в свадебном ресторане, когда под возбужденными взглядами мужской половины новоявленной родни поняла, что исчезновение Ивана кстати, что его отсутствие благо в эту минуту, и хорошо, что он не видит, как его ученая подруга, вся перемазанная и с распяленными пальцами, мнется перед дубовой дверью, не зная, как и чем ее толкнуть. Соперницы страдали по-разному, но обе они, изгоняя родную тень, одновременно заменяли друг другу общего мужчину, давно между ними не стоявшего. Вернувшись из африканской пустыни своего одиночества, Софья Андреевна обнаружила в первую очередь ее, с отросшими сосульками волос на лисьем воротнике, от своей огромности и старости похожем на дикобраза, с невозможными глазами под зелененькой шляпкой,– Софья Андреевна долго не могла понять, что же в них такое знакомое, пока не увидала в зеркале свои. Теперь почернелая соседка походила уже не на Ивана, а явно на Софью Андреевну, однако напоминала о нем реальнее, чем тугой тонкокожий живот, откуда иногда раздавался еле слышный звук словно бы губной гармошки. Ребенок плакал у матери в животе первобытным нечеловеческим голоском, и спокойная врачиха в консультации равнодушно советовала лучше спать, побольше гулять. За месяц до родов Софье Андреевне приснилось, что соседкина дочь и ее темноволосый сын, прекрасный, как артист кино, выросли вместе и полюбили друг друга: будто они стоят во дворе у сараек, обнявшись каким-то опасным, слишком крепким способом, и подол девчонкиного платья, вылощенный ветром, больно хлещет мальчика по ногам. Мыльно лоснясь лицом при свете ночника, Софья Андреевна пыталась им объяснить, что они в действительности брат и сестра и им нельзя пожениться,– тогда они ответили, что соединятся по-другому, и мальчик стал неловко приседать, одновременно подымая перед собой и над собой ее подол, распадавшийся бесконечными складками, пока от него не осталась тонкоперстая щепоть, а девчонка продолжала стоять безмолвная, обтянутая сбоку до грушевидного рельефа бедер, яркая, как картинка из букваря. В другом варианте сна Софья Андреевна умолкла сына не исчезать, пока она не отыщет некий предмет, отменяющий ее слова про брата и сестру, некое доказательство того, что на самом деле измены не было: она потрошила сервант и комод, вытряхивала из шкатулок комья спутанных бус, переваливала со стороны на сторону глянцевые толщи журналов в тысячи страниц,– а лицо у сына становилось отрешенное, какое бывает у статуй во время сильного ливня. В последний плохой, нездоровый месяц сны приходили не как обычно: они не отделялись от яви полосой беспамятства, а начинались прямо в комнате, забирая ее как есть, а днем продолжали врываться в явь, так что Софья Андреевна с трудом осознавала, что бусы и шкатулки были в старом доме,– и, даже вспомнив, не очень верила в поблекшую реальность, полагая, что они каким-то образом все-таки здесь.
Ей мерещилось, что, если хорошенько поискать в приснившейся мебели, обязательно найдется такое, чего она не знает, и тогда отсутствие Ивана окажется ошибкой, какой-нибудь командировкой. Мысль об уходе мужа (Софья Андреевна считала это его поступком) первой поджидала ее при пробуждении, на той границе сна, когда она не сразу понимала, отчего так отвратительны бедная узкая штора, цепной железный звон будильника,– пока не вспоминала о несчастье. Тогда ей начинало казаться, что Иван специально запрятал объясняющую записку или предмет,– и это был первый шаг к тому, чтобы муж превратился в ее домового, ответственного за пропавшие пуговицы и шпильки, прилежного читателя нехороших книжек, сладко преющих по теплым тайникам. Собираясь на работу, открывая кран над нечищеной раковиной, облепленной ее редеющими волосами, Софья Андреевна слышала через стену в симметричном отростке водопровода ответное журчание и понимала, что с соседкой происходит то же, что и с ней; собственное ее лицо в голом зеркале на крючках, в точности на месте лица негодяйки, служило тому нарочитым, как бы специально подстроенным подтверждением. Софья Андреевна полагала, что, если хорошенько приглядеться, можно заметить под мешковатой соседкиной одеждой маленький беременный живот.
Однако иллюзия не воплотилась, сны оказались не в руку. В роддоме, в огромной кафельной комнате, где все с дребезжанием каталось на колесиках и беспрерывно ходили мимо неотзывчивые фигуры врачей, Софье Андреевне, уже опустошенной по дороге, показали головастое существо с невинной щелкой между скрюченных ножек и сообщили, что у нее родилась «катенька». Пожилая властная акушерка с ужасными следами былой красоты, бывшая с нею в машине, теперь старалась, как могла, дополнить гримасу младенца своей нарумяненной и начерненной улыбкой до картины полного счастья. Она, фактически назвавшая ребенка (плачущей Софье Андреевне было все равно), старалась и не могла простить здоровенной мамочке ее унылых всхлипов, а та глядела на морщинистого нежного червячка и понимала, что это все. У нее в ушах совершенно отчетливо, перекрывая хриплые вопли женщин, скорченных на высоких родильных креслах, точно на опрокинутых велосипедах, прозвучал прозрачный голос, не женский и не мужской, сказавший: «Мальчика не будет». И хотя как раз тогда и в том роддоме мальчиков появилось на удивление много – властная акушерка их всех называла «сашеньками»,– но в гладких свертках со спящими личиками угадывалось что-то неземное, неспособность быть и держаться на земле, что-то от крылатых головок с икон, и Софья Андреевна поверила бесплотному голосу, а Катерина Ивановна впоследствии подтвердила ее уверенность, оставшись вообще без пары и трагически (читай – счастливо) завершив историю женской семьи.
Стороной, через третьих лиц, Софье Андреевне передавали, что соседка, так никого и не родившая от беглого Ивана, очень о ней расспрашивает, интересуется, как здоровье, не завела ли она «мужчину», не беспокоит ли рояль. Вопреки жарким клятвам огнедышащего алкоголика из двенадцатой квартиры, что «профессорша» собирает на Софью Андреевну сведения для каких-то бумаг в милицию, вопреки призывам Колькиной матери, готовой хоть сейчас поджечь для устрашения соседкину дверь, Софья Андреевна знала, что эти расспросы не из вражды. Просто соседка нуждалась в ней, хоть в какой-то частице ее замкнутой жизни, где еще витало нечто от Ивана,– и стоило Софье Андреевне только поманить, у нее бы не было подруги преданней и задушевней.
Софье Андреевне и самой очень хотелось знать, как именно Иван расстался с негодяйкой: ведь получилось, что она, вытащив из полуоторванного мужнина кармана, который тот, подымая локоть, послушно подставлял, только свои ключи, выгнала Ивана сразу от обеих. Он просто оставил место с двумя симметричными женщинами, где они продолжали существовать кухня к кухне, туалет к туалету и были друг для друга точно в Зазеркалье – на другой половине дома, относящейся к прошлому. Софья Андреевна не раз пыталась вообразить, сразу ли Иван завалился к подружке оттаивать после того, как жена закрываемой дверью выпихнула его на площадку, или приходил прощаться позже, тайно, и они вдвоем ругали Софью Андреевну, а негодяйка, рыдая, распиналась на косяках? Как бы то ни было, Софья Андреевна полагала зазорным расспрашивать и доставала соперницу по-другому – догадываясь иногда, что неодолимое желание что-нибудь в нее швырнуть есть на самом деле желание прикоснуться.
В конце концов именно мусорная война дала ей такие сведения о злодейке, с которыми она четыре дня бродила точно пришибленная, стараясь ни с кем не говорить даже о своих обычных делах. Собственно, Софья Андреевна подозревала неладное уже давно: слишком редко злыдня стала выходить на улицу, а когда наконец попадалась навстречу, от нее противно воняло лекарствами, ее застиранная одежда казалась сшитой белыми ветхими нитками, висевшими тут и там из петельки, из прорехи, и желание запачкать пресные ризы, ляпнув на них целую пригоршню жирной прилипчивой жизни, становилось просто нестерпимо.
Однажды, в жаркую субботу начала июля, Софья Андреевна, заправив борщ, собрала очистки в газету и, привычно уминая сверток до нужной плотности, отправилась на балкон. Соседкин сквозной балкончик, в отличие от других, обшитых цветочными ящиками, ничего не скрывавший и этим – да еще трепетаньем пушинок на рассохшемся дереве – удивительно походивший на заброшенное птичье гнездо, сейчас до самых треснутых перил полнился хлопаньем крыльев и хриплым голубиным воркованием. Еще ни о чем не догадываясь, Софья Андреевна кинула ком в густое бурление, куда как раз спускался, расставив когти, распаренный сизарь размером с детское пальто. Пальнуло оглушительным шумом, птицы снялись и затрепыхались в воздухе, обнажив замызганный бетон с расклеванными остатками вчерашнего ужина Софьи Андреевны. Голуби бились и путались в голых провисших веревках, царапали когтями по карнизу, валились обратно в яму, на свежую и мокрую добычу, лопнувшую на ужасном дне, а тени их стремительно метались по оконному стеклу, и различие между хлопающей птицей и ее безмолвным отражением вдруг окатило вспотевшую Софью Андреевну мертвенным холодом. Чистое стекло с неясной горою серого тюля за ним отражало сизый и тонкий мир, где все скользило без звука и трения. Казалось, будто кто-то смотрит и видит такими горячие тополя в неопрятном пуху, смиренно ползущий автомобиль, ярко-белого до пояса мальчишку на высоком велосипеде: все возникало точно на промываемой фотографии, и ледяной ребенок стоймя шагал по упругому воздуху, переваливаясь между сквозных виляющих колес. Там, за стеклом, сохранялась своя тишина, которую не мог нарушить даже зудящий стрекот отбойного агрегата, громадными кусками ломавшего асфальт. Никакие звуки, даже слышные там, не были властны над тишиной, и ощущение стеклянной границы между балконом, полным воркующей, урчащей жизни, и волшебным покоем внутри скорее, чем неубранный мусор, убедили сомлевшую Софью Андреевну, что соседка действительно умерла.
Четыре дня она одна владела этой тайной, не зная толком, куда сообщить, и в глубине души не желая делиться – не желая вмешиваться и выступать виноватой перед полумифической, едва ли не иностранной по виду и редкости появлений соседкиной родней. Во все это время она говорила дома неестественным голосом и иногда замирала посреди разложенных дел от настойчивого стука собственного сердца. Девчонка, перешедшая в десятый класс и временно похудевшая, целыми днями, пропадала на сером, будто краска батарей отопления, видном из трамваев пляже обмелевшего пруда, а по вечерам утомленно остывала от тяжелого солнца, черная при свете желтого электричества, словно заварка в чае. Тишина все длилась; рояль молчал и превращался за стеною в черную плиту. Тишина висела полнейшая, но Софья Андреевна затыкала уши, чтобы иметь возможность читать постороннюю книжку; вдруг она вставала с откачнувшегося стула и делала по комнате несколько решительных шагов, пока не упиралась в то, что было здесь. Громкая дрожь водопровода вызывала у нее желание открыть у соседки кран; еще она все время думала, что надо бы прогнать с балкона покойницы голубей и как-нибудь там прибрать, пока туда не пришли и не увидели ее очистки и пропечатанные лохмы туалетной бумаги. Однако скрыть следы оказалось невозможно: помойные голуби, преющие в мокром и засаленном пере, множились числом и уже не ворковали, а рычали, будто собаки. Вспугнутые, они разлетались, замирая в каких-то точках взаимного равновесия, и сразу хлопались обратно на загаженный бетон: Софье Андреевне оставалось только беспомощно шикать на них и удивляться странному вдохновению окна, отражавшего и взлеты, и обвалы клохчущих птиц только как движение вверх, радостное устремление в пустое, сизовато-серебряное небо. Настоящее небо во все эти дни оставалось открыто и, едкое, сразу растворяло малейшие пленки облаков, жара стояла удушающая, и пахучие, зернистые с исподу горбушки развороченного асфальта спекались в комья, а земля на месте работ выглядела старой, никуда не годной. Девчонка посматривала на мать исподлобья; у нее на губах, которые она еще пыталась красить, выступила сыпь, напоминавшая розоватой шершавостью недоспелую землянику, и девчонка все время облизывалась и злилась. Софья Андреевна хваталась за всякую возможность уйти из дому, но в городе было не легче: жара после ледяной и ветреной весны застала горожан врасплох, и они, принужденные оголиться до последних пределов приличия, не имевшие возможности валяться на пляжике размером с грязный гребешок, белели сырыми телами среди скучной клеенчатой листвы. Их неестественная белизна на солнце отдавала в синеву – казалось, будто все они жестоко мерзнут в перезимовавших, плохо отутюженных ситцах и шелках; лица у всех, даже у молодых, кривились розовыми потными морщинами.
Только на закате натягивалась под углом к небесному куполу легкая рябь облаков; Софья Андреевна торопила себя уснуть, но чем крепче настаивалась темнота, тем явственней она ощущала едкую природу ночи. Если день разводил облака точно сонный порошок и окутывал голову вялым дурманом, то бодрая, трезвая ночь буквально растворяла стену возле неподвижной Софьи Андреевны, не смевшей шевельнуться. Чувство симметрии создавало уверенность, что рядом, в двадцати сантиметрах перегородки, тоже стоит диван, и если она неосторожно сунет руку в непроглядную пустоту, то коснется мертвого тела в ветхом кружевном белье, похожего на сыр в салфетке, вынутый из холодильника. Теперь уже не надо было потайных дверей – Софья Андреевна легкими ощущала весь объем соединившихся квартир, где все по-прежнему держалось на строгом равновесии: как бы Софья Андреевна ни легла, ей казалось, будто покойница невидимо простерта в такой же точно позе,– будто она, живая, передразнивает мертвую, вызывая ее на пробуждение и гнев. На третий и четвертый день, уходя в магазины, Софья Андреевна видела в дверях соседки множество записок – было ощущение, что надо их прочесть, чтобы предупредить опасности для сохраняемой тайны,– а переполненный почтовый ящик с торчащей из него газетой отчего-то походил на рюкзак, собранный для долгого путешествия.
Наконец на утро пятого дня от соседки донеслись нормальные земные звуки: грохоток сдвигаемой мебели, словно успевшей высохнуть в хлам, незнакомые шаги, явно уличные, в башмаках, обходившие квартиру точно двор, не задерживаясь на месте обычных хозяйских заделий. По особой сквозистости и внятности звуков ощущалось, что дверь квартиры распахнута настежь; широко и плоско плеснула в ванну вода из покачнувшегося таза и вторым приемом обрушилась. Полузнакомые родственники соседки засновали туда и сюда, все с печальными глазами навыкате; юноши у них шелковистостью усиков и вежливостью походили на женщин, и поразительная разница между шелковой, матовой красотой молодых и обрюзглым уродством старых, чьи носы вкупе с тонкими губами напоминали хоботы слонов, держащих ветки, казалось, говорила о том, что эти люди живут, чтобы так измениться, не меньше чем по триста лет,– но ведьме, как выяснилось, было всего-то навсего сорок восемь. Софья Андреевна старалась ни в чем не участвовать, хотя ее очень приглашал солидный товарищ, бывший у них, по-видимому, за главного. Маленького роста еврей с огромной, превосходной лепки головой, плотно обложенной маслянистыми сединами, был очень обходителен и даже брал ее под локоток, но Софья Андреевна все же отказалась зайти к покойной под предлогом подхваченного гриппа,– и два вечера подряд у нее действительно поднималась температура, заставляя кутаться и ежиться от умывания нестерпимо колючей водой.
Однако ей не удалось из-за незнания распорядка вовсе избежать похорон. Она хотела уйти из дому и вылетела на площадку как раз тогда, когда из соседкиной двери показался гроб в бумажных кружевах, к которому прижимались мятыми щеками четверо носильщиков. Гроб, какой-то плоский и слишком нарядный, будто коробка конфет, был, похоже, настолько легок, что носильщикам стоило труда ступать торжественно и согласовывать шаги. Тельце соседки выделялось под простыней только острым холмиком укрытых ступней, узловатые лапки были на груди связаны бинтом, и после смерти злыдня более всего походила на обезьяну. О том, как именно она умерла, Софья Андреевна в эту минуту знала меньше всех – и не хотела никого расспрашивать после единоличного владения тайной, веявшей из-за стены. Гроб, если глядеть на него отдельно, буквально прыгал по лестнице, растряхивая свои цветы направо и налево,– и это вкупе с мебелью соседки, не способной более держать на себе вещей и ссыпавшей их с себя при малейшем толчке, слышном у Софьи Андреевны будто торможение нагруженной тележки, создавало чувство какого-то искусственного нагромождения, неправды этой смерти. Подъезд наполнялся: через перила свешивались украшенные бахромой волос физиономии любопытных; верхние жильцы, желая подняться к себе, натыкались на шествие и поспешно сбегали на улицу, где пережидали за оцеплением из венков, слегка звеневших на ветру. Процессия, запрудив проход, ненадолго присоединяла посторонних людей, отмечая собою их повседневные дела, и Софье Андреевне было нестерпимо стыдно: ей казалось, будто все жильцы сейчас вспоминают об Иване и догадываются, почему она сторонится к стене, прижимая к груди угловатую сумку. Еле дотерпев до возможности сбежать, дошагав до дверей подъезда за чьей-то артистической спиной в лиловом, как бы женском пиджаке, Софья Андреевна бросилась прочь, вдыхая бумажный мокрый запах крупного дождя, разрисовавшего землю чернильными кляксами. На повороте она успела увидеть, как люди шарахаются от вскакивающих зонтов-автоматов, направляя в свободное место свои, и похороны разрастаются тугим бредовым куполом, а кто-то, наполовину сунувшись в траурный фургон, торчит из него лоснящимся задом в светло-серых брюках, тоже расписанных крапинами.
Весь день пришибленная Софья Андреевна не могла глядеть на пестрый растительный сор, расклеванный дождем, а в довершение поздно вечером к ней ввалился старикан из двенадцатой квартиры, тот, у кого с Иваном доходило то до драки, то до пьяного братания под пиво и сухую мелкую рыбешку, которой у старого браконьера было как щепы. Суровый и «выпимший», скверный старикан, потрясая в воздухе плачущей бутылкой с остатками вина, заставил Софью Андреевну тоже выпить и помянуть. Он обстоятельно сообщил, что «профессорша» умерла от сердца, когда мыла в тазике голову шампунем, и лежала, пока не пришли, лицом в воде, в своих раскисших волосах,– а под конец безжалостно добавил, что Софья Андреевна «плохо поет», чтобы она не смела петь, и грохнул перед ней кулаком, похожим на каменный топор, примотанный на палку вздувшимися жилами. Удивительно, сколько он прожил, этот опустошитель окрестных ржавых водоемов, чье содержимое напоминало компот с железом вместо сухофруктов: он только крепчал здоровьем от протравленной рыбы, на которую имел незаконные снасти еще пострашнее придонных химер,– а когда забывшая о нем Софья Андреевна умерла, он с полоротыми воплями, поминая Ивана Петровича, рвался самолично ее закапывать, и никому не известно, как верная Маргарита сумела его не пустить.
глава 21
Следовало все-таки отыскать жениха, чтобы наконец закончить этот счастливый день, и невеста с забрызганным животом, теперь и вовсе предоставленная себе, потащилась по этажам. В перспективе главной лестницы, придававшей ДК родовое сходство со школой, где работала Софья Андреевна, две неясные группы огромных порывистых фигур, отливая, как лужи, чуть рябенькой гладью, устремлялись друг к другу под гребнями алых знамен. Настенные великаны возникали тут и там, начинаясь неизменно с ног, причем везде соответствовали в росте персонажам соседних картин как одно сияющее племя, что придавало реальность их просторному, под бешеным ветром цветущему миру, через который великаны только проходили, оставляя его позади. Связующим звеном рисованных пространств служили пары в углах, бывшие вместе с колосистой лепниной словно частью архитектуры и одновременно явной частью утомленного застолья (Софья Андреевна вспоминала женщин по платьям). На чужие шаги они отвечали неподвижностью – со странными углами опоры о стену, в ужасно сидящей, точно выжатой одежде,– но стоило отвести смущенный взгляд, как глаз улавливал перемену позы и начиналось медленное трение, какое-то выпрастывание яркого из темного: женщина словно стремилась выйти из рук мужчины, как выходит из куколки, нежно почесываясь, дрожа на воздухе от сохнущей влаги, новорожденная бабочка или стрекоза.
Оскорбленная Софья Андреевна хромала дальше, чувствуя свое одиночество как необходимость двигаться, не смея даже присесть на одну из бархатных кушеток под сухими пальмовыми перьями или на секцию стульев с железным каркасом и полустертыми номерами, попадавшихся в отдалении от центральных парадных пещер, в соседстве заляпанных козел и ведер с краской. Видимо, было еще не поздно. Навстречу Софье Андреевне то и дело проходили просто люди без пар: четверо женщин в атласных синих сарафанах, с накладными крахмальными косами через грудь; какой-то встрепанный товарищ маленького роста, в простецком и грубом, как варежка, свитере; серолицые рабочие в отвислых штанах протащили, приседая и ставя ее на разные углы, холщовую декорацию, в которой то и дело открывалась бутафорская дверь. Некоторые бросали на Софью Андреевну любопытные взгляды, и она сжималась от мгновенной внутренней пустоты. Чтобы казаться просто одной из приглашенных на свадьбу, она в закутке отцепила фату – без зеркала, перед голой стеной в волдырях,– и теперь ощущала непорядок в начесе, отвратительно сквозистом до корней волос и пронизанном шпильками.
Все-таки она решила, хотя бы из чувства ответственности, обойти этажи. Соединенные тремя или четырьмя по-разному сложенными лестницами, этажи состояли в основном из коридоров и настолько повторяли друг друга, что любое отличие – иначе распределенное освещение, бюст на комнатном постаменте, обтянутом сукном,– воспринималось как специально устроенное для маскировки сходства. Одни и те же полуколонны, окрашенные то белым, то синим, то зеленым маслом, проходили снизу доверху: казалось, что значение имеют только вертикали, а полы всего лишь прячут пустоту с глубоким подвальным дном, заваленным наглядной агитацией. Минутами у Софьи Андреевны возникала иллюзия, будто она вот-вот провалится. Головокружение усиливалось на лестницах, представлявшихся каким-то внутренним подобием навешанных снаружи водосточных труб,– и наконец ее вырвало на дерматиновый диванчик, к которому она побежала, ощутив прилив непомерной тяжести в гудящей голове. Пока из нее плескало на пыльный дерматин, Софья Андреевна, кашляя и кукарекая, силясь продышаться сквозь горячую кислую слизь, мечтала только, чтобы ее не увидали и не услыхали. Опроставшись, она оробела и ослабла: прежде чем ступить, ждала удобного момента,– ей казалось, будто ее непрерывно взвешивают на невидимой чашке, а на другую ставят вместо гирь то легонький столик, то огромную корчагу с землей и торчащим из этой земли сохлым помелом; дурнота соотносила ее с любым предметом, видимым вдали, и внезапный гипсовый металлург за поворотом, в чьей белизне мерещилось что-то страдальческое, больничное, едва не опрокинул Софью Андреевну навзничь. Еще ее почему-то беспокоила разница между высокими окнами по центру ДК, занавешенными пышно и многослойно, как бы с предуведомлением чудес, и маленькими в торцах, голыми и почти квадратными, за которыми пестрела лунная абракадабра да мигала алая точка: невдалеке садился самолет. Иногда она, стоя в полутьме, не решалась пройти до конца освещенный конец коридора, видный до заголовков стенгазеты и серого пуха под стульями. Все-таки она заставляла себя идти, хотя смысла в такой очистке совести не было ни малейшего: пустые убедительные стулья подчеркивали безлюдность коридора, не имевшего потайных углов, где мог бы валяться Иван. Полированные двери, с табличками и без, явно стояли запертые; сколько Софья Андреевна ни шатала ручки, ни налегала плечом – всюду встречала отпор поверхности, отражавшей ее фигуру в виде расплющенного пятна. Даже кабинета, куда ее водил Матерый, Софья Андреевна не нашла и попала из всех помещений только в женский туалет, где ее напугала кривая проволока, приделанная вместо цепи к чугунному бачку и зацепившая ее за воротник, когда она вставала с унитаза.
С каждой минутой у Софьи Андреевны таяла надежда. Ей почему-то вспоминалось, как бабуся, поругавшись с матерью за ширмой, явно требовавшей кукол для представления, уходила из дому с потертым ридикюлем на потертом до коросты локотке, в своей любимой шляпке, будившей в сердце нечто поэтическое благодаря торчавшему, как из чернильницы, гусиному перу. Маленькая Софья Андреевна уже через полчаса ее отсутствия принималась воображать, как они теперь будут жить без бабуси, кому достанется вторая шляпа с бархатной розой и как она будет сама по утрам разводить себе американское сухое молоко, заливая лопающиеся желтые комки из тяжеленного чайника. Уже имея опыт расставания с отцом и зная, как зарастает пустота посредством всяких ухищрений (полагая, что мать, отыскавшая приработок, ходит теперь по вечерам на отцовскую службу), девочка придумывала все хорошо и толково, уходя в подробности до полного бесчувствия и побаиваясь только странного простора за обедом, когда на круглом столе становится как-то бедно без одной тарелки и выставленный локоть не вызывает поучений. Безнаказанная и беспризорная, девочка засовывала за щеку гладкий камешек с полоской, привезенный от шипучего теплого моря (класть несъедобные предметы в рот строжайше запрещалось),– как вдруг бабуся являлась румяная, в раскачавшихся серьгах и шла на кухню рассказывать новый фильм, где к слушателям осторожно присоединялась мать, глядевшая на бабку сохнущими страшными глазами. После этого было особенно обидно прибирать разбросанные надоевшие игрушки, снова чистить зубы мерзким, как лекарство, скрипучим порошком. Теперь же Софья Андреевна не чувствовала сил вообразить подробности предстоящей жизни без Ивана – вероятно, потому, что уже пожертвовала всем своим и не имела резерва ни для обустройства, ни даже для работы воображения. Дойдя до полного отчаянья возле очередного Ленина, сидевшего, будто перед пищей, перед горшочком со свежеполитой фиалкой, достигнув совершенного конца надежды, она сказала себе, что ей, по крайней мере, остается прежняя жизнь, которую она никогда не считала плохой, напротив, полагала светлой и обеспеченной, особенно в новой квартире, полученной после восьми лет полуподвала с парными ржавыми трубами, где все обитатели ходили раздевшись до белья. Сощуренный Ленин, явно сделанный скульптором с известной фотографии, напомнил Софье Андреевне, как она сама белела статуей перед цветами каких-то два часа назад,– и это укрепило ее решимость уехать домой на трамвае, чтобы еще проверить перед сном контрольные диктанты. Стараясь не думать, что прежняя жизнь с ее кастрюлями и расписанием уроков подернулась сумрачной тенью, Софья Андреевна тихонько, приставными мелкими шажками спустилась в гардероб.
Внизу гардеробщик, старый инвалид с отглаженным пустым рукавом в кармане пиджака (другой, на цепкой, тоже калечной руке, был измят и засален), без единого слова доставил ей пальто, очень ловко помогая себе выдвижным небритым подбородком. На улице ветер утих; скомканный обрывок газеты и кусок бетона на железном штыре, залитые луной, лежали одинаковой тяжестью, готовой ушибить запнувшуюся ногу; последние листья на ветвях болтались, будто номерки на железных вешалках пустого гардероба, свидетельствуя об отсутствии публики; слова на афишной тумбе тянулись и картавили, искаженные лунным притяжением, свеженаклеенная артистка в кудрявой прическе походила на шляпку черного гриба. Софья Андреевна осторожно пошла вперед, иногда без нужды подныривая, чувствуя на себе пропускающие тени деревьев, что стояли высоко в посеребренном небе, словно просвечивая через лист полупрозрачной кальки. Софья Андреевна старалась избегать больших и глубоких теней; все-таки вступая в них, она оказывалась словно в темной комнате, а потом начинала видеть остатки дневной обстановки – телефонную будку, вывеску почты, книжную витрину с выкладкой плакатов и брошюр. Уцелевшее, все это выглядело запущенным, словно день не наступал по меньшей мере месяц, а снаружи, под луной, все было нереально, точно это показывали в кино. Навстречу Софье Андреевне, шатаясь на вспыхнувших рельсах, вывернул трамвай с крошечной, как кукла, вожатой и пробрякал, увозя пассажиров, каких сумел набрать на ледяной остановке; равнодушные и счастливые, они качались на желтых деревянных лавках плечом к плечу, между ними, шатаясь не в лад, рывками пробиралась заспанная кондукторша в фуражке, с истерзанным концом билетной ленты, свисающим с живота. Смутно завидуя уехавшим счастливцам и жалея о пяти минутах, потерянных неизвестно где, Софья Андреевна приготовилась долго мерзнуть на остановке в ночном одиночестве, пока не подтянутся по одному, по два терпеливые люди на новый вагон.
Четыре скамейки под навесом, раздвинутым луною, как пенал, и укрывавшим тенью невверенное хозяйство, выставленное наружу, в колючие сорные заросли,– точно, были пусты; еще одна гипсовая статуя, вроде бы женского пола, белела толсто, будто ложка, утопленная в сметане.
Только один мужчина, которого Софья Андреевна видела из окна и не сумела пожалеть, все еще сидел ссутулившись. Так Иван – Софья Андреевна узнала его не вдруг – сидел потом на многих своих вокзалах, небритый, в грязной, будто шина, телогрейке, или, напротив, свежий, прибарахлившийся, с полной сеткой домашних постряпушек и банным листиком в чистых трусах. Что гнало его из города в город, от женщины к женщине? Может, ему просто нравилось ездить по железной дороге, казавшейся, если глядеть со стороны, такой же частью простертого пейзажа, как озеро или сосна, но в действительности ему не принадлежавшей? Железная дорога, промасленная нитка рельсов на просторной и косной земле,– разве угадаешь со стороны, как она связывает все, разбросанное вокруг, как все это может занятно крутиться, складываться и раскладываться, водить хоровод, веселя счастливого пассажира, хлебающего чай! С двух сторон все обращено к нему: взволнованные рощи на пригорках, грузовики у переездов, палисадники маленьких станций, надписи камнями и цветочными посадками на вырастающих откосах: «Миру – мир».
Все вдоль путей, родное одно другому благодаря десятку тысяч смотревших глаз, приобретает особую связность, представляя собою географический край, являя его неповторимую физиономию, почти неведомую людям, действительно живущим здесь. Пассажир запоминает Урал по длинному бараку на два крыльца с помидорной рассадой в окнах из некрашеных крестовин и тонких от старости стекол, кое-где подлеченных изолентой; Забайкалье – по бурной речке, расплетенной на широком ложе из горячих голышей, где на жестких кустиках трепещут мелкие, как мошки, белые цветы и летают загибаемые ветром, золотые бабочки; проезжая через десять лет, он видит их опять. Живые картины, проходящие за окном, неизменны, будто классические пьесы; никакая мелочь не может остаться неистолкованной, не проникнутой чувствами зрителей. Или проще – вот стоит избенка, заплесневелой крышей почти что на своем лоскутном огороде, ничего собой не представляет, а люди смотрят из окон, развозят память по всей стране. Одушевленное, ближнее, вышедшее к самой насыпи (исключая сопровождение в виде столбов, ныряющих проводов) удивительным образом связано с голубоватыми, почти недвижными далями – как их начало, их первый план; защитная полоса из ведьмовских, как метлы, пирамидальных тополей, за которыми лежит волнистое распаханное поле, кажется ближним берегом земляного озера, а дальний составляет зубчатый лесок, линия которого делает весь пейзаж похожим на страницу, вырванную из книги. Только благодаря совпадению пейзажей в левых и правых окнах низким солнцем просвеченного вагона местность становится частью страны, частью большого пространства, которого не чует под собой старуха на грядке, тетка в фуражке и кителе, с замызганным желтым флажком на ветру. Только остриженные дети с болячками на сморщенных лицах, что смирно стоят и машут поезду, держа за руки малышню, прекрасны, как прощение за собственных оставленных детей, и хорошо катиться мимо них, трезво читая газету, угощаясь бутербродами щедрых соседей, удивляясь мухе, что тоже едет, сидя и слегка подрагивая на куске казенного рафинада.
Все это твое, стоит только купить билет,– а можно и не покупать, только перемигнуться с проводницей подходящего возраста: не молоденькой и злой, в пережженных кудерьках, а так постарше, чтоб с понятием и жалостью, со складочками под низкой попой,– и ехать, ехать, куда везет паровоз; днем шуровать в вагонной нарошечной печке, солидно покуривать в тамбуре, где лязгает шибче и хлещет на шпалы водой, а ночью лежать вдвоем на узенькой полке, на боку у стены, под ихним сыроватым, как снег, бельем, чувствуя рядом как бы сидящее у тебя на согнутых коленях разморенное бабье тело, легчающее вдруг вместе с ускользанием отсветов по дико угловатому потолку служебного купе. Надо так уснуть, чтобы женщину не утянуло, как тянет море всякую всячину над глухо бормочущим берегом, чтобы она не растаяла в наплыве дремоты, была и там, по ту сторону подмывающей кромки сна. Но сон никак не настает – коснется и отступит; два тела, запутанные в простыне, качаются не в такт, и внезапно женщины уже нет в объятиях, как нет онемелой руки, и просыпаешься, обрубок, в поту и ужасе оттого, что не было больно. На столике у поднятой головы все так же диковинно, прозрачно, валко, как и снаружи, где проходит станция; за что ни возьмись, все плавно пестрит и играет вместе с рукой, зеленоватой от наружных фонарей. Глотаешь воду из непроглядной темноты эмалированной кружки, покусываешь цепочку на сладкой женской шее в дорожной крошке от угля, вспоминаешь вдруг, как хотел уехать от жены на трамвае и ждал незнакомого номера, чтобы завез в неизвестное место.
А утром снова играет радио, и патлатая сменщица-лиса бросает завистливые взгляды на нее, хорошую, с такими, как он любит, ребячьими пухлыми складками на зрелом бабьем теле, с конфетой сережки в розовой мочке уха, в свежей форменной блузке, где грудь ее темнеет на просвет, будто клубничина в молоке. Поезд стучит, строчит, сшивает два больших куска пространства, и никогда не успеваешь заметить, совпала ли сама с собой сквозная, трогательно скудная, березовая роща, или мягкая болотина с черными шаткими лесинами, или присыпанная синим гравием дорога у шлагбаума,– с той, что бежит под насыпью, сгорая под невозможным солнцем, валяя так и этак дымящийся горбатый «москвичок». Поезд стачивает пространство лицо к лицу, и только в преддверии города шов выворачивается наизнанку: дома норовят обратиться глухими торцами тюремного кирпича, из-за плотного забора вздымается перекрестьем балок на стальном листе какая-то наглядная агитация, могучая, будто ворота цеха; под откосом ржавеет кроватная сетка, дырявая, как рыжее вязанье, проеденное молью; две беленые чаши с настурциями в соседстве поля одуванчиков и горячих рельсов выглядят остатками лучшей жизни, виденной в старом кино. Никогда, никогда не покажется город в окна вагона таким, каким он известен или даже знаменит, только разрастается вокруг глухое громыхающее железнодорожное хозяйство да химерой крашеного гипса проплывет вокзал. Вот почему так тягостно было приезжать на поезде в большие города, где Иван оказывался всякий раз с неизбежностью рока.
Кто бы мог обвинить его в обмане, в нелюбви? Если Иван прилеплялся к женщине, хорошо его кормившей и жадной до него в кровати, все другие, а особенно ее подружки, становились буквально его врагами, в которых он видел одни недостатки: наглость, крапивный пушок на худых ногах, болгарские сигаретки с фильтром,– и если он и хотел отделать их в ужимчивые задницы, то исключительно для того, чтобы как следует проучить. Он все время пререкался с ними, пытаясь им внушить, какой должна быть настоящая баба, но в ответ на его замечания они либо заводили глазки под утлые лобики, либо принимались смеяться и наступать ему на обе ноги сырыми ступнями в давленой ягоде мозолей. Он нуждался в защите от них – были такие принципиальные, что требовали от него документов, будто милиция,– и находил покровительство у своей, готовой его спасать от целой бабьей половины человеческого рода.
Однако он помнил и прежних, тоже хороших,– помнил даже законную жену, бесчувственную колоду, с самого начала бывшую врагом. Уж эта была принципиальней всех: прихромала за ним на трамвайную остановку, пузатая, несчастная, с фатой в кармане пальто, а после не далась всего лишь потому, что на полу спокойно спали брат с приятелем. Разве они бы проснулись, сморенные дорогой, а после водкой, если бы жена не стала пихаться и шипеть? Но она устроила целую войну и билась в простынях, будто псих в смирительной рубашке, пока не столкнула Ивана на пол и не выставила перед братом совершенным дураком, разрисованным ее помадой,– не любовно, округло-рябенько, а сикось-накось, будто сочинение на двойку. Зачем тогда приходила, зачем возникла из полного покоя, где все стояло так красиво и было отпечатано тенями на земле,– малейший сучок и самый невидный провод имели точное место на этом документе, по которому вообще нельзя было ступать, а можно было только уехать по проложенным путям,– зачем сидела и плакала, заглядывая снизу полусмытыми страшными глазами, так что Ивану казалось, будто сквозь них непонятным усилием смотрит его нерожденный пацан?
Жена еще и потому была врагом, что рядом жила другая, худая и цепкая, будто мышеловка, всегда забывавшая снять профессорские очки. Но перед ней Иван – очень редко и совершенно внезапно – испытывал минуты такой большой и сладостной робости, что для добывания этих минут готов был проводить около нее сколько угодно свободных и ворованных часов. Но он не знал, что надо делать, как добывать: порой терял поплывшую душу, когда подруга прибирала стрижку и задевала очки расческой – замирала смешная, со скошенными глазами, неспособная расцепить сооружение на удивленном лице,– или когда сидела за роялем и вдруг становилась похожа на мать Ивана во время дойки коровы: округлый затылок, подвижные лопатки,– а то приподнимет руки, и будто ей не продохнуть. Иногда Иван просил ее повторить – не музыку, от которой у него голова играла будто радио, а самое мгновение, все до мелких подробностей. Он гонял ее и орал на нее, что выходит не так, доводил ее и себя до кругов под глазами и обоюдной нескладности, когда они не могли коснуться друг друга, не уронив при этом какую-нибудь из ее простых, как печатные буквы, вещей,– но внезапно она, забывшись, делала что-нибудь сама, и Иван, счастливый, бежал курить к своей хрустальной пепельнице в туалете, которую она поставила ему там на октябрьские праздники.
После Иван, как мог, заботился о том, чтобы две квартиры не смешивались в его подточенной памяти, чтобы никаких улик не попало в правую, якобы его настоящую, из левой, полной обоюдных подарков (на Новый год она подарила ему свой свежепротертый, освобожденный от нотных кип сияющий рояль, оказавшийся вдруг огромным и прекрасным, и Иван почувствовал, что обладание черным зеркальным гигантом в чем-то сходно с обладанием ею самой, что он не умеет с нею чего-то главного и может только отражаться, не совсем узнавая себя, будто он какой-нибудь профессор консерватории или артист). Левую квартиру Иван успел узнать гораздо меньше, он оттягивал ее обживание, как зек, осужденный на годы крытой тюрьмы, не торопится сразу освоить камеру и начинает с одного угла, чтобы хватило хотя бы на первые несколько месяцев. Потому Иван не спешил; разбираться в посуде и шкафах (если что-то было надо, брал попавшееся под руку) – но он чуял там тайники и догадывался, что эта прорва способна буквально всосать обстановку его незаконного счастья. Нередко он заставал жену прилепившейся к зеленой стенке, разделяющей квартиры,– толстенькую и невинную, будто жук-вредитель на листе,– ужасно боялся, что она просто изгрызет преграду в кружево и вот-вот прорежет первую округлую дыру. Особенно его бесили пятна зеленого мела, что оставались у жены на животе, плече и даже в волосах,– она будто красила себя в цвет своего отчаяния, физически сливалась с бедой, в которой жила,– и все это специально для него, Ивана, чтобы он усовестился и сотворил ей жизнь, какую она хотела: спать под ручку в разных подоткнутых одеялах, а днем зарабатывать грамоты. Тогда он мог за шкирку оттащить ее от стены, затолкать на кухню (при этом никогда не бил),– теперь же он защищал свою подругу от жены единственно усилием памяти, частенько его подводившей.
Память вместе со стопкой водянистых фотокарточек была единственной постоянной частью дорожного имущества Ивана. Он ни от кого не уезжал навсегда: его податливое сердце с алкогольной аритмией не вынесло бы такого расставания – или же расставание затянулось бы на годы, превратилось бы в постоянное занятие Ивана, и он метался бы, словно очерченный кругом, боялся бы потеряться из виду. Перебирая фотографии в белесых пятнах слепоты, словно размытые каплями какого-то давнего дождя, глядя на блеклые женские лица, такие погруженные в свое естество, что рядом с ними сам фотографический Иван порой казался женщиной,– он думал, что все они помнят его и ждут, чувствовал их ожидание, бесконечно таявшее, но неспособное прерваться совсем. Тогда ему бывало хорошо даже одному, даже в подвале или на стройке, где он, холеный, откормленный и грязный, довольно-таки странный бродяга, валялся на тряпках, вяло пропускавших холодную твердость бетона, и прихлебывал, держа ее за зубчатое крылышко, из раскаленной консервной банки.
По сути, Иван собирался вернуться ко всем, и порядок этого возвращения соответствовал обратному порядку сложенных карточек. Сверху вниз по стопе, чтобы со временем добраться аж туда, где ниже свадебного фото (там они с женой стояли будто солисты перед хором, подтверждая смутное представление Ивана, что семейная жизнь исполняется понарошку, как стихотворение или песня) хранилось несколько очень давних и выцветших снимков с молодыми мордашками, припухлыми от солнца: бесхитростный детский прищур, тонкое сено из растрепанных кос, крупный почерк на обороте, выцветший, как жилки на старушечьей руке. Ивану казалось, что его возвращение станет для всех совершенным счастьем.
Он хотел каким-нибудь чудом сохранить себе всех женщин до одной, и это походило на жажду, познанную в детстве, когда Иван, получив в подарок солдатиков или подобрав на огородных задах кровяную от ржавчины пластину старого ножа, хотел забрать их с собою в сон и для этого таращился на них из последней возможности, примостив на холме одеяла, крупно вздрагивая, если они внезапно набухали, как тряпицы на весенних окнах, что еле держат тяжесть выпуклой влаги, а когда она прорвется, превращаются в холодную липкую гниль. Он упрашивал мамку не гасить электричество в кухне, врал, что боится,– но мамке мешал даже бурый слабенький свет, целиком заключенный в дальнем углу. Когда наступала непроглядная из-за замкнутых ставен, черная, как сажа, темнота деревенского дома, желанная вещь сразу падала на пол, а Иван проваливался в сон, где все было крашеное, двойное, намертво вделанное в какой-то настил, будто карусельные лошади, и вдруг начинало кружить,– а потом, когда Иван привык выпивать, алкогольные его потемки сильно отдавали теми нехорошими снами, потерей единственного. Даже и в лучшем случае, если подаренная вещь, отразившись, будто спущенная на воду, начинала сниться (Ивану в это время снилось, что он спит), потом она либо оказывалась не тем, каким-то собственным изображением или макетом, либо ее отбирали у человека, бывшего во сне Иваном, давая ему взамен блестящие деньги на вате, похожие на золотинки от новогоднего праздника между стареющих к весне оконных рам. Однако этот опыт не пошел Ивану впрок: он любил своих разбросанных по стране подруг (даже и жену за то, что так праведно с ней расписался). Он верил, что они еще заживут большим и хорошим, как в песне, коллективом, а потом Иван, когда будет умирать, поставит их перед койкой теснехонько, как фотограф,– и если сумеет проскочить туда с открытыми глазами, то возьмет их всех с собою в смерть.
глава 22
Иван хотел вернуться, но как-то все время промахивался: железная дорога, с ее расписаниями и проводницами, без конца прошивая своим движением страну, относила его не туда, насылала сонный морок вблизи от нужной станции, заманивала названиями азиатских городов. Дошло до того, что Иван опустился, отчаялся: кружок на схеме, что Софья Андреевна получила в письме, означал в действительности люк канализации, где Иван прокантовался январь и февраль у горячей подтекающей трубы, имея в качестве постели женское пальто с бараньим воротником, взятое у последней подруги. Вечерами он тосковал подле кособокой свечки, слишком скоро выедаемой до основания желтым огоньком и здешним неровным, с глухими провалами воздухом. Безобразное логово Ивана обозначалось лепехами воска с горелыми спичками и кусками разной гнили, где, несмотря на зиму, вилась и лепилась черная мягкая мошкара. Потные стены, фекально пахнувшие стариковским телом согретого города, были везде, где можно, покрыты изломанными на их неровностях рисунками, изображавшими женщин. Обычно Иван там, где заставало его безделье, оставлял неприличные веселые рисуночки, серебряные – карандашиком, голубые и розовые – школьными мелками. Теперь, под землей, сотрясаемой сверху налетами грузовиков, ему внезапно сделалось мало своего умения изобразить красотку в виде грозди округлостей (к чему для пущей выпуклости он частенько прибавлял большие, весело глядевшие очки). Теперь ему, одинокому на целую душную ночь, тянувшуюся над его головой бесконечностью воющего тракта, хотелось, чтобы женщины были настоящие. Изворачиваясь и трудно шаркая на полусогнутых ногах под бетонным сводом, уменьшаясь до размеров скрюченного карлика, Иван пытался рисовать своих подруг в натуральную величину: желтый меловой кусок в неловко задранной руке ломался и стачивался о зернистый бетон, уходил, будто масло в теплую кашу; фотографии, на которые Иван поглядывал при долгом наклонном огне спекавшейся на блюдце, тоже рисовавшей в воздухе свечи, становились непроницаемы, как ночные дождливые окна. Перекуривая в виду своих размазанных трудов, Иван завидовал художникам из музеев, что могли рисовать портреты в точности как в жизни; его одурманенного сознания касались темные догадки, вроде той, что женщины каким-то образом древнее мужиков, и ему хотелось их постичь, хотелось им поклониться, будто священным животным. Втягивая то затхлую, то жирную, то сладковатую горечь чужих чинариков, как бы хранивших вкус человеческих душ, разминая ноющую, кривой березой выгнутую шею, Иван впервые серьезно думал о жизни, сделавшей слишком много оборотов и петель, чтобы можно было ее легко распутать. Со всех сторон его окружали меловые призраки, слепые белоглазые русалки городских подземных вод; он понял, что надо выбираться на поверхность.
Теперь он решил зайти с другого конца, начать от дома, куда упорно добирался целую весну, скоротечную, как болезнь,– через все соблазны и замороки, через все более знакомые городки, где даже площади были не ровные, а горбатые, под уклон, окруженные такими же горбатыми лабазами и кирпичными пнями обезглавленных церквей. Он добирался на автобусах, на еле видных, жутко грохочущих сквозь белую пыль грузовиках, а где и пешком, по размолотой сыпучей дороге, что представлялась ему земляной рекой, медленно влекущей свое содержимое за ногами и колесами из края в край; все существо его полнилось этой землею с горькой зеленью на склонах, этим знаемым с детства камнем, рыхлым, слюдяным, похожим на круто посоленный хлеб; казалось, даже грузовики везут ее, мучную и сытную землю, а вовсе не трубы и не дрова.
Четыре ночи не спавший, чтобы никуда не отнесло, Иван явился наконец в свое село, где от прежнего осталась маленькая сердцевина, подгнившая, будто яблочный огрызок. Половицы в материнском доме были холодны как лед; рука у матери сделалась жесткая, и чудилось, будто она ворошит ему волосы палкой. У старухи ни в душе, ни в теле явно не осталось ничего живого, чтобы прикоснуться к сыну; внучатая племянница, холостая бойкая бабенка с носатой мордочкой вроде кукиша, приглашенная жить хозяйкой при полоумной бабке, почти не помнила дядю Ивана и не хотела его оставлять. Воевать с племянницей было бесполезно: она владела хозяйством в полную силу бабьего расцвета, засаживала целый огород курчавой картошкой, держала кур и бело-розовую свинью с десятком седеньких поросят. Мать же только сидела на голом матрасе, иногда задевая ногой эмалированное ведро, служившее ей ночным горшком. Соседские девчонки, прибегая поиграть, обряжали ее царицей, навешивали на нее полотенец, сухой травы, цепляли ей ее медали, надевали, размотав платки с маслянистой, как чеснок, облысевшей головки, картонный кокошник, оставшийся от новогодних праздников, где по свалявшейся вате было выложено бисером «КПСС». Девчонок, бывало, давно повымело из избы, а старуха все продолжала играть, похохатывала, покрикивала, стучала об пол кочергой, не давала пришедшей с работы племяннице сволакивать с себя обмоченное «царское» – и обыкновенно за такие игры простужалась. Иногда, подобравшись поближе к окну, положив перед собою неудобно и прямо арифметическую тетрадку, старуха принималась отписывать родне. Письма ее, нарисованные по клеткам простым карандашом, оставались толковыми и связными не в пример речам – и были такими же точно, как и десять, и пятнадцать лет назад: завершенные обороты хорошо держались в памяти целыми кусками, и только иногда случалась путаница, если бабка ни с того ни с сего придумывала жаловаться на близкую смерть. Ручкой же и в казенных документах старуха писать уже не решалась; когда почтальонка Галя привозила ей ежемесячно пенсию, мать, заведя под платок кривые дуги очков-пузырей, ставила в ведомости, возле белого и мягонького, вроде полиэтиленовой пробки, Галиного ноготка, малограмотный крестик.
Иван никак не мог приладиться к деревенской жизни: скотина, особенно коровы с их шелковистыми боками, представлялась ему чем-то вроде ожившей мягкой мебели, и такими же ненастоящими, будто для смеха, были кривая банька с мочалкой, мыльницей и паутиной, засохшими в тусклом оконце; уборная на задах, щелястая, как тарный ящик; рукомойник на кухне, ни с чем не соединенный никакими трубами, самостоятельный со своим ведром, будто настоящий шкаф. Ивану казалось, что и живет он здесь понарошку, играется – как дитя в шкафу устраивает «дом». Ему нужны были или настоящие удобства, или возможность мусорить и лить, где больше нравится,– но племянница орала на него и требовала, чтобы он устроился работать на трикотажку.
Как ему было не прибиться к почтальонке Гале, румянцем и белым пушком напоминавшей племянницыну свинью,– но напоминавшей по-хорошему, в милом человечьем облике, и мирившей Ивана с чернотою и скукой села, с расквашенными под дождем коровьими лепехами, с тою безысходной тоской, когда стоишь на огороде и не видишь гор, исчезнувших в мороси вместе с дорогой на станцию, а рядом на гряде черные палки торчат из пожелтелой осевшей кудели гороха. Галя раскатывала по селу на большом и тряском велосипеде, вилявшем, точно в танце, грязными колесами, бороздившем лужи с радостным, воркующим звуком. Когда она, взбираясь на горушку, переваливалась с педали на педаль забрызганными белыми ногами, Ивана, точно молодого, подмывало броситься за ней и утащить со всеми газетами в ближайший сухой сарай. Даже ночью его терзало видение мятой сатиновой юбки, то слабевшей, то врезавшейся в нежную белизну голяшки,– с поддергом, присбором, с блеском какой-то видной сквозь спицы, располосованной колесами воды. Галя настолько нравилась ему, что даже мнилась недоступной, и Ивана коробило, когда она задевала его бедром, норовила протиснуться мимо на глазах у матери, улыбавшейся обмылками десен ради своих дешевых рублевок, уже завернутых и завязанных в угол затхлого фартука.
Все-таки Иван однажды очнулся у Гали, с чугуном в затылке и клеем во рту,– и расторопная племяшка живо притащила чемодан, который она и заспанная хозяйка, еле вылезшая из тяжелых перин, долго перепихивали друг другу по полу с неприятным шорохом и веселыми матерками. После в чемодане оказалось и то, что Иван не брал с собой в круговое жизненное путешествие: его скукоженные, еще пацаньи рубахи и штаны, рогульки от сломанных солдатиков, железная машинка без колес. Все это так и осталось лежать невынутое, только одежка пошла на ветошь для мотоцикла, который Иван перекатил из материнского сарая толканием и волоком,– всем сердцем чувствуя горбы родных камней. Иван ничего, прижился: сиротский дом хозяйственной Гали и младшего Галиного брата Севочки, губастого и бледного детины, похожего в парадных клешах на треску, был чистенький, разубранный всякими накидушками, пиленной лобзиком фанерой. На одной из фотографий покойной Галиной мамы, чье круглое, как часики, лицо Иван не решался рассматривать, ей было приклеено длинное платье из крашеной бумаги с блестками; на других она стояла и сидела в чем-то гладком, делавшем ее похожей на трехлитровую банку – то с вареньем, то с соленьем,– и глядела сама на себя со всех простенков и стен через большую пустоту, где иногда проплывали громады ее неимоверно выросших детей. Все-таки было что-то странное в этом тряпичном доме – подрастающая дочь Ивана могла бы ему подсказать, что он похож на кукольные комнаты, какие девчонки сооружают из коробок и лоскутков,– но Ивана волновало даже не это, а как хозяева умудряются в своей принаряженной нищете, где все на виду и на точном счету, укромно прятать хорошие деньги.
Севочка, рано бросив школу, много работал, много воровал; вечерами, разодевшись и навесив большой оловянный крест, шел с ребятами отдыхать. Там они пили что удавалось добыть и, если в окрестностях не было танцев, жгли высоченные стреляющие костры, подрывали самодельные бомбы, от которых старухи долго трясли глухими головами. Даже и в этом случае братик держал в уме, сколько потрачено на выпивку и бомбовую начинку; например, когда от их веселья сгорела складская пристройка сельпо, от которой остался лишь вздыхающий под пеплом жар да черный сироп какой-то синтетики, он, при неизвестном количестве пропавшего добра, посчитал, что ему все это обошлось в четыре пятьдесят. Сестра и брат любили точно знать, сколько именно в доме денег; страшно орали друг на друга, если кто-нибудь один потратился, не сказавшись,– по очереди вскакивали и нависали над столом, где коробились сосчитанные бумажки, причем лицо у брата все больше деревенело, так что он уже едва мог двигать толстыми губами в грубой коре, а у сестры дрожал и плавал подбородок, все черты словно размывало рябью обиды. Чувствовалось, что обоим хотелось бы утаивать толику своих доходов, но уменьшение целой суммы, недоверие к частям, неспособным слиться с нею в нужный момент, заставляли брата и сестру быть друг перед другом предельно откровенными. Дни получки или удачного торга краденым становились у них праздниками родственной любви: оба благостно молчали целый вечер перед кульком цветного мармеладу, где под конец оставалось еще много обсыпавшегося сахару, шедшего в чай, и листали альбом с фотокарточками, дожидаясь друг друга, будто читали книгу. Зато они буквально впадали в панику, если ни с того ни с сего пропадала какая-нибудь вещь: даже не пытались ее искать, а сразу подбирали, чем бы заменить, или бежали покупать другую, непременно такую же точно,– отчего в избе скопилось много чашек, ложек, тапок, будто здесь обитало семейство по меньшей мере из десяти человек.
Галя продолжала носить материнские украшения, такие тусклые и страшные, что ими можно было пугать детей: особенно одна почернелая брошка с пустыми лунками от камней, где торчали железные коготки, походила на дохлого паука, а другие, уцелевшие стекляшки в серьгах и кольце утратили игру, от которой осталось два или три световых расклада, на взгляд отдающих бензином. Галя любила поесть, любила поплакать; стоило сказать ей ласковое слово, как ее большие, навыкате, глаза наливались пузырями, две слезищи скатывались одновременно, как переспелые ягоды, и скоро она уже рыдала, лежа на столе, где ответно рдело в стеклянной вазочке вишневое варенье и умиленно лоснился надкушенный пирожок. Брат ее, если при этом присутствовал, не терпел ни минуты и сразу принимался строить Гале ужасные рожи, растягивая обеими пятернями белое, словно розовыми дырьями порванное лицо, или начинал гундосить и пританцовывать, а потом ходил морщинистый, опухший, безо всяких усилий являя то уродство, какое так трудился показать. Даже на улице чье-нибудь приветственное восклицание вызывало у Гали внезапный подъем вдохновенных, небесно-прозрачных слез – а вот перед телевизором она не рыдала, как можно было от нее ожидать, а чинно крепилась, сидя перед диктором, точно перед важным гостем, сама немного чужая собственной комнате с бело-голубой мерцающей кроватью и черными тапками на голубоватом отсвете половиц. Даже Иван, пьяный через день, понимал, что в размеренной и покойной Галиной жизни он – настоящая катастрофа, сплошная страшная сказка с бесследной пропажей денег и вещей, на которые она рассчитывала в случае других, ужаснейших несчастий. Видимо, она и привела Ивана, чтобы только доказать себе, что может жить и по-другому – настоящей взрослой жизнью бабы с мужиком.
Теперь Иван разобрался, отчего ему были неприятны Галины прижиманья и зазывные оглядки через поднятое плечико (на таком безопасном расстоянии, что Ивану оставалось только разинуть рот и глядеть издалека на трюханье ее велосипеда): просто она ему врала, ее стремление к нему не было искренним, как у женщин, с которыми он сходился прежде. Несколько раз он порывался от нее сбежать – уж слишком уверенно она ждала от жизни плохого, чего Иван никак не хотел делить. Но теперь уже она держалась за него отчаянной хваткой и распластывалась крестом между косяков, в то время как дверь у нее за спиной со вкрадчивым скрипом отворялась в черные сени, где тихо, с кругами неизвестного света на невидимой воде, стояли полные ведра, никак между собой не сообщавшиеся. Как бы ни был Иван отвратителен и ленив, как бы ни орал и ни заблевывал по пьяни ее навешанные и настеленные тряпочки, Галя хотела только одного: чтобы теперь ничего не менялось и оставалось как есть навсегда. Стоило Ивану где-нибудь присесть в холодке со своей флакушкой, как она пускалась разыскивать его по селу. Иногда он видел издалека, то вверху, то глубоко внизу, ее растерянную фигурку, странно коротконогую без велосипеда: она заглядывала везде и всматривалась во все с болезненным вниманием и в то же время обо все спотыкалась, едва не падала сама в кусты или в узкий проулок, где, конечно, не было ничего, кроме серой корки старого мяча да закисшей кучки, откуда, стоило ступить в траву, с гудением поднимались синие мухи. Порою Галя замирала, растопырив руки, и только вертела головой: казалось, она вообще была не в силах двигаться дальше по напряженному пространству, где в ответ на усилия рассмотреть возникали и норовили сбить или поранить все новые препятствия, которые обычно обходишь, не замечая. Так стояла она, покуда сумерки, повсюду выделяя белое, не уравнивали ее с размывом песка и с полотенцем на заборе,– но Иван уже не видел этого, хмельной, ненайденный, прижатый к чему попало томительной силой вращения Земли.
глава 23
Он и сам не смог бы теперь уйти, пуститься по второму кругу жизни, потому что рядом с молоденькой Галей вдруг ощутил себя стариком. Ночью, в постели, среди тяжелых, будто мешки на складе, комковатых перин, ее размаянное тело пылало, как в ангине,– но когда она вставала утром на работу и откидывала одеяло, оставляя после себя пропотевшую пустоту, то обдавала Ивана таким промозглым холодом, что ему уже не удавалось угреться, и он ощущал себя, будто куча жердин, горевших в пожаре и залитых водой. Трезвый, он мерз без нее. Стоило вытянуть руку или ногу, как они точно уходили в снег, и Иван опять скукоживался на своем пятачке, совал ладони туда и сюда, будто искал на белье несуществующих карманов, ошаривал себя всего, от подмышек до ступней, морщинистых и твердых, будто покоробленных огнем. Ощущение залитого пожара теперь не покидало его совсем: кислое жжение в желудке, слякоть, непривычная черная худоба, а главное – бездомность, белесое небо на месте, где был потолок.
Ивану, без конца таскавшему ноги в обвислых штанах по горбатому селу, все казалось, будто здесь существовало что-то; пространство было словно расчерчено остатками комнат. Он мог внезапно встать посреди пустыря с удивительным и горьким чувством, словно тут, у разбитой и мокрой плиты, он когда-то жил, проводил на этом маленьком месте по многу часов, питался из дырявых кастрюль, пока еще державших в целых краешках по скобке желтого дождя. У старого Ивана действительно оставался только мусор, хорошие и годные вещи казались ему какими-то глупыми, стоящими денег и как бы неудачно, никчемно их заменявшими. Принесенный племянницей игрушечный хлам Иван не решился выбросить. Он хотел оставить его в чемодане и засунуть под кровать – но там уже громоздились хозяйские чемоданы и сундуки, сырые от частых уборок, намертво склеенные собственной тяжестью, закрытые крепче, чем на замки, на закушенные крышками женские тряпицы, в которых Иван с неприятным сжатием сердца узнавал поблекшую одежду с фотографий покойной. Свое добро он ссыпал в авоську, и ее все время приходилось перевешивать с гвоздя на гвоздь, потому что неуклюжий Севочка въезжал то локтем, то затылком в царапучую погремушку. Ругаясь с белой пенкой на темных губах, похожих на заплесневелое варенье, Севочка грозился выселить «квартеранта» в баню,– и присмиревший Иван чувствовал, что баня ему была бы в самый раз. Пожалуй, ему пришелся бы по вкусу ее нежилой, осклизлый холод, шорох мертвенно-зеленых листьев на деревянном полу, эмалированный ковшик с расплывом ржавчины и приставшим Галиным волоском, гулко опускаемый в бак с остатками воды, трепет солнца и теней на пыльном окошечке, где внезапно возникала серая раскладная бабочка или крупно стукалась стрекоза.
Но главное – твердый и голый полок, простой по сравнению с Галиной кроватью, где измученное тело не находит дна, пока не почувствует в разгар скрипучей, все не достающей до удовольствия качки горбы покойницких сундуков. Теперь Ивану не всегда удавалось додержать себя в настрое до последних крупных содроганий. Чаще он слабел и буквально стекал в изнеможении и ознобе, с неподатливой крутизны, и Галя сразу начинала ворочаться, тянуть на себя одеяло, стряхивая с него Ивана, будто кошку. Она не давала ему устроиться, пока сама не переваливалась на бок и не начинала сопеть, свернув о цветастую подушку курносый нос. Спящая, Галя не вполне походила на себя: под глазом, на прижатой щеке, набегала бескровная складка, живот и груди свисали, будто утомившая за день поклажа. Зато со спины получался удивительно плавный и чистый изгиб, напоминавший Ивану давнюю женщину и ее рояль, что отражал своей сияющей поверхностью все четыре стороны света и словно отвечал его устройству более, чем школьный глобус, который Галя помещала на окно по смутному понятию о близости его к рыжеватому и зеленому пространству Земли.
Так же она на кухне прикалывала кнопками натюрморты из «Огонька», возле стола, где штопала и шила,– моды из «Работницы». Ей словно надо было дополнительно обозначить место, чтобы заниматься там каким-то делом со спокойной и уверенной душой,– но над койкой не было ничего, кроме снимков покойной матери, что вкупе с ее сундуками, издававшими от царапанья провисшей сетки еще какой-то собственный железный, ребристый шорох, наводило Ивана на мысль, что вот на этой кровати она и умерла и до сих пор находится тут каким-то подвальным этажом,– что это место предназначено собственно для смерти. Ночами, особенно зимними, когда из-за посеревших задергушек глядело совершенно белое, точно в мертвецкой замазанное окно, Иван не спал от пронзительного чувства – а вдруг он сам кончится здесь, вдруг почтальонкина койка и есть конечный пункт, сколько бы он ни бегал по свету и селу,– вдруг, умирая, он будет видеть именно это: завешенный кружевом слепой телевизор, невыносимо симметричные кроватные шары. Подобно тому, как в детстве Иван старался так наглядеться на свои сокровища, чтобы они одновременно были и снились, так и теперь он с тою же страстью силился представить, как перестанет видеть окружающее, не закрывая глаз. Иногда ему удавалось дотаращиться до того, что все границы и линии становились трещинами, вроде как на фарфоровой чашке, а предметы превращались в мусор, в разломанные куски, нагроможденные в бессмысленные кучи,– и тогда ему мерещилось, что в минуту смерти все это встанет на места, совпадет, срастется в целое и исчезнет. Часами он, боясь тревожить спящее и стонущее Галино тело, на глаз прикладывал одно к одному, никак не мог прекратить,– но столь многого не хватало, что бессонный Иван готов был босиком бежать за утраченным, если бы только знать, что оно такое и куда подевалось из этого бедного дома. Натянутые снасти старой швейной машинки, подобравшей под иглу куски раскроенного штапеля, напоминали Ивану железную дорогу, строчившую пространство бесконечными двойными нитями, сложно, как на машинке, натянутыми на высоких столбах. Он думал о том, что бедная Галя, иногда заезжавшая пообедать с полной сумкой писем и газет, не догадывается о чувстве, какое охватывает его, вечного путешественника, когда он нечаянно видит обратный адрес или заголовок – и знает отсюда, каков на вид, на воздух, на общественный транспорт Хабаровск или Нижний Тагил, а порою упомянутая улица предстает перед ним косой линейкой блочных пятиэтажек, застекленных понизу магазинами, либо беспорядком отштукатуренных домиков-кубиков с окошками, как выпавшие очки, с пивным ларьком на лысом глиняном бугре. Ивану даже мнилось, что ему на старости лет не случайно досталась в сожительницы почтальонка, что Галя, не зная сама, доставляет ему тайные весточки от прежних женщин и канувших городов,– и тем яснее виделось, что и она сама, и домик ее, опутанный малиной и крапивой, а зимой дымящийся снегом, действительно последняя станция. И однажды, в свирепый мороз, выстудивший, как бумагу, Галины занавески, пупырями высыпавший в дальнем от печки углу, Иван внезапно осознал, что дом настолько беден, что в нем гораздо больше изображений – всяческих картинок, фоток, статуэток,– чем собственно вещей, представлявших только самих себя. Тогда ему почудилось, будто он понял о смерти что-то очень важное, только не может выразить словесно.
Часто ему хотелось растолкать тяжелую во сне, бесчувственную Галю: ему казалось несправедливым, что он терзается, а она сопит и бормочет вперемежку с братом, не имевшим кровати, засыпавшим то на диване в зале, то на кухонном топчане, то на печи,– всегда ничком, в больших, перекошенных трусах, с обмусоленным пальцем во рту, пухло-розовом под молодыми грубыми усами. Иван под одеялом осторожно теребил кисельно-нежное Галино бедро, подымался выше, залезал под игручую, норовившую щипнуть резинку туда, где стоял густой и влажный меховой жарок. Теперь, когда вся его кровь собиралась в растущей сердцевине его естества, Иван в каком-то темном ужасе отстранялся и лежал бессильный, как чудовищный росток, уже не решаясь трогать заерзавшую Галину, чтобы снова не оскандалиться. В первый раз он был, по-видимому, слишком пьян и запомнил только отчаянную толкотню, будто он ударами тела пытался вышибить дверь,– запомнил папиросную белизну заломленной Галиной руки, тылом кисти закрывавшей глаза, а под слабой глубокой ладонью – мучительную улыбку. После Галя обмолвилась будто между прочим (однако поглядывая исподлобья и наливаясь слезами), что ведь она досталась Ивану нетронутая и не заслужила, чтобы он матерился на нее в магазине, при собрании старух. Иван не помнил, но думал, что так оно и есть, больше того, считал, что тогда по пьяни у него ничего не вышло. И после, отбирая из Галиных дрожащих пальцев каждую пуговку, ощущая, как вся она слипается от страха, с трудом пробиваясь туда, где у нее всегда было неподатливо и сухо, Иван не мог отделаться от ощущения, что ему опять не удалось. Сколько бы он ни трудился, ни бился до резкой боли в сердце, которое вдруг начинало заскакивать и сбивать едва налаженный, едва разошедшийся ритм,– ему не удавалось разрушить Галину девственность. Тело ее, совершенно глупое, с маленькими белыми грудями и широкими бедрами, нисколько не изменилось, как оно, по наблюдениям Ивана, обычно меняется у женщин, словно немного плавится, так что их уже не спутаешь с целками, как не спутаешь хоть раз зажженную свечу со стеариновыми палками, взятыми в магазине.
Галя и днем оставалась какой была: в выходные занималась тем, что рисовала и вырезала платья для бумажных кукол с невероятными глазами, вроде изузоренных бабочкиных крыл. Закончив, она расставляла своих принцесс рядами, прислоняя к зеркалу, сразу начинавшему косить, и тогда Иван замечал, что среди кукол, хрен знает почему, есть и специально уродливые, чьи лица, выдавленные с силой простым карандашом, были неразборчивы, а у одной лицо было вообще зачеркано, но как раз она получала от Гали самые пышные наряды, украшенные золотинками от самых дорогих, редко покупавшихся скупыми сиротами шоколадных конфет. Когда же Иван заметил – вернее, осознан, потому что наблюдал давно,– странное любопытство Гали и Севочки к сырому мясу, как они шевелили его ножами, медленно резали, интересуясь каждым кусочком, надавливая пальцами, чтобы на доску выходила водянистая кровь,– тут он и понял десятым чувством, что вообще ничего не сделал, и Галины инстинкты пока еще глухо бормочут и играют в игры, а то, чем она занимается с Иваном, кажется ей чем-то вроде зарядки, которую передают по радио. Да, это она устроила Ивану крутой житейский поворот: из-за нее он в тридцать девять по паспорту превратился в старика и, привыкший у других подруг к хорошей водке, нарочно начал пить одеколон из рифленых пузырьков с булавочными для выпивки горлышками, разводя его водою в горючий кисель: ему казалось какой-то особенно правильной местью, что пустые пузырьки такие невинные, вроде елочных игрушек, а сам он не вяжет лыка и является за полночь зверем, готовым сметать полотенечки, ковшики и портреты до голых, утыканных гвоздями стен и топтать все это добро своими уже давно и до подошв разбитыми башмаками. Ему, как пожилому человеку, делалось обидно, что молодежь не встречает его, не обихаживает, не помогает растеребить сырые шнурки, не каплет в глаза лекарство, чтобы перестали, только отвернись, бежать по белым стенам, увиливая друг от друга, черные таракашки.
Исподволь, незаметно Ивана пропитывал Галин страх. Теперь он боялся не чего-то конкретного, как это бывало в дороге (там он легко избегал контролеров, милиции, злого ворья, бывших, каждый в своем разряде, как бы на одно лицо, что уменьшало и упрощало опасности до счета их по пальцам рук). Он боялся вообще, из пространства, которое не могли уменьшить даже горы, стоявшие над селом, над бедным десятком разлезающихся улиц, где не было вообще ничего большого и заметного, чтобы хоть как-то противостоять открытому небу, его многоэтажной невесомой пустоте. Случалось, Иван замирал перед тенью, легшей поперек пути; вздрагивал от далеких звуков, не имевших, казалось, не только источника, но и направления на свободной местности, где склады, избы, колышки деревьев на склонах были настолько незначительны, что почти никак между собой не соотносились. Особенно он не любил попадаться в игривую, пробирающую до дрожи лиственную тень, что норовила скрытно тронуть его двумя-тремя блаженно-мутными пятнами, а при ветре шумно бросалась со всех сторон и силилась достать струением всего своего существа, внезапно и со вздохом отступавшего. Еще Ивану перестала нравиться вскрытая, разрытая земля. Он не понимал, как люди не слышат жирного хруста своих лопат, не чувствуют, что, когда земля и небо соединяются напрямую, без всего поверхностного, сами они становятся нестерпимо лишними этим основам, и им остается только побыстрее уйти от сделанного, побросав инструменты среди засыхающих корней.
Иван не знал, как ему сладить с беспредметными страхами. На комоде у Гали он приметил бумажную иконку с красавицей, поставленную среди шкатулок и всяких женских коробочек, большей частью пустых. Ночью, перелезши через спинку кровати, будто через чужой забор, Иван с трудом, сперва опускаясь на четвереньки для твердости, становился перед картинкой на костяные колени и, не попадая стиснутой щепотью ни на плечи, ни на лоб, накладывал большущую каракулю креста. С колен ему не было видно иконы – только поблескивали ручки комода, свисали кружева да зеленела радуга по верхнему краю толстого зеркала,– и у него возникало чувство, будто он, задумавший плыть, стоит на каком-то мелком месте, коленями в луже, видный как есть и ниже, чем по пояс,– елозит на близком, едва-едва прикрытом дне. Крестная щепоть была беспомощна, как и заломленные друг на дружку пальцы – от мизинца до указательного,– которые Иван, сколько хватало сил, «держал» от всякого несчастья. Порой они с Галей встречались свитыми культями – тогда ему внезапно приходила добрая мысль, что и она, когда недавно была пацанкой, так же, как и он, хлобысталась на фанере по протертому до досок льду детской горки, бегала в коневодство, барахталась до соплей у тех же самых мостков, где шипело и голубовато расплывалось мыло с отполосканного тетками белья. Иногда Иван пытался придумать и перечислить себе, чего же он боится, но в голове становилось пусто, как в небе, где если что-то и могло возникнуть из ничего, то только самое невероятное,– и самым представимым, что могло оттуда свалиться, была американская бомба.
Каково же было удивление Ивана – удивление, пробравшее его буквально до подошв,– когда на майские именно из пустоты, из кривой седловины, где по общему ритму окрестностей должна была стоять гора, но рисовалась в глубине лишь синеватая тень да тлела от невидимых машин пыльная дорога, вдруг появилась законная жена, отяжелевшая лицом, с тяжелой сумкой в оттянутой руке, ощутимо прибавлявшей свой вес к ее налитым килограммам. Она ступала по размытой улице с тою удивительной мерностью, которую Иван уже успел забыть, и через каждые десять (он принужден был мысленно считать) шагов поворачивала голову направо и налево. Бабы и старики, сидевшие на лавках у своих ворот и наблюдавшие за чужими, в эту минуту просто не могли не глядеть туда же, куда и она, и если сердитое, словно защипнутое на переносице лицо жены обращалось к их собственной избе, заворачивали шеи и даже привставали, просыпая на землю жареные семечки.
Немного позади супруги, внимательно глядя под ноги и словно стараясь попадать в ее следы, спотыкалась высокая толстая девочка, очень розовая и чистенькая, в неловко сидящей одежде, как это бывает после бани, но с жирными комьями грязи на туфлях и в смокших черным беленьких носках. Жена и девочка были настолько похожи, что сперва Иван решил, что это какая-то неизвестная ему ее сестра, а когда сообразил, кто же это на самом деле, то в первую минуту ничего не чувствовал, кроме мокрой щели в ботинке и занозной перекладины забора под ладонью, проступивших настолько явственно, будто сам он вообще исчез. Девочка была хорошая и даже с книжкой, которую прижимала к пухлой грудке совсем как гипсовая пионерка на школьном дворе,– но такая уже большая, что непонятно было, как же к ней подступиться. При мысли, что он поднимает такого длинного ребенка на руки, Иван вместе с резкой надсадой в животе ощутил обжигающий стыд, будто он уже по колени провалился сквозь землю и дочь, тяжелым столбиком повиснув на его слабеющих руках, медленно выскальзывает и тянет ноги в ожидании опоры, в нетерпении вырваться от старого отца.
Между тем приезжие подходили все ближе и делались все незнакомее, вот они уже свернули на тропинку вдоль забора, по которой Иван собирался идти в магазин: стало слышно, как они почти одинаковыми голосами говорят про автобус. Иван едва не выскочил из калитки им навстречу, едва не крикнул, чтобы они не приближались к нему. Вместо этого он присел на маленькие розетки щавеля, на стрелки молодой травы,– явственно видный сквозь голый весенний забор и сам увидевший поразительно близко в мигающих щелях полные ноги девочки, которые она словно выдергивала из чего-то на каждом шагу, а наверху проплыл ее беличий щекастый профиль и прозрачный бант. Ивану снизу показалось, что она действительно переросла его по меньшей мере на пятнадцать сантиметров. Теперь приезжие удалялись гораздо быстрее, чем подошли, но Иван еще мог окликнуть дочь по имени, она еще услышала бы даже шепот,– однако Имя безымянно билось в памяти и, сколько Иван ни нахватывал воздуху, ни дышал разинутым ртом, не хотело вылетать. Внезапно девочка обернулась и посмотрела прямо на Ивана, нахмурив широкие и реденькие брови в материнской манере, будто кто ущипнул за переносье,– и тут Иван окончательно забыл и понял, что, пока не вспомнит или не узнает, будет как немой.
Чужими огородами, странными их зигзагами, мимо тусклых маленьких теплиц Иван повалил домой, стыдясь на бегу своего коротконогого косолапого роста, словно остался недомерком как раз потому, что не растил дочуру и не был для нее могучим и большим,– и еще пригибался в межах, чтобы его не узнали из окон. Дома, в связке фотокарточек, спрятанной от Гали в старой овчинной рукавице, в самом ее меху, побитом молью в порошок, было, он точно помнил, одно письмо от племянницы, где она поминала про Катеньку. Ворвавшись в избу и распутавшись с веником, дугою съехавшим ему под ноги по стене, Иван устремился к вешалке, пошуровал рукой на верхней полке, потом, чтобы увидеть, отошел. Там было чисто и голо, стояли на манер кастрюль две зимние шапки – его и Севочки. Не было кома трикотажных шарфиков, не было обрезков овчины, не было рукавиц,– давно уже не было, вспомнил Иван, выпучивая глаза на свою распяленную пятерню, где на пальцах темнела густая жирная опушка пыли.
Тогда он немного посидел, чувствуя под собой неловкую, лишнюю складку неснятого ватника, потом поднялся и, подступив к раздутому бугру висящей хозяйской одежды, начал расталкивать его, выпрастывая полы пальто, плащей, болоньевых курток и залезая в карманы, точно в свои рукавицы. Он был уверен почему-то, что сегодня найдет у хозяев очень много денег, достаточно, чтобы выпить до семейного Первомая и щедро отделить на дочь.
глава 24
Бывшая жена действительно стала его ругать, а у Ивана больше не было ничего, чем он мог бы ее задобрить: поиски по собственным карманам чем дальше, тем больше походили на притворство, будто Иван что-то специально изображал перед ней – неудачно, с глупой ухмылкой на лице – и должен был теперь завершить и спасти представление каким-нибудь невообразимым фокусом. Не зря он в последний момент забоялся встречаться с суровой Софьей Андреевной, евшей за столом пельмени, будто поганых лягушек, и, на удивление всем, препарировавшей колбасу вилкой и ножом,– но умная племянница, с которой было заранее договорено, что она приведет ему жену в гараж, не захотела отступать, надеясь, видно, что Иван опять уедет в город и не станет отсуживать у нее материнское наследство, особенно домище, в котором мать-старуха уже болталась, будто отсохшая горошина или отломанная железка в старой игрушке. То, что происходило, не было похоже ни на какой совместный отъезд. Иван хотел объяснить жене, что был бы рад возместить недоплаты и даже, если на то пошло, купить для нее «Запорожец», но это попросту не в силах человеческих, и он тут не хуже любого другого, даже самого трезвого, потому что никто не может разом вывернуть такую кучу денег, если он, конечно, не украл. Однако Иван не мог говорить: выпитое бушевало в нем, точно муть в отмываемой бутылке, рот обжигало кислятиной. Внезапно все вокруг полезло на потолок, и Иван, с рукой, застрявшей в кармане, неуклюже повалился на бензиновую землю гаража.
Теперь, склонившись над ним, Софья Андреевна наконец разглядела, что мнимая молодость мужа была обманом памяти, обманом обиды, слишком крепко державшей давние его мальчишеские черты. Перед нею, наворотив измятое лицо на собственный кулак, лежал незнакомый старик: рот его – растянутую дыру – полоскало струями храпа, щетина, словно корка соли, покрывала подбородок.
Между тем все вокруг неуловимо изменилось, полегчало. С трудом разломив онемелую спину, Софья Андреевна увидела, что в дальнем, доселе непроницаемом пространстве гаража проступили прозрачные щели, темноты стали медленно отделяться одна от другой. На улице светало; все вокруг истончалось и делалось сквозным, будто надеясь выразить собой какой-то смысл, как выражает его сквозная строчка или буква. Снаружи что-то чиликнуло, процарапало по крыше; тотчас послышалось хлопанье и трудное спросонок петушиное кукареканье – не то в соседней стайке, не то во дворе, но так отчетливо и рядом, словно вовсе исчезли всякие стены, и Софья Андреевна подивилась странной растворяющей силе оцепенелого часа, которую уже наблюдала однажды, выгнав гостей, сидя в одиночестве у предрассветного окна. Содрогаясь от холода и зевоты, она пробралась мимо раскинутых ног Ивана к гаражным дверям, налегла плечом, чувствуя сквозь шерстяные петли кофты ледяную влагу железных оковок. Ворота качнулись, подались и стали намертво; в узкой щели, шириной не более ладони, Софья Андреевна увидала бесцветную полосу пронзительно чистого неба и черные на нем березовые ветви, где ни единый прутик не касался другого, оберегая мелкую, отчетливо-зубчатую листву.
Со вторым ее толчком совпал деревянный скрежет, почти что вскрик, раздавшийся за спиной. Ворота отворились, но не те, что перед ней, а другие, выходившие, вероятно, во двор, откуда напахнуло сыростью и чищеной рыбой. В проеме, крепко держась за щеколду, стояла почтальонка Галя – в той же водолазке и юбке, видно, что натянутых со сна, в калошах на босу ногу; узенькое черное пальтецо ползло у нее с плеча, лицо в грязновато-сером, как у персика, пуху отдавало недоспелой беловатой зеленью. У нее за спиной маячил здоровенный малый: по толстым спекшимся губам Софья Андреевна признала в нем одного из тех, кто давеча гнал ее по мусорным закоулкам. В отличие от Гали, не замечавшей на себе расстегнутых крючков, малый был при полном параде, при фигурном прянике креста, и обихаживал себя нещадно гнувшейся расческой, вслед за зубьями приглаживая ладонью плывущие, как фарш из мясорубки, замечательно густые волосы. Ухмылка его была хотя и не вполне уверенная, но злая.
Неясное побуждение заставило Софью Андреевну броситься назад, к простертому Ивану, который что-то над собой почуял и засучил ногами, будто пытаясь отползти. Не зная, что предпринять, Софья Андреевна попробовала одернуть на нем рубаху, что задралась и врезалась поперек спины, навести хоть какой-то порядок в представшем на люди безобразии. Однако подоспевшая Галя с силой отодрала ее несмелые пальцы и, вцепившись в плечо, перевалила набрякшее тело навзничь, словно была не совсем уверена, что перед нею именно Иван. Едва не захлебнувшись громким всхрапом и слюной, бесчувственный старик развалился перед нею раскорякой; одна измятая до синевы рука словно прилипла к голому животу, весь он вибрировал и пузырился, дрожали глазные яблоки под синюшными пленками, а на перекошенных брюках висели мешковины вывернутых карманов, пустые до последних крошек табаку. Галя осторожно, пальчиками, подцепила одну тряпичку и постаралась затолкать в положенную щель, но бросила, выпятила губы и снизу вверх посмотрела на Софью Андреевну. Получалось, будто Софья Андреевна ограбила пьяного и собиралась потихоньку уйти, но хозяева застигли ее у самого лаза на безлюдную улицу, где она была бы все равно видна на светлеющих косогорах перемытого песка и ползла бы, точно муха по фотографии, выдавая свою вину уже одним движением и спиною ощущая бездну с туманными и страшными предметами, готовыми ее раздавить.
Между тем трясущаяся Галя словно прочитала мысли Софьи Андреевны и тоже увидела ее зажатый кулак, истерзанный изнутри монетами и ногтями. Рывком поднявшись с корточек и бегая взглядом, словно ей вообще невыносимо было на что-нибудь смотреть, она срывающимся голосом заявила, что не должна жене Ивана Петровича никаких алиментов, что Иван Петрович четыре месяца не работает, а сегодня обворовал ее и брата и даже разломал икону, где за прокладкой хранились деньги на черный день. Софья Андреевна пожала плечами и раскрыла перед Галей кулак. Сразу она увидала, что пуговица с ветхой ниткой, выглядевшая проще и дешевле монет, как раз от того пальто, которое Галя пухлыми пальцами сжимала у горла и которое тоже казалось ограбленным. С кислой усмешечкой почтальонка взяла с ладони Софьи Андреевны сначала эту улику, потом сцарапала монетки, подцепила, как из грязи, комочек рублей. Ежась и пошаркивая, она проковыляла к брату, который все это время сидел на дощатом столе, болтая ногами в легких, как юбки, клешах и тяжеленных тусклых башмаках. Подумав, что молодой человек должен ее узнать, Софья Андреевна полупоклонилась, не избежав заискивающей улыбки: почему-то выходило, будто она запачкана перед ним безобразной вчерашней погоней, хотя на самом деле могла заявить на детину в милицию. Но парень не обратил на ее нырок никакого внимания. Он занимался тем, что, осторожно оцарапав коробок, зажигал с шипением и шорохом спичку за спичкой, а потом, наклоняя ее туда и сюда, играл огоньком, покуда тот не дорастал до толстой щепоти, которую малый со вскриком отряхивал, а после нюхал. Было что-то нехорошее в этой праздной забаве, неприятно напомнившей Софье Андреевне, как она сама сжигала книги; лицо детины, завороженное спичкой, длинно отвисало, зрачки дрожали, будто капли горячей смолы. Софья Андреевна подумала, что маленьким его не воспитали и не внушили запрета на игру с огнем: эта педагогическая мысль придала ей немного уверенности, и она даже решилась присесть на облупленный детский стульчик за мотоциклом, причем не сразу сообразила, отчего ей так удобно, пока не ощутила под собой округлую дыру.
Тем временем брат и сестра расчистили для денег место на столе, но не разложили их, а стали передавать друг другу по бумажке, мешая счет. Усталая Софья Андреевна надеялась, что у них получится достаточно много хотя бы из-за беспорядка, вообще имеющего свойство умножать предметы хоть до бесконечности, и пыталась укрыться за высокомерной маской, сползавшей с лица и державшейся только на задранном носу. Но моментами на нее накатывало такое возмущение, что она готова была вскочить и силой возвратить себе рублевки, точно в них заключалось все ее достоинство, перетираемое медленными пальцами, сбивавшими пересчитывание собственным числом в пять неуклюжих единиц. Однако нападение вряд ли принесло бы результат: малый в порыве нетерпения попытался выхватить у Гали ее пучок, но она буквально повисла на его вцепившейся руке, волоча подол пальто по затоптанным стружкам, так что малый едва сумел, не свалившись, вернуть ее на ноги. Непонятно было, складывают они или делят еще не сосчитанное; иногда они даже менялись местами, чтобы прояснить какие-то затруднения, и тяжеловесная Галя, более приседая, чем подпрыгивая, даже попыталась залезть на встряхнувшийся стол. Время от времени оба разом оглядывались на Софью Андреевну, и тогда между ними возникало сходство – неявное, такое, что, обманывая память размытым впечатлением, делает два совершенно новых лица, как бы отразившихся одно в другом, издавна знакомыми, почти обиходными,– и Софье Андреевне казалось, будто она знает эту пару толстогубых переростков всю свою педагогическую жизнь. Прислушиваясь к миниатюрной радиомузыке, вдруг с полутакта зазвучавшей где-то в соседних домах и сразу прикрученной, Софья Андреевна прикидывала, безопасно ли будет просто встать и уйти. Однако за стенами гаража стояло такое оцепенение, так одиноки, грустны были предрассветные звуки – гораздо далее от бодрого утреннего гама, чем шумы любого времени дня,– что Софья Андреевна не могла ни на что решиться. Ей казалось, что, если она завопит о помощи, ее голос уйдет в пространство отрешенной песней, столь же далекой для любого уха, как протяжный вскрик какой-то горной узкоколейки или нежное мычание коров.
Наконец сестра и брат, нашептавшись и натолкавшись, вывели из своего пасьянса какой-то итог. Галя, гордо вскинув голову, быстро вернулась к Софье Андреевне и объявила, что брат сейчас немедленно вызовет участкового. Изображая презрение игрою беленьких бровей, собиравших тесный лобик выше всяких возможностей, она добавила, что Софья Андреевна сразу не понравилась никому из родни, и нечего ей было приезжать, все восприняли это как наглое хамство, а денег в иконе лежало двести рублей, вернулось восемнадцать, остальное Софья Андреевна пусть сейчас же отдает, если не хочет попасть под суд. Брат на это кивал и ухмылялся, шатая ногою легкий тазик, хрустящий на мелких камнях. Галя запнулась, не зная, как бы еще уязвить «воровку», и Софье Андреевне, отвечавшей только немым, побитым паникой сарказмом, вдруг показалось совершенной глупостью, что обе они соревнуются быть одна несчастнее другой и не понимают, как они в действительности несчастны возле жалкой фигуры, больше похожей на человека издали, нежели вблизи,– возле скверного старика в нелепой, словно мальчиковой одежде, общей примете пьяниц,– возле того, кто был когда-то молодым Иваном, а теперь не смотрит и не чует, как они готовы над ним сцепиться, ни в чем не находя утешения. Софья Андреевна даже подумала вдруг, что небесная касса – идиотизм, что она и эта Галя делят пустоту, и внезапная мертвенная тень на лице губастого, странно выделившая белки, да зубы, да жирный отлив уложенных набок волос, почему-то это подтвердила.
Теперь она догадалась, отчего взяла с собою непомерно много денег, будто уезжала из дому на целый отпуск, отчего не хотела разменивать бумажки в двадцать пять рублей, собирая все копейки на сухие булочки в омерзительном от мух буфете автостанции. Теперь эти деньги, словно очищенные экономией от всего житейского, к счастью, были при Софье Андреевне: лежали, свернутые, в лифчике, как давным-давно ее научила бабуся, очень ловко, каким-то мужским движением, напоминавшим о жилетах и карманных часах, запускавшая два кривых и заостренных маникюром пальца в неглубокое хранилище, куда свисал на черной цепочке желтый, как сыр, растресканный янтарь. Софья Андреевна отворотилась, чтобы достать,– мимолетно ее обдало воспоминанием, как Иван расстегнул, а деньги прилипли, и он со смехом взял их румяным и жарким от ужина ртом. Воспоминание сразу ушло, и Софья Андреевна, страдальчески торжествуя, протянула Гале восемь крахмальных, не таких, как у них в семействе, бумажек,– и заслуга сразу была записана ей в актив на обратной стороне просиявшего облака размером с многофигурный памятник, что возникло в проеме на улицу, видное сквозь прутяную влажную березу, еще черневшую в тени. Галя отпрянула на холодный мотоцикл, но тут губастый, не забывший затолкать гнилые восемнадцать рублей в карман маскарадных штанов, подскочил и выхватил деньги у Софьи Андреевны. Глаза его были ужасны, словно он убил и сейчас же готов еще; настал момент, когда трое над бесчувственным телом, казалось, больше не могли даже прикоснуться друг к другу, не могли посмотреть на одно и то же, чтобы из-за этого не подраться. Софье Андреевне, собственно, оставалось одно: оскорбленно уйти.
Галя так и поняла: мотнув головой, показала Софье Андреевне на путь через двор, где прохаживались, замирая в проеме с поджатой лапой и гребнем набекрень, неопрятные, точно ватой подбитые куры. Быстро и решительно, роняя калоши, Галя пошагала вперед, но Софья Андреевна обернулась в дверях: до нее внезапно дошло, что именно сейчас – не тогда, когда хмельной Иван в оттаявшем, словно тушью пропитанном пальто шатался по ее прихожей, стараясь как-нибудь избегнуть распахнутой ею квартирной двери,– не тогда, а именно в эту минуту Софья Андреевна видит мужа в последний раз и впредь уже не сможет с ним по-настоящему сквитаться. Но было поздно: из-за мотоцикла виднелись две ожившие ноги, упиравшиеся в землю пятками разбитых башмаков, и губастый, сдавленно матерясь, какими-то привычными ухватками впрягался, чтобы волочь Ивана на себе. Глаза у Софьи Андреевны застелило горячей пеленой, она пошла вперед по черным доскам в белых кляксах куриного помета, с трудом удерживаясь, чтобы не ухватиться за туманную Галю, норовившую свернуть и вдруг нырнувшую под белье, что проволоклось по Софье Андреевне отвратительной мертвенной лаской. Слева возникла завалинка, эмалированная чашка, полная до накрененного краю жидких рыбьих потрохов, облезлая игрушка трещиноватой резины с железной пикулькой на спине, неизвестно что или кого изображавшая. Ничего нельзя было угадать, а Галя уже топталась в распахнутой калитке, как когда-то Софья Андреевна, точно все это было для нее поставлено,– и опять припомнилось, как Иван, уходя, погладил деревянной плотницкой рукой по кривой от ухмылки щеке,– но у Софьи Андреевны не было сил соответственно завершить представление. Она подумала, что, может быть, теперь они с Галей никогда не встретятся и никогда не распутаются, всегда останутся друг другу должны,– и запоздало пожалела деньги хорошим смиренным чувством, будто что-то действительно кровное, не заслужившее сделанной над ними глупости. Почтальонка Галя стояла перед нею отсутствующая и подробная, какими бывают только люди, которых видишь в последний раз.
Два часа спустя Софья Андреевна и дочь уже спешили к первому автобусу по золотой и мокрой утренней улице, полной холодного воздуха и терпкого, по-табачному крепкого запаха серых печных дымов. Все вокруг было необыкновенно отчетливо и в то же время не вполне реально, словно видное под лупой. Даже в зарослях мелкой лиловой крапивы еще держалась тень; свежие, резкие тени заборов и домов косо тянулись по песку, под лавками валялись запотевшие внутри бутылки, где стояла пьяная роса,– каждую девчонка норовила пнуть, спотыкаясь сонными ногами о какое-нибудь ближнее препятствие. Росистое солнце проникло еще не всюду, еще стелилось поверх земляных, с ледком, остатков ночи; и листья крапивы, и доски, и клюквенные флаги еще имели ночную изнанку, были словно подбиты темной байкой; узкий луч, прошедший между двух зубцов горы, направлялся, будто нитка в игольное ушко, в сквозной проем колокольни: тянулся, не попадал, снова осторожно пробовал, расходился волокнами, радугой играл в глазах у Софьи Андреевны, державшей под руку согбенную свекровь.
Старуха, когда они собирались, не спала, что-то роняла и ела в темной кухне: ее полуголая койка была занята тремя не то четырьмя телами, колыхавшими на себе чужие руки и ноги, и громче всех храпела женщина в одной только черной юбке и белом лифчике, откуда выпросталась мягкая, как старый гриб, раздавленная грудь. Увидев сборы, свекровь отстала от кусков торта с чудовищными розами и потащилась провожать. Несмотря на легкость и ветхость ее состава – Софья Андреевна, направлявшая под локоть ее неверные шаги, чувствовала, что держит кость,– старуха была ужасно тяжела и оставляла за собой едва ли не борозду из рытого песка и вывернутых камушков. То и дело она вырывалась и начинала посреди пустой дороги выглядывать место, куда бы сесть, махала скрюченной, сразу падавшей рукой на встречную корову, обегавшую ее с нутряным глуховатым еканьем и заворотом рогов. Софья Андреевна напоследок всматривалась в свекровь, ища в ее облике облик смерти, готовой явиться. Маленький, словно детский, череп уже проступал под иссеченной кожей, уже виднелась его улыбка под скорбным обвалом щек. Однако больше всего Софью Андреевну испугали руки: эти черные, почти уже не управляемые головешки бессильно висели вдоль нечистого фартука, и главным ужасом была их непомерная длина, как бы устремленность к земле, покорная готовность ее коснуться. Удивляясь, почему до сих пор не заметила этой черты, Софья Андреевна с содроганием вспомнила, как свекровь жила у нее перед свадьбой и часто, когда невестка занималась какой-нибудь домашней и понятной для нее работой, украдкой тянулась погладить ее по волосам. Она никогда не завершала движения, будто Софья Андреевна была какая-нибудь бабочка, способная взлететь из-под наведенной ковшиком охотничьей ладони. Однако сразу же, с маниакальным упорством, с каким она осматривала ящики и щели городской квартиры, праздная свекровь снова принималась ее стеречь и даже заходила так, чтобы тень ее не падала на невестку,– из-за этого Софье Андреевне казалось, будто свет на кухне чрезмерно яркий, лабораторный, и она боялась даже присесть на табуретку, чтобы не быть застигнутой врасплох.
Сейчас, хотя ее поездка кончилась как будто бы ничем, Софья Андреевна все же радовалась, что разминулась со смертью, пока та еще не приняла окончательного облика. Ей хотелось поскорее очутиться в пути, и автобус уже стоял на остановке – веселый желтый сундучок, изнутри оклеенный артистками,– и уже последний в очереди пассажир боком лез в полуразжатые дверцы, перетаскивая поверху поручня развалистый, рассевшийся на обе стороны рюкзак. Старуха все медлила, задыхалась, что-то хотела сказать, путаясь шершавыми пальцами в петлях кофты Софьи Андреевны. По знаку матери девчонка, мотаясь под тяжестью сумки, побежала вперед, ткнулась в ступеньки, кто-то сверху мелькнул ее подхватить,– а старуха все не трогалась с места, казалось, она вообще не сможет одолеть последние пятнадцать шагов. Еле теплый старческий пот растворялся в ее морщинах бессильной влагой, но глазки из-под обвислых век выглядывали настойчиво, будто, добравшись до места, ей и Софье Андреевне надо было справить еще какое-то дело, без чего расстаться было непозволительно. Вдруг старухина рука, глянцевитая культя (что-то от нее, еще как будто целой, было отнято, отсечено) стала медленно подниматься, осторожно скрадывать, и сердце у Софьи Андреевны сжалось в комок.
Но тут кудрявенький шофер, напоследок припав к папиросе, отчаянно кося, отшвырнул ее и, прыгнув за руль, демонстративно хлопнул дверцей. Софья Андреевна не то обняла старуху, не то оттолкнула и опрометью бросилась к автобусу, едва успев протиснуться между испускавших шипение створок в бензиновую полутьму. Однако еще не поехали: шофер, отмотав ей на восемь рублей серых и розовых билетов, сунулся было с ключом заводить мотор, но на все его тычки выходил только надсадный сосущий звук, обрывавшийся почти на визге. Софья Андреевна двинулась по узкому глубокому проходу, перелезая через горы поклажи, застревая ногами в тесной глубине. Пассажиры, ехавшие, очевидно, с ночи, спали, свесив набок бесприютные головы,– шеи с глубокими складками были старее бледных, грубых, березовых лиц,– другие, только что севшие, пристраивались, со вздохами закрывали глаза, ерзали, пытаясь слезть пониже в тесном пространстве между маленьких, словно детсадовских, сидений. Девчонка обнаружилась в самом конце – заняла последнее свободное место подле утонувшего носом в седой бородище, горько воняющего старика и уселась, подоткнувши юбку кулаками,– при виде матери вытянула сумку из-под коленок и снова уставилась в рябое от засохших капель, яркое окно. Софья Андреевна со злостью запихала сумку обратно, на что девчонка протестующе фыркнула,– тоже выглянула наружу и увидала, что старуха все-таки доползла до остановки,– уловила самый момент, когда свекровь, ухватившись за дерево, потянулась от него к столбу и едва не упала на землю, словно червивую от окурков и плевков. Наконец мотор зарокотал, и старуха замерла у черного столба, широко расставив ноги-мотыги под низко свесившейся балахониной, сквозившей на просвет, будто грязная марля.
Все – измученная улыбками группа провожающих, по диагонали освещенная уже горячим солнцем будочка кассы, рыжая кошка на ее крылечке, словно лекарством беленное сооружение туалета с беленой же, засыпанной комками извести землей вокруг него,– все замерло, стало, уступая движение автобусу, как бы отпуская его от себя,– и только дальше, на равнодушных улицах, мало-помалу зашагали прохожие, тоже сходившие на обочину и провожавшие междугородний гримасой из-под руки.
Софья Андреевна, нависая над дочерью в грузном упоре, видела все укороченным, безголовым, обочина бежала у нее в глазах, словно разрезаемая на тонкие полосы, попадавшие камешки прыгали, точно крупные блохи. Девочке, сидевшей ниже, открывалось больше. Молча, упорно вперившись в окно, она выискивала приметы вчерашнего пути, и ей казалось, что вчера все составлялось лучше и заманчивее, чем сегодня в обратную сторону, туда, где уже не было дали, а только дом да школа. Все беспорядочно грудилось, словно сдвинутая мебель, и уже принадлежало дому,– все такое надоевшее, словно этот валун, этот треснутый, с агитацией, фанерный щит девочка видела двести раз. Только жалко было толстую, по-птичьи пеструю березу – с прозрачным трепетом белой полоски на стволе,– что повернулась и осталась в какой-то яме, потому что автобус карабкался к перевалу, переводя складное солнце из правых окон в левые и обратно, щекоча безвольных пассажиров. Когда уже совсем закружились и взобрались, девочка увидела – непонятно, сзади или впереди,– округлую укладку дальних гор, все голубевших, все легчавших, словно они хотели слиться с небесами, буквально влезть на небо,– и девочке сделалось так печально, что она закрыла глаза и скоро уснула, и печаль продолжалась во сне. А Софья Андреевна видела внизу под обрывом, за стеблями пустотелого и цепкого бурьяна, оставленное село. Мелкое, словно выложенное из деревяшек и стекляшек (сверкнул прудок), оно, казалось, готово было сбиться и разъехаться от малейшего толчка,– а между тем удивительным образом укреплялось, странно обмирало, превращаясь в свое изображение, в собственную карту. Глаз ловил и не улавливал перемены: где-то в углу еще продолжалась запруженная толкотня – должно быть, гнали стадо,– но вот оно как-то осталось поверх изображения и потянулось по условной тропе, примерно показывая ее извивы, а колокольня торчала, будто игральная фишка. Условный Минск или Магадан на глазах непостижимо погружался в прошлое, где были уже протяжная равнина первой влюбленности Софьи Андреевны и синенький глобус на Галином окошке, в соседстве ящика с нежной нитяной рассадой,– здесь имелась подспудная связь, и Софья Андреевна знала уже, что ярче всех прошедших суток будет вспоминать вот эту карту, условное поле проигранной ею игры, где она сама каким-то образом осталась стоять подобно фишке, которую уже ничто не передвинет.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
глава 1
Очень долго и давно, не меньше чем сто двадцать лет, мужчины не умирали своею смертью в лоне этой семьи, но исчезали, как были, не успевая измениться за часы ареста или отъезда. После, когда весть об их погибели в каторге или на войне доходила до сомкнувшегося женского мирка, она воспринималась там как новость, непостижимо дошедшая с того света, где смерть, должно быть, случается так же, как и здесь,– уходит смысл существования, после чего все вокруг продолжается, и надобно как-то продолжаться и самой. Некоторое время ожидали еще каких-нибудь сведений, безо всякой, впрочем, для себя надежды: загробный мир, кольцом лежавший вокруг городка, никогда не возвращал им мужей и отцов, и любые вести, какие еще могли донестись, буквально относились к прошлому, так же как и собственные их воспоминания, с годами странно упрощавшиеся. Мужем становилась фотокарточка на стене, и женщина, что, как раскрытая до предела створок розовая раковина, трепетала ночами в сбитых простынях, тяготилась собственной плотью, будто каким-то излишеством,– а в зеркале, хотя и была недурна на внешность, казалась себе безобразной с этими кровавыми губами, прыщиками, темными подглазьями, точно полными засохших золотых чернил.
Но все это было ничто по сравнению со страхом дочерей перед отцами, с ненавистью к ним, убитым, бросившим на произвол судьбы,– и поэтому все труднее девушки из этого семейства выходили замуж, все дольше продолжалось их степенное девичество, все больше надо было самостоятельности, чтобы на улицах мамы и бабушки почувствовать себя одной, без них, и подставить лицо под колючий спиртовой компресс мужского поцелуя. Новый муж, войдя в семейство (никогда не удавалось взять новобрачную от ее беспомощных, услужливых старух), сразу ощущал пустоту, которую не мог заполнить один. Его пробирала дрожь, когда за тесным и скудным семейным столом (откуда даже на время еды не убирались игольница и нитяные катушки) ему от избытка заботы и заботящихся женщин наливали сразу два стакана чаю. Лишний стыл под сенью гипсовой вазы с побитыми фруктами, прибавляясь ко многим необеденным предметам, что маскировали бедность стола и через этот похоронный стакан как бы объединялись в прибор для покойного, составляли вторую реальность прямо перед лицами воспитанно обедавшей семьи.
Он был очень одинок в своей пустоте, мужчина среди женщин, хватавших у него из рук любую работу и всякий нужный ему предмет, сразу же подавая его назад с какой-нибудь услугой; женщин, столь между собою схожих, что они казались представительницами особой нации, почти азиатской по долготерпению и атласному, маслянистому отливу негустых, аккуратно прибранных волос. Рождение собственной дочери не соединяло отца с семьей, а напротив, окончательно делало чужаком – настолько малышка сразу была похожа на бабку и мать. Она родилась носатенькой, темноглазой, и на виске, где жилка, низко стелились карие шелковины, немного густея на мягкой головке, что лежала в согретой отцовской ладони, будто тяжелый плод. Бог знает, какой резонанс любви сотрясал мужчину при виде этого сходства, райской младенческой дымки во взгляде матери, пышнотелой и бесформенной, будто тоже только что родившейся на свет. Но дочь не являла ему ни единой его черты, словно заранее соглашалась его забыть, и сердце мужчины тяжелело от нехороших предчувствий.
Одновременно было что-то едва ли не кровосмесительное в том, как он был им физически нужен, как они ласкались и льнули к нему, все эти одинокие – включая и супругу,– одинаковые женщины. Теща, поблескивая заплаканным колечком, жамкала в тазу его белье, хрюкавшее от избытка усердия отечных пальцев, подросшая дочка залезала на колени и влажно шептала в набухающее ухо, что вырастет и женится на папе, а потом обнимала и стискивала до того, что сама багровела и едва не теряла сознание, а мужчина все не мог ощутить как следует дрожащее кольцо ее незамкнутых, нетвердых рук. Невольно, зная судьбу незнакомого тестя, он воображал при виде жены, налегавшей на утюг, как через много лет вернется точно к такой же женщине – дочери,– точно так же склоненной над исходящей паром белой пустотою глажки, с такими же капельками пота на переносице,– и мужчине казалось, что в этом мире вообще невозможно что-то сделать, далее догладить белье.
Он чувствовал себя чужаком не только в доме, оберегаемом от дыма его папирос, но и в самом городке, пусть он даже родился здесь. Теперь тонувший в пыли и снегу городок становился владением одинаковых женщин, что трудолюбиво исходили его ленивые улицы с останками обуви под заборами, исходили, подчиняясь каждому изгибу лужи и каждому мостку, увековечивая их во множестве повторений. Казалось, если методами передовой науки извлечь понятие о городке из их склоненных голов, получились бы не отдельные дома и земляные скверики, но целая карта, со всеми расстояниями и соотношениями, насколько точная, настолько и устаревшая, что вообще является свойством карт. Впрочем, извлекать и не было нужды: сам городок усилиями женщин становился собственной картой в натуральную величину, потертой на сгибах и до того устаревшей, что тут и там торчали пустые постаменты с надписями, точно камни на подлинных могилах низвергнутых деятелей, а развалины с наискось застрявшими кусками неба буквально выли на ветру. Все эти останки занимали точно то же положение и ровно столько площади, что и прежде сами сооружения,– городок ощутимо отдавал небытием, при виде целых зданий с раскрытыми окнами как-то прохватывало в груди, и хотелось просто глядеть на дали за рекой, где ровный зеленый цвет обозначал иной характер местности, желанной и недоступной.
Все-таки мужчины хотели остаться в городе и с семьей. Они работали и даже что-то строили – воспринимая это как попытку исказить чужое своим,– но строительство только прибавляло пыли, что с налету хлестала в заборы, а оставшись незавершенным, превращалось в руину особого рода, сделанную, будто в классическом парке, отчего проступала наружу рукотворность всего городка, бывшего теперь как бы воплощенным умыслом, соединением материалов, что-то из себя изображавшим. Мужчины чувствовали, что барахтаются в небытие,– с каждым поколением яснее, ибо семейное сходство женщин становилось как бы формой присутствия безмужних прабабок, и достаточно было любого общего, пусть даже отдаленного события, чтобы оно непременно обрушилось именно на них. Приходила ли газета с аршинным, почти настенным, заставлявшим пятиться заголовком, радио ли обрывало музыку, чтобы вдруг заговорила по черно-белому тексту мрачная Москва, просто ли бумажка с сообщением возникала на дверях какой-нибудь канцелярии,– и мужчину тут же забирало поднявшимся ветром. Его относило в неизвестность, и он не успевал ни на толику измениться за последние часы, как ни кривилось его лицо, как ни стесняла казенная одежда последние объятия супругов. Только улыбка мужчины давала женщине представленье, каким он станет без нее за чертой горизонта, что якобы рисует башенку и лес, а на самом деле – весь ее простой округлый мир, где она стоит и сейчас пойдет домой, чтобы уже навсегда соединиться с истинно своим.
Мужчины не умирали в семье, но вещи их оставались и хранились, будто от мертвых. Софья Андреевна помнила – словно с какими-то более поздними вставками,– как новогодней, жаркой, мандариновой, блескучей ночью четверо явились за ее отцом. Они были тоже крепкие, затянутые ремнями, очень похожие на самого отца,– у одного даже торчали совершенно отцовские, цветом и извивом волоса как тонкие прутики веника, рыжие усы. Софья Андреевна помнила, как она и мама все время пересаживались, и мама ни за что не соглашалась спустить ее на пол, ставший как в прихожей после прогулки. Девочке очень хотелось тоже порыться в кучах вещей, и даже не жалко было своих расколотых игрушек, потому что вываленное из ящиков имущество она воспринимала как потерявшее полезность, ставшее общим для взрослых и детей.
Поначалу отец был точно такой же, как они; эти дядьки в сырых сапогах. Но потом, по мере того как дядькам что-то становилось ясно из книг, которых они не читали, а распускали, держа их за корки, как за крылья пойманных голубей, отец словно переставал узнавать свою развороченную комнату с двумя нарядными и коренастыми соседками в углу, чьи босые ноги грубо белели ниже крепдешиновых подолов, а в начерненных глазах что-то одновременно вздрагивало, будто падало. Уже полностью одетый и застегнутый, отец странно озирался из-под водянистых век, порой кружил на месте, будто что-то искал около себя, а когда его повели на улицу, начал вдруг без слов цепляться за косяки, и дядьки так же молча отдирали его побелевшие, со скрипом ползущие пальцы. Внезапно делаясь сильнее пыхтящих дядек, отец вырывался от них, хватал из беспорядка какую-нибудь вещь, будто она была еще более прочной частью дома, чем косяк или стена,– и ее вынимали из отцовских судорожных рук совершенно изломанной.
Эти-то калеки, ставшие навсегда его вещами – никто в семье не посмел бы их починить,– хранились у Софьи Андреевны, пуще сабли и косоворотки, в нижнем чемодане на антресолях, в собственной, ничем не нарушаемой, почти окаменелой темноте. Ей, чтобы добраться до тайника, где все привыкло быть невидимым на манер исчезнувшего хозяина, пришлось бы работать целое воскресенье, оттирая замшевую пыль с выкроенными частями, пошедшими на верхнюю кладь,– словно вся эта мертвая память была изначально выкроена из чего-то одного. И собственно настоящее, с тесной квартиркой и тесными одинаковыми днями, казалось перешитым на современный фасон из просторного прошлого, от которого остались обрезки причудливой формы, звездообразно-кривые куски, тоже выцветающие и уже нестрашные. Пару раз предприняв уборку и натаскавшись мокрых чемоданов, Софья Андреевна отказалась от мысли перебрать у них внутри – и со временем, через много лет после поездки в Нижний Чугулым, перестала бояться отца, чья жизнь, не получившая завершения в смерти, как бы сама собою сошла на нет. Прикидывая в уме отцовский возраст, Софья Андреевна чувствовала пустоту свободно возрастающих цифр, отсутствие преграды для этого призрачного роста и уже не знала, как ей быть с воспоминаниями об отце, лежавшими на дне пустого объема прошедших годов,– жил ли он на самом деле или только померещился?
Теперь эти воспоминания приобрели особый, теплый, дымчатый оттенок, каким обладали самые первые впечатления Софьи Андреевны,– когда надушенная мама с золотыми часами на белой руке вела ее в какое-нибудь место, где после ни разу не пришлось побывать. Там сияла бледная комната с черной гнутой мебелью, очень похожая на талый сквер под собственным окном, а на окне круглился бликами и нежными темнотами кувшин с водой, особенно тяжелой в стекле; была другая, видимо, после уборки такая яркая, будто ее не вымыли, а раскрасили разными красками. Чаще других вспоминалась третья, пахнувшая теплым мылом, со множеством грязных зеркал, отражавших прежде людей свои золотые флаконы и серебряные железки; там на полу заметали гладко стелющейся тряпкой вместе с обрезками разных волос почему-то цветочные лепестки и труху, похожие вместе на раскрошенные папиросы; там, блеклая от зеркал и воды, мама поднималась из кресла с новыми, высоко уложенными кудрями, и когда обнимающие руки убирали с нее простыню, девочка всякий раз ждала, что мамино платье под простыней тоже окажется новым.
Были и другие странные, светлые, водянисто-талые области, обильные золотыми вещицами (золота и цветных прозрачных драгоценностей около маленьких девочек из этого семейства имелось во множестве, как на заре человечества в каком-нибудь Египте или Карфагене, зато лотом, во взрослой жизни, не бывало совсем). Взрослой, равномерно седеющей Софье Андреевне чудилось, будто эти вспышки памяти относятся к очень давнему прошлому, еще до ее рождения, будто комнаты-призраки существовали обиходно в двадцатых, что ли, годах и дотянули до ее младенческих лет остатками жизни другого поколения людей,– и точно так же воспоминания об отце и сразу после отца стали казаться ей драгоценными и не своими. Софья Андреевна помнила, что до прихода четверых военных семейство держалось вместе и было почти неразделимо, когда кормило ее с большой, неудобной во рту серебряной ложки, имевшей собственный кисловато-черный вкус, или вставало ночью вокруг ее колыбели, начинавшей раскачиваться от одного к другому под смутным перекрестьем на далеком потолке. Зато потом все стали жить как-то совершенно по отдельности и вечерами норовили разбежаться по углам, где горбились над штопкой или разлинованной без смысла книгой, а если и случалось поднимать глаза, то это происходило трудно, с мельканием пустых белков, словно в тугую петлю просовывали костяную пуговицу. Только когда у кого-то что-то болело и бывало забинтовано, они, как прежде, теснились кучей и баюкали боль – боль, а не девчонку, стоявшую перед ними в грязном платье и совершенном одиночестве, в серых комнатных сумерках с тугой белизною подушек, с темнотою между незадернутых окон, где домочадцы, собравшись около одного сидящего, замирали и исчезали из глаз.
После Софья Андреевна полагала распад семьи признаком своего растущего сознания, уже вполне различавшего домашних и их занятия, хотя на самом деле это был нехороший симптом: в семье накапливалась усталость, пространство, обведенное границей горизонта, изживалось и блекло. Женщины семейства инстинктивно стремились обрисоваться поярче и для этого наряжались, красили волосы в неестественные оттенки, отчего парикмахерские прически делались похожи на радиосхемы даже без железных бигуди,– но чем больше они усердствовали, тем легче было их вообразить ушедшими из дому и исчезнувшими навсегда. Именно это и произошло: вскоре после смерти бабки мать, впервые надев китайскую шубку с чудным, похожим на слоновье ухо, воротником, убежала к подруге и попала под грузовик. Все дороги в эту зиму были будто грязные, истянутые бинты и от узости своей, стесненной тусклыми сугробами, казались бесконечно длинными, бесконечно петлистыми, уходящими вдаль со свежим глинистым отпечатком одной и той же раны, случившейся у гастронома под светофором, вдруг ослепшим, будто старое ведро. Однако прошли года, и воспоминания выцвели, снег двадцатилетней давности растаял. Софье Андреевне, теперь уже действительно одинокой, не считая дочери, даже доставляло удовольствие предаваться им – она уже не боялась сумерек в своей панельной квартире и подолгу сидела, не зажигая люстры, что казалось ей подходящим для воскрешения слабых, почти не имеющих собственного света картин, относящихся как бы не к ее далекому прошлому, а только к прошлому ее родителей и оставленных Софье Андреевне в бедное наследство.
глава 2
Оттого, что нынешняя Софья Андреевна словно не участвовала в тех полуфантастических событиях, дата ее рождения оказалась размыта. Грузная женщина с ужасной в своем двойном развитии симметрией морщин внутренне видела себя молодой, понимая свое отражение только как дурную привычку зеркала, его неприятную гримасу, дома и в пределах школы приводимую в порядок расческой и подобающей скромной косметикой. На улицах отражение возникало вдруг, полузнакомое, с тонкими космами по ветру, будто волглый, с паутинкой лист конца сентября, и, подобно листу, равнодушно выпускалось из виду. Тайно от дочери, превратившейся во взрослую девицу с тяжелым подбородком и мелкими чертами большого лица, Софья Андреевна пристрастилась к приключенческим книжкам про пиратов и мушкетеров. Сидя за письменным столом над грязноватым томом, прикрытым чьей-нибудь проверенной тетрадкой, она буквально растворялась в переживаниях и не могла себя представить старше благородных героев, чья любовь как акт заключалась в защите женщин от грязных посягательств,– порою не понимала уже, чем Толстой и Достоевский лучше Дюма.
Не отдавая себе отчета, она вела свою сознательную жизнь от лета, когда повстречала Ивана, и, не долюбив тогда, теперь не глядела на ровесников, бывших почему-то либо маленькими и тощими, так что кожа их казалась вылезшей подкладкой мешковатых костюмов, либо непомерно разбухшими, с безобразными мужскими брюхами в натертых брючных ремнях. Среди них отсутствовал нормальный калибр, и они, немногочисленные, были будто шелуха, остатки поколения, куда-то исчезнувшего, на что-то истраченного. Недолгое время за Софьей Андреевной осторожно ухаживал вдовый директор, толстый, сирый, сердитый человечек, в чьей непредсказуемой мимике рьяно участвовали очки. Обыкновенно директор являлся к ней на урок и сидел на задней парте рядом с недовольным двоечником, время от времени спихивая на пол его учебники, а однажды на Восьмое марта, грустно всхрапнув, преподнес персонально Софье Андреевне подмороженную розочку с аккуратно срезанными шипами. На эти попытки Софья Андреевна отвечала любезным холодом – зато засматривалась на молодого физкультурника, большеголового и коротконогого, в голубых тренировочных штанах: его маслянистый пот, играющие желваки величиною с куриные яйца и дегтярные кавказские глаза вызывали у Софьи Андреевны романтические грезы. Если в учительской заговаривали о чем-нибудь волнующем, высоком, Софья Андреевна обращала к физруку мечтательную полуулыбку и, забыв обо всем, глядела так, что постепенно все остальные оборачивались к объекту ее внимания, начинавшему в ответ гортанно кричать и резать воздух темными ладонями.
Софья Андреевна ничего не могла с собой поделать, ей, недолюбившей, нужен был молодой. Она не понимала, до чего смешна, ей казалось, что она по-прежнему держится с солидным достоинством, просто иногда задумывается и отключается от общего разговора. Постепенно даже бегство от клешастых хулиганов по задам хмельного села приобрело в ее сознании оттенок романтической охоты. С волнением вспоминалось ей, как оживали от града камушков еще прозрачные деревья со свежей, резко-зеленой в вечернем воздухе листвой, как вскидывались ветки жестом потери равновесия, как неровно и глухо, пропуская щелями удары, отзывался забор. Это сердечное оживление, это волнение прекрасной добычи, газели или лани, облагораживало и охотников, придавало глумливой погоне оттенок бескорыстия, даже служения,– и если тогда оскорбленная Софья Андреевна видела в них деревенский вариант своих балбесов, не влезающих за детские парты, то теперь она с умилением думала, что эти юноши выросли, женились, стали мужчинами, а ведь когда-то были в нее немножко влюблены.