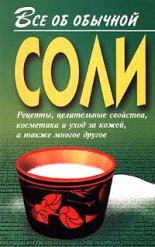Скитальцы Личутин Владимир

– Животик-то рахитный. Мы тебе животик-то поправим, – бормотала баба Вася. – Ты хлеба-то много не ешь, у тебя матин животик. А подобает всякому человеку беретчися от хлеба недопеченова, ибо великие болезни от того рождаются; да не едим хлеба горячева или гораздо мяхкова, да пусть переночует...
Целую шайку воды выплеснула на девку, и та сразу распялилась, задохнулась, зафуркала, прийти в себя не может, а баба Васеня с полка стянула, не дала опомниться, осушила внучку тряпицей, под мышку веник сунула, а сама уж хлестаться не стала. Умаялась она, ей бы сейчас кваску холодного да на лавку пасть. Плеснула на себя из ковша, вот и все мытье, один веник парной на полок положила, второй – с собой взяла, на пороге поклонилась и сказала: «Спасибо тебе, баннушко, на парной банечке».
А там, где Курья приворот делает под самый каменистый берег, столпились на влажной осотной лужайке мужики и бабы, топчут еще мелконькую острую траву осоту, под ногами ребятня путается: для них редкая забава. Людишки все медные от бани, на ситцевых рубахах потные разводы, банный и бражный дух прет от православных за добрую версту. Влажными, черными от мытья вениками от гнуса комариного отмахиваются и березовый лист, просохнув на лету в палючих воздухах, уже на землю падать не спешит, а летит косо, на потеху ребятишкам, потому что ошалелые собаки несутся за листами, как за большими зелеными мухами хватают, кусают их с ходу, чихают от березовой жгучей пыли и со злости задирают друг друга.
Пятилетняя Тайка у бабы Васени за спиной прячется и не отпускает ее тяжелую, как весло, руку: жутковато Тайке от веселья, которое заполняет ее нутро, от солнца, что печет белую голову, от множества брехливых собак, от бородатых мужиков и надоедных ребятишек. Баба Васеня что-то бормочет, часто крестится, выдирает из Тайкиной ладошки свою корявую ладонь, и потому девку покачивает, но она ногами стоит крепко и сразу ловит другую бабину руку.
Тут кто-то дернул Тайку за рубашонку, в ухо крикнул: «Жук навозный». Это Донька и Яшка промышляют, уж мимо не пробегут, чтобы девок Чикиных не задеть. Яшка малой, а заводила, беда какой обормот, все чего-нибудь надумает: сразу Тайкину рубаху на плечи задрал, девкин рахитный животик на стыд выказал да своей ногой Тайкину прищемил и в плечо рукой подталкивает, чтобы девка на землю голой заднюшкой села. А Донька Богошков голубые глаза ширит, палец во рту сосет. Потом вытащил слюнявый палец изо рта, запел:
– Девка глупа, нету пупа, пуп на елке, съели волки.
– Девка без пупа, девка без пупа, – запрыгал Яшка, а Донька снова палец в рот и хлопает белыми ресницами.
– А ты тоже, – робея, сказала Тайка, пересиливала себя, чтобы не заплакать.
– Что тоже? Тоже негоже, тоже по роже, – по-гусиному зашипел Яшка, сделал разбойное лицо и неожиданно ухватил Тайку за нос, да так больно, что два светлых соленых жука родились в уголках глаз. – Ну чево тоже? – Яшка еще сильнее ущемил нос, и глаза его стали темнее и страшнее.
– Ты тоже беспуный, – решилась и сказала Тайка, беззвучно плача крупными редкими слезами. А Донька опять вынул изо рта мизинец и запел:
- Кто тоже, тот погана рожа...
– Ба-ба, – наконец громко заплакала Тайка, дернула бабу Васеню за костыч. – Ба, а чего они дразнятся.
– Кыш, находальники, чего девку Таиску забижаете, – прикрикнула баба Васеня и, не оглядываясь, пробовала зацепить которого ли, да где там: их будто ветром сдуло.
Тут что-то ровно вздохнуло, легкий ветер пришел с моря, всколыхнул устоявшуюся мару, шевельнулась вода, и родилась на ней легкая синяя рябь. Толпа взволновалась, катаясь на скользкой няше, топая по ней и проседая по самую щиколотку. Стали забродить в ручей, кто-то смеялся, кто-то громко рыдал, выли собаки, их тягучий надрывный лай приносил тревогу и ощущение несчастья.
Баба Васеня тоже повлекла Тайку за собой, крепко прихватив ее за руку жесткими ревматическими пальцами. Глина обнимала Тайкины ножки, тягуче выкручивала из пахов, в самом низу животика было больно, а пяткам щекотно от прохладной няши. Потом все бросали в ручей жухлые от жары, почти безлистые веники, которыми хвостались в бане; и с суеверным страхом, часто крестясь и всплакивая, смотрели, как тонут они в желтой бражной воде и опять всплывают черными прутьями вверх и лениво крутятся в нарождающемся водовороте.
Баба Васеня бросила свой, почти целехонький веник, и Тайка слабой рукой подкинула исхлестанный и нагой, вернее, несколько корявых прутиков, которые она крепко сжимала в ладони. Охвостья до ручья едва долетели и упали на самую отмель, покрытую маслянистой лазурной пленкой, но откуда-то взялась волна и подхватила Тайкин веник. Он было захлебнулся в непрозрачной воде, на какой-то миг затонул, и баба Вася испуганно шагнула навстречу, дернув внучку за руку, но тайные невидные родники подняли узловатые, обстеганные прутики, и они закачались в ручье, будто взъерошенная мертвая ворона.
– Ну, слава те, осподи, значит, год живем – не помрем. Пойду самовар наставлю, а ты от реки подале, не толчись у воды.
Тайка еще видела, как баба Вася, перегнувшись в пояснице почти вдвое, тяжело поднималась в угор и маленькие розовые камешки снегирями отлетали от чуней. Но тут пронзительный, радостно-неистовый крик покрыл весь угор, – казалось, вскрикнула от внезапной боли какая-то великанская нездешняя птица:
– Сем-га-а ва-лит!..
Волна шла в шар навалисто, густым рыжим потоком, широко и слоисто, неслышно подминая под себя нижние пласты, и буквально вспухала, переливалась через края, как угревшееся в квашне тесто, затопляла черные глубокие следы, и мелкий бисер пузырьков сеялся поверх воды, словно внизу, на дне человечьего следа, уже поселился губастый окунь. Чайки летали над бражной водой, пронзительно кричали и хмелели, теряя белую слюну, ослепительно вспыхивали под солнцем и казались слепленными из воска. А на округлой глади протоки все резались и вспухали крутые дольные морщины, будто ручей стремительно старел. Это семга, ослепнув в мутном потоке, задыхаясь и тараща покрасневшие глаза, вырывалась на верхние, пробитые солнцем витые струи, и тогда косо срезанные черные гребни, так похожие на острие стрелецкой алебарды, мчались поверх воды, точно обрезанные от живого, стремительного тела.
Семга задыхалась, покинув море, но с отчаянием обреченного она рвалась туда, где ждали ее извечные родовые ямы, где из набухших икринок вылупились на свет Божий ее мать, а потом и она сама, и ее многие дети. Семга оглохла и ослепла от неистового желания, ее упругий хвост дрожал, как нерв, и только нежной кожей боков, которую до крови исцарапали песчинки, она понимала, что плывет не одна. И вдруг азартный зов, что взбаламутил Дорогую Гору, пронзил и налившийся стремительный ручей до нижних темных вод: будто тысячи рачков-капшаков впились в семог, и они распластались в своем движении на самой верхней и светлой морошечной воде.
А мужики, в одно мгновение забыв, что очистились от скверны, что завтра Иванов день, катились с угора, на ходу сбрасывая верхнее платье, и в одном исподнем, а кто и без, не стесняясь баб, – до этого ли сейчас, осподи, потеха-то какая, – сыпали в Курью, в крутые бражные струи, и сразу же исчезали по пояс в жирном вареве, и там, где брызги падали на белое тело, засыхали рыжие веснушки глины. Мужики становились живой нервной стеной, и в зыбком солнечном свете ослепительно вспыхивали остроги и вилы, охотничьи ножи и кривые длинные шилья с зазубринами на концах.
А на берегу, оскальзываясь на каменьях-голышах, дрожала от непонятного волнения и счастья Тайка. Она дрожала и, покачиваясь, тянулась к самой воде, в голове у нее мутилось, слегка подташнивало, наверное, от голода, и мелконькая затопленная трава зябко щекотала ноги.
Тайка и не заметила, как вошла в ручей по самые щиколотки, и вода омочила посконный подол: девка вглядывалась в глубину, и, наверное, от напряженья голову окружало, и невольно тянуло присесть. И может, показалось Тайке иль слишком желала она того крохотным сердчишком, но, оставляя за собой пенистый неровный след, от середины переполненного ручья кинулась в деревенский берег испуганная семга и неожиданно ткнулась в тонехонькие и слабые Тайкины ноги. Девка зачарованно и как-то недоверчиво смотрела на черную пятнистую спину, и косо срезанный взъерошенный гребень, и в студенистый выпученный глаз, все еще не веря своему счастью, потом стала неловко и осторожно приседать, опуская в воду ладони. И когда семга, вспугнутая живым движением руки, метнулась в сторону, Тайка повалилась в ручей, ловя упругое скользкое тело рыбы. Потом она попробовала встать, но ноги ее оказались в пустоте, и Тайка сразу обмякла, ее потянуло вниз, стало вдруг страшно, и, откинув назад, чтобы не захлебнуться, такую тяжелую голову, Тайка закричала пронзительно:
– Баба Ва-ся!..
Этот вскрик утонул в человечьем и птичьем грае, как-то никто не заметил, что тонет крохотная девка, да и до нее ли было в этой радостной суматохе. И только баба Васеня поймала Тайкин голос, потому что ее вроде бы рвануло за самое сердце, и она вдруг увидала, что внучки на берегу нет: растерянно крутнулась туда-сюда и, к ужасу своему, нашла Тайкину обмокшую голову в обезлюдевшей, переполненной Курье.
И баба Васеня, будто птица-журавлиха, мотая рукавами льняной рубахи, слетела с красного, почти кровавого от солнца угора и, не успев придержаться, так и упала в ручей, загребая ладонями воду. Она пробовала встать, но сразу не смогла, сбивала с ног быстерь, валила на спину, и потому баба Васеня поползла, проседая руками в тягучей няше. Но вдруг, толкнувшись белугой, кинулась к Тайке, вернее, к тени ее, которая еще слабо просвечивала сквозь освещенную воду.
Баба Васеня не умела плавать, да к тому же и скатилась-то в омуток, вырытый пришлыми водами. На последнем воздухе, что копился в самых закрайках нутра, она подхватила увядшее Тайкино тело. Сквозь пелену баба Васеня еще видела внучку в своих руках над самой головой, призрачную и совсем легкую, словно птичье крыло. И, толкнувшись ногами от вязкого дна, сколько могла, рванулась вверх и, как садила хлебы еще утром в протопленную печь, так же катнула Тайку по воде в сторону берега...
Тайку за ноги опрокинули вниз головой, и вода тягуче и горько, выматывая душу, хрипло вылилась вон. А бабу Васеню нашли на морском берегу через неделю и привезли в деревню распухшую, черную и неузнаваемую. Было жарко, и когда баба Васеня лежала в наспех сколоченном гробу, над нею противно вились и гундосили мухи. Тайке было страшно, она сидела на печи и неотрывно смотрела то на плешивую голову читальника, то на грубую тесовую домовину на лавках, на чужое, в синих пятнах лицо и на опухлые козонки пальцев, сжимающих свечу, на которые капал удушливый воск. Тайка подумала, что бабе Васене, наверное, больно от горячего воска и тесно лежать недвижной и сдавленной еловыми досками. В кухне было удушливо и трудно дышать, хотя и открыты настежь все двери; по лавкам сидели и судачили бабы в черных платках, ровесницы Васене; они поминали Гришку Носырю, который залился еще о прошлом годе, но так и не нашли хрещеного, а уж бабе Васене как повезло, что во родную землицу ляжет.
В тот же вечер, как поспела могила, бабу Васеню отпели и спешно положили в землю, в стороне от кладбища, и когда ночью все спали, она пришла к Тайке, живая и настоящая, с обгоревшим до медного блеска сухим лицом и с белыми хвостиками косичек, выглядывающих из-под повойника. Девка не удивилась и не испугалась, а спросила, радостно замирая: «Ба-ба, там тебе весело?» – «Как не весело-то, внучка, во спокое мы там», – сказала баба Васеня, и глаза у нее были нестерпимо-зелеными, как вешний березовый лист, пронизанный солнцем. «Ты меня возьми, баба. Мы будем с тобой на чунках с золотых горок кататься», – попросила Тайка, стараясь обнять бабу и, как бывало, прижаться к ее мягкому теплому животу, но баба Васеня вроде бы неслышно отплывала и все говорила затухающим голосом: «Бог с тобой, Таюшка. Ты молода, Бог с тобой. Поживи на земле-то, поживи. На земле родной порато[16] хорошо, куда как хорошо...»
Глава шестая
Мать принесла телушечку, тонконогую, вислогубую, с мокрыми карими глазами и всю черную, будто ночь, с двумя крохотными белоснежными заливчиками над передними копытцами. Мать поставила телушечку на жидкие ноги, и копытца поехали в разные стороны. Чернушка стала заваливаться на пол, хорошо, ее подхватил Яшка: он так и держал ее, дрожащую и мокрую, с тонким острым крестцом и слюнявыми губами, пока-то мать набросала у порога стогодовалой соломы, сохранившейся от прошлой коровы, и уложила туда чернушку.
– Теперь заживем, – сказала Павла, и горестное плоское лицо ее на миг осветилось хорошей улыбкой. – Петра Чикин дал за помывку бабы Васени. Помой, говорит, бабку, а почему бы мне и не помыть. Осподи, как, сердешную, раздуло. – Павла говорила непрестанно и все жевала губы, встряхивала простоволосой головой, не отводя взгляда от телушки. – Не заметим, как и подрастет кормилица наша. На, говорит, скотинку заместо денег.
– Ишь ты, – взросло подхватил Яшка, губы трубочкой вытянул и довольно переспросил: – Так и сказал?
– Угу...
Павла сидела у мокрогубой скотинки, обтирая холщовой тряпицей, а Яшка сзади навис к матери на спину, лохматя жидкие волосы.
– Заживем тепере?
– Ну пошто не зажить. Много ли нам нать, сиротинам, – ответила мать, быстро собрала на стол немудреную выть. Сама не ела, что-то не хотелось, села напротив Яшки, подоткнув кулаком горестное лицо, не снимала с сына взгляда и все дивилась, до чего же похож на отца. Вылитый Степанко: и волос егов, и губы, и похмычки. А ведь могло и не быть Яшеньки, как бы тогда жить?
– Ты ешь... ядреней ешь-то, понажористей. Быстрей вырастешь, – наставляла сына, а саму отчего-то тянуло поплакать тихонечко и наедине. – Ты не бедокурь на деревне, слышь? Пошто у бабы Фросиной козы рог обломил? Беда прямо с тобой. Сам не больше катанца, а смотри, что творишь... Пришла даве, жалуется: «Твой прохвост мою козу молока лишил».
– А чего она дразнитце?.. Откуль такого сколотыша Павле надуло? – передразнил Ефросинью и пообещал: – Вырасту, все окна высажу.
– Я тебе высажу. В кого только горлохват растет? – спросила себя и сразу осеклась, поняла, в кого Яшка удался. «Оборони от несчастий, – подумала, – не дай парню пропасть. Семый год идет, а все мужичьи похватки. Ой-ой-ой». – Бог мне тебя, Яшенька, на счастье дал.
– Бог, Бог, могла бы и татку иметь. Где растеряла? Все не как у людей...
– Осподи, чадушко ты мое, – сначала засмеялась, потом заплакала, закраснела глазами, нос сразу распух. – Ну иди ты к матери, она тебя приласкат.
– Приласкат, приласкат. Телю-то чем кормить станешь?
– Мужик ты, мужичок. У тебя и рассуждение все натуристое.
А Яшка не дослушал, отмахнулся рукой, побежал, топоча босыми железными пятками по скрипучим половицам, только рубашонка завилась в коленях. «Осподи, прибрал бы в порты, запнется да падет», – подумала Павла и закричала, поспешая следом:
– Ты куда?
– На реку, – донеслось с улицы.
– Смотри не утопни, утопнешь, дак домой не приходи, – устало махнула рукой, уже бездумно села на лавку в переднем углу, запрокинула голову и тупо смотрела в черный провал дверей, и белые подвижные тени на пустынной длинной повети, и на обыденно примелькавшийся гроб, который Павла в свое время поставила на попа, приладила досочки и ныне складывает туда всякую еду, пряча ее от надоедливых котовьих проказ.
А Яшка торопился угором, просто так спешил, не зная куда, уж такая у него была привычка, все бегом, все бегом, тут и поймал его Петра Чикин за подол рубашонки, зажал меж толстых ног, будто двумя бревнами придавил. Был Петра в синей пестрядинной рубахе, растерзанной до пояса, рысьи глаза посоловели, дырчатый широкий нос увлажнел, и от мужика нетерпимо накатывало пивом, как от хорошей бочки. Знать, добро помянул бабу Васеню еще намедни, а сейчас сомлел от еды-питья и сидел на ступешке крыльца гора горой.
– Куда дорогу правишь. Яков? Как тебя по батюшке там, надо будет у матки спросить, пусть ответствует, – спросил Петра и сдавил Яшку коленями, как коричневую лесную ящерку, и парнишка весь изогнулся, и казалось, оставит сейчас у Петры нижнюю часть тулова, но Яшка – не ящерка, а мальчишка по седьмому году. – А ну, винись, не ты ли у моего жеребчика по весне хвост отнял? – И закрутил ухо, да еще вместе с головенкой так, что Яшку просквозило горячей болью до самых пяток. Он внутренне длинно простонал, глотая в себе слезы, но крохотный прозрачный родничок все же родился из смородиновых глаз и просочился на замурзанные щеки. Но простодушно-наивными глазами Яшка глянул на Петру Чикина и сказал:
– А че он мне в лицо хвостанул. Я и осердчал.
– Он осердчал. Ну и находальник, разбойник, весь в тятьку, – по-лошадиному заржал Петра, его сырое тело колыхалось, и живот тяжело вылился из портов, белый и огромный, с рыжей пуповинкой посредине.
– Он осердчал, ну ты таковящий... Экий ты языкастый. Дак чей будешь? – не отставал Петра, но колени ослабил и ухо отпустил, а Яшке почудилось, словно отняли от лица горящую головню.
– Богов я...
– Ишь ты, Богов, значит? – Петрины глаза чуть прояснились, и в них родилась дальняя тупая мысль, похожая на воспоминание.
– Мне мамка сказала, что Богов я.
– Ну и ладно, хрен с нимо... пусть Богов... Видел, какую корову я твоей матке дал?
– Ври боле. До этого молока помереть можно.
– Да ну? – удивился Петра. – Смелой ты на язык.
– Смелой, – согласился Яшка, соображая, как бы лучше улепетнуть. – И матка баит, что порато смелой Ой, гли-ко, портки потерял, бабы хохочут.
– Где-где? – удивился пьяно Петра и ослабил колени, а Яшка выскользнул прочь, уже чувствуя свободу и торжествуя ее, но тут мужик опомнился, круто перегнулся и длинной корявой рукой подхватил мальчишку за штанину и потянул к себе, как худого теленка, заголяя Яшкину костлявую задницу.
– Пусти-и, – неожиданно заверещал Яшка, предчувствуя беду и становясь самим собой, семилетним сиротиной. – Скажу матке, что забижаешь, она тебе бороду выдерет, козел вонючий. – Слезы рванулись неудержимо, и Яшка захлебывался в рыданиях не в силах уже оборвать и потушить внезапное горе.
– Ну че ты, ужо погоди, – растерянно бормотал Петра, не ожидая таких слез.
– Козел вонючий, кукушку сьел, все скажу, – выл Яшка на всю улицу, распаляя свою душу и ожидая, что услышит его слезы мать и примчится на помощь. – Сиротину забижаешь, совести нету, – причитал Яшка, вспоминая материны присловья.
– Отпусти парня, что пристал, налил глаза, ничего уже не зрит, – выскочила на крыльцо Августа, хотела мужика по голове съездить, но Петра, по-медвежьи громадный, развернулся и рыкнул:
– Загунь[17], колода пуста...
– Загунь. загунь, слова доброго не скажет, ирод пузатый, – запричитала Августа, скрываясь в притворе дверей, но тут в пьяный разум мужика пришла новая хмельная мысль, и он закричал вослед бабе: – Пива нам, пива сюда. Хошь пивка на солоде? Язык липнет с него, ли-и-пнет язык-от. Баба-то стерва у меня, ой, стервь, а пиво варит, варит пиво-то. Чево есть, тово не отымешь. Колода вислобрюха, ступа березова, наплодила одних девок... Последню-то девку принесла как, я топор со злости схватил, дай, думаю, отрублю себе эту штуку. А она еще ревит, погоди, не руби, может, на что ли и сгодится. Ей, значит, сгодится, а парня принести не может... А хошь, Тайку отдам в жонки, расти быстрей. Пи-ва таш-шы, ступа березова, – опять закричал в полую дверь.
Пиво вынесла старшая девка Евстолья, широколицая, носатая, поставила бурак берестяной подле отца и поскорее скрылась в избе.
– Наплодила уродин, – бормотал Петра, мусоля пьяными губами Яшкины щеки, все прижимая мальчишку к себе, а тот воротил лицо на сторону, задыхаясь пивным перегаром и смиряясь с такой оказией. – Ты не реви. Myжик ведь, а ревешь хуже бабы. Порку бы тебе задать хорошу за таки слова, ишь, обзыватся как, скотина мала. Какой я тебе козел вонючий, я тебе Петра Афанасьич, слышь, ирод проклятый? – опять возвысил голос мужик, раскаляя пьяное воображение.
– Да, – захныкал Яшка, – сам бьешь дак...
– Бьешь дак, – передразнилПетра. – Ругатца будешь?
– Не-е...
– Ну то-то. Пива хошь?
– Не-е-е...
– А скусно пиво-то, ох скусно. За татку свово пригубь.
– Нету татки, Богов я.
– Ну-ну, леший с тобой, а ты пей, – все тише и напряженней бормотал Петра, пьяно наваливаясь к Яшке и занося над ним березовый бурак. Тоненькая желтая струйка пролилась мальчишке на волосы, на лицо, и Яшка невольно подставил рот, потому что деваться было некуда, и стал глотать густое сладкое пиво, захлебываясь и сопя, и представляя себя мужиком. Пиво текло по рубашонке, залилось в портки, и когда невмочь стало Яшке, он, задыхаясь, замолотил Петре в просторный гулкий живот и обвис на коленях. Яшка услышал, как легкий огонь словно бы воспламенился в груди, головенка стала легкой и пустой, сразу забылись недавние слезы; мальчишку распирал смех, и он тонко хихикал, прижимаясь замурзанной мордочкой к лохматой Петриной груди.
– Ну как, скусно?
– Ску-сно...
– То-то, еще хошь?
– Не-ка...
– Тогда поди прочь, сколотыш, – отпихнул Петра парнишку, сам запрокинул бурак, и пиво гулко и сыто полилось в его просторный живот.
Яшка поглядел, как пьет Петра Чикин, и хотел пойти к реке, но только ноги почему-то потеряли прежнюю упругость, стали слабыми ивовыми прутиками, голову стремительно вскружило, и понесло Яшку, как заправского петуха, на землю, потом он и вовсе потерял себя, лежал на спине и блаженно хихикал, дрыгая ногами.
– Слабак еще, а я хотел Тайку за тебя отдать, – хмельно бормотал Петра, осоловело водил глазами по улице, потом, будто гусиное перо, сунул Яшку под руку и понес угором в дом. Павла кинулась навстречу, разглядев кудрявую сыновью голову, сразу заойкала: как же это да что с ним? – а Петра только ухмыльнулся, скалил желтые лошадиные зубы: «Ну что разоряессе? Ну выпил мужик, подумаешь, велико дело».
– Дак какой он мужик, – причитала Павла, не зная на что и подумать и что предпринять. – Семой годок ребенку. Где он нахватался эдак, Петра Афанасьич?
– Чево не знаю, тово не знаю. Иду, гляжу, лежит парнишка совсем плох, лыка не вяжет. Подобрал, – говорил Петра, а сам ухмылялся, потом привалился на лавку, гулко икая.
Павла в холодных сенях, чтобы легче было сыну, бросила оленью постель, осторожно закатила Яшку, Господи, совсем лягушонок. Он лежал с закрытыми глазами и что-то свое говорил, поминая татку и Бога, порой искал узкой ладошкой материну руку и тонко звал: «Мамушка, где-ко ты?»
– Эво, сынок, я. Ну что же ты эдак по-худому, а? – Павла стояла на коленях, закинув над сыном плечи, и серая холщовая юбка плотно облила ее широкие нескладные бедра. Петре в проем двери была видна ее неохватная спина и все тугое устойчивое тело, и неодолимое желание проснулось в мужике. Но он томился на лавке, словно бы не решаясь стронуться с места иль поджидая чего-то. А когда Павла пришла к печи и поднялась на приступок, развешивая мокрые сыновьи портки, Петра не сдержался боле, по-рысьи вскочил, неожиданно легко для его громоздкого, пьяного тела, и снял с приступка оробевшую бабу. Павла крутила большой редковолосой головой, все хотела взглянуть Петре в лицо, может, шутит мужик, но не могла, а только вяло повторяла, несильно поводя плечами и упираясь локтями:
– Ну, закоим так, Петра Афанасьич? Осподе, закоим так?
– Ты молчи, ты молчи. Жеребенка хошь? Дам жеребенка, лошадью будет.
– Осподи, Бога побойся, – испуганно упрашивала Павла, сонно покоряясь этой силе. И уже потом, на лавке, измятая и выпитая, все повторяла недоуменно и тупо: – Боженька, пошто же так-то? Пошто же так-то со мной, за какие грехи? Осподи...
– Ты молчи, молчи только, я к тебе похаживать буду, – боязливым шепотом утешал Петра, чувствуя в себе непонятную жалость к Павле и странную неодолимую боязнь чего-то. И они еще недолго сидели рядом, удивительно схожие, как брат и сестра.
Часть третья
Глава первая
Вот и Аграфена-купальница отошла, когда коренья и травы целебные ищут, а Калины Богошкова все нет, как в воду мужик канул. Желтоволосая Тина и в Мезень наведалась – весточку узнать, ведь слухом земля полнится, но и в городе не то обнадеяли ее, не то огорошили, сказали только, что раньше Спаса мужиков с Матки ждать нечего.
Реви не реви, а жить надо. Трава грубеет, солнце сушит ее, уже метельник роняет желтые охвостья, и плешивик[18] разделся. Ныне лето на удивленье, после майских проливней все тепло да тепло стоит, земля уже не парит, и сухой слюдяной воздух над хлебами желт от солнца и непрозрачной пыли. Дорогая Гора опустела: мужики – на промысле, бабы – на лугу, и только стар да мал караульщиками в избах, только те и в дому, кто под стол пешим ходит да кто с лавки едва подъемен. И желтоволосой Тине тоже пора на пожни, а она все чего-то еще ждет, время тянет, хотя сена метать самая пора. Ведь в хлеву две коровы да телица на зиму встанут, ну, правда, старуху комолую в осеня забивать надо, а остальных животин да пятнадцать овец чем держать? «О-ох-ох», – горевала Тина, скучнея лицом, и заделье из рук валилось, ничего не веселило жонку, и голубые глаза потускнели, словно бы морозом подбило их, но медлила баба, все думалось ей, только она за реку, тут и Калина в дом. И Донька тосковал, улица не радовала его, потому что дружка закадычного Яшки Шумова нет в деревне.
Но однажды в самое утро приехал дядя – Гришаня Келейный, – и все сомненья разом решил, повелел собираться на пожни: и целый-то день желтоволосая Тина металась по избе, пекла хлебы погуще да пироги попостнее с треской и палтосиной, чтобы не плесневели на жаре – ведь на сенокосе то и поешь, что с собой захватишь.
Далеко богошковские пожни, считай, что на краю света. Не нужда бы, так за двадцать верст порожистой рекой век не поехал: только двое суток подниматься, а там уж человека встретить – настоящее диво. Тина в карбасе стояла, толкалась шестом, у нее руки выломило от такой работы. Река вовсе обсохла, вытончилась на перекатах, вила косицы средь глыбастых камней, обтянутых жирной, хвостатой зеленью, а по самым берегам коричневая ряска стояла, и во множестве среди бронзово-серых лопухов заманно влекли кувшинки.
Донька на носу на оленьих одеяльницах сидит, он как бы на подгляде, упреждает, что впереди да как бы на камень поперечный днищем не встать. Мать сказала, что Донька тоже работник, а он и рад стараться: порой берет веселко и загребает, норовя заглубиться покруче в прозрачную струю. Донька быстро устает и тогда отваливается спиной на бортовину и жалостно смотрит, как упирается берегом дядя Гришаня. Доньке видно, как над ним постоянно стоит черный живой столб: гнус, качаясь над мужиком, ноет, отыскивает прорешки в белой рубахе с чайными разводами пота, забивается под распахнутый ворот, куда не достает сетка накомарника. У дяди обгорелые кисти рук повиты толстыми жгутами вен, и на плече глубоко вдавился след от лямки, за которую и тянет дядя Гришаня. Доньке жаль его и завидно, он порой вскакивает на нос карбаса, готовый спрыгнуть на берег в жесткий перезревший осот, и хнычет: «Мам, я с дядей Гришаней». – «Сиди давай, я тебе покажу с дядей Гришаней», – одергивает желтоволосая Тина.
А речка петляет суземьем, из чащинников наносит жаром и болотистой гнилью, и душным запахом таежных цветов; порой густоперые ели выходят о самую воду, ощерив рубчатые змеистые коренья. Тут берег обычно моховит и крут, он таинственно проваливается в непрозрачную воду, и редкие льдистые кувшинки стараются обойти это место стороной, выгибаясь на длинных мясистых стеблях. В такую черно-коричневую воду смотреть жутковато, из ее глубины часто всплывают один за другим глазастые пузыри, и Доньке чудится, что там, на моховом дне, сидит водяной, зубастый и мохнатый, как вывернутая овчина. Порой Донька устает смотреть, постоянное и ровное течение струй кружит голову, на мальчишку наплывает сладкое блаженство, и он засыпает, не замечая ни того мгновения, ни самого сна, пока лодка не толкается в берег. И Донька вроде бы и не спал, сам собой поднимает легкую голову и видит на берегу прозрачно-белый свет костра, мать, готовящую ужин, и устало опрокинутое в траву тело дяди Гришани.
Так же незаметно кончилась для Доньки речная дорога, когда лес посторонился и низкие бережины, матово-серые в предночном серебристом свете, подступили к самой воде. Вечернюю выть не готовили, а так и пали в траву, как пропащие лошади. Но на свежем воздухе часа за три взяли свое, без петухов, по внутренней душевной нужде, проснулись сами собой, когда солнце еще не заиграло над лесом и роса тяжело и студенисто влекла к земле захолодевшие цветы. Пока солнце не встало, нужно ловить утренние прохладные часы. Прямо из реки напились, попутно плеская на лицо и грудь, вздрагивали, приходя в себя, и тут же приценивались, с какого края начинать и как лучше валить застоявшуюся траву; потом друг за дружкой встали по самой середке поляны, где солнце раньше всего выпьет росу, и замахали горбушами.
И Донька азартно вступил в работу, срубая косой под самый корень жилистые дудки кипрея и белые султаны каких-то пахучих трав, похожих на корянки, и мохнатую кашку, и небесные колокольцы, в которых еще спали шмели; он махал горбушей, тяжело проволакивая узкое косое жало, словно тащил горячее железо плотницкой пилы сквозь сырую неподатливую деревину. Порою Донька скрывался по плечи и тогда барахтался в бешеном лесном травостое, как в стремительной воде. Он сразу взмок, порты набухли от росы и противно вязали ноги, потный жар окутал голову и закружил ее, заныли плечи, и обвисли руки, захотелось окунуться в реку и сидеть в ней, распялившись по-лягушьи. А мать словно бы забыла о сыне; спешила встречь наплывающему солнцу, вся окутанная паром, и вслед за нею плыли черные комариные облака. Желтоволосая Тина рубилась в зеленом омуте с покорностью, она не спешила, ибо знала, наученная жизнью, что спешить нельзя; порой отбивала осевшее полотно, и к Доньке убегал железный веселый звяк.
Вскоре Доньке заскучалось, он хотел побежать к матери, да побоялся получить тычок, и горбуша все чаще находила кочки и вырывала белые змеистые коренья и желтую земляную прель, да еще эти комары слоем облепили плечи, насквозь прокусывая рубаху, так что не было от них никакого житья. И он сдался, рванул к балагану, где тлело кострище, разрыл золу, открывая мерцающие живые уголья, бросил вялой травы и желанно укрылся за пахучим жирным дымом.
Но вот и солнце поднялось, заиграло; ближний лес посветлел, оттуда потянуло прелью и кислицей; дикий лук, отпотев на речном берегу, запах терпко и дразняще; желтая солнечная вода словно бы пролилась на покос, и Донька не заметил, как из нее выплыли к балагану мать и дядя Гришаня. Потом они пили из берестяного бурака чуть горьковатую, припахивающую лесными травами воду, пили вкусно и долго, и по растресканной шее дяди Гришани скатывались светлые щекотные жуки.
– Осподи, хоть бы недельку эдак-то... Вот где конец-то свету истинный, – невольно выдохнула Тина, радостно озираясь. – Ну-ко, слей водицы, всю чисто выели нетопыри лешовы, – ругнулась без злобы, распахивая ворот холщовой рубахи и открывая опухшую, покусанную шею.
– Знают, где вашего брата пробовать, на свежее-то мясцо кинулись, – сказал дядя Гришаня.
– Было свежее, да протухло. Лей давай да глаза-ти отвороти.
– Через кровь и пот тянешь в рот. Наломаешься, дак и поешь. Ох-хо-хонюшки. – И дядя Гришаня с этими словами неожиданно окатил бабу из бурака, а вода раскатилась по шее и под рубаху, на свободно опавшие груди и на ложбинку горячей спины. Тина вздрогнула, ошалело вскрикнула: «Тихо ты, лешак», – и, на миг забывая, что не родной мужик рядом, испуганно заобирала горстями воду с опущенных титек.
– Ну-ну, хватит, эка ты, чисто кобыла, – смущенно отвернулся дядя Гришаня. – Льни-ко и мне водицы, весь чисто сопрел. – И он подставил бурую, потрескавшуюся шею, и Доньке от костра видно было, как вода отскакивала от нее, словно от елового старого корня, или копилась в глубоких морщинах, скатываясь на белое усохшее тело. И Доньке сразу стоскнулось по отцу, и он неожиданно спросил:
– Мама, а татушка скоро будет?
Тина вздрогнула, обернулась, распушила мокрой ладонью выгоревшие Донькины волосы, а в глазах, чуть тронутых инеем, снова проснулась притухшая было тревога.
– Утресь, как проснессе, и наш татушка буде...
– Ври-ко боле, – не поверил Донька.
– Ну-ну, – вдруг резко прикрикнула желтоволосая Тина, сглатывая неожиданные слезы. – Каши березовой захотел?
– Чего орешь на парня? – заступился дядя Гришаня. Он стоял у балагана и вычесывал серую посекшуюся бороду деревянным гребнем. – Орет на парня, сама не знает, чего орет. Вари выть-то давай, вон солнце на корню траву сушит. А мы пока по дрова...
Шел дядя Гришаня, западая на левую ногу, держался цепкой рукой за Донькино узкое плечико и бормотал глуховато:
– У тебя мамка-то всем бабам баба. Ты ее слушайсе.
– Я и не перечу.
– Во-во, на мати не жалуются. Да и кому, да и грех, Донюшка. До Бога высоко, до царя далеко, отец у моря в неволе, одна мати возле. Хочет – посекет, а хочет – помилует.
– А меня мати не секет, – похвастался Донька.
– И худо, что не сеет, порато худо. От любви посекет, только ум поправит. А она жалеет, раз пары у тебя нету. У нас, у Богошковых, все на детишек обижены. У меня с бабкой сколько их было, считать забыли, а ни один вот не зажился, а потом и старуха убралась, оставила меня сиротеть. Тебя мати тешит, по-худому тешит. А тешеной, что до времени рожоной, оба – не от Бога.
– Намедни мамка меня отшлепала, овцу одну на поскотине потерял, – признался Донька, ему вдруг не захотелось быть тешеным.
– Ну и хитрован ты...
– Не-ка, я простофиля. Мамка мне-ка говорит, простофиля, дак.
– В наш ты род, богошковской. – согласился дядя Гришаня. – Меня, бывало, старуха моя все срамила, пошто я тихой такой, будто корова комолая, всякий подоит. Заведется, бывало, покоенка, ругается, криком покорить норовит, все небо замутит. А я молчу. Немтыря ты, кричит, немко безъязыкой, что у тебя, языка нету, отнялся, скажи хоть слово людское. Сяду вот на тебя да поеду по деревне людей смешить. И тут я смолчу, пережидаю, ни слова против, а скоро бабку мою хоть в долонь бери да жамкай, веревки с нее вей, такая податливая станет, ну мягше воску. Не разговорный я был, чего таить это дело, а нынче наговориться не могу. Вот беда-то настала, мелю и мелю, остановы-то никакой нету. Порой думаю, может, дикой какой я стал, одичал, человеческий вид потерял? Дак нет, выйду в деревню, покажусь, вроде не бегут от меня. А вернусь опять, по избе поброжу, а кругом тайбола[19] дикая, темень несусветная, хоть криком кричи, хоть зверем вой, никто не услышит. Разве зимой только волк в ответ: у-у-у, а я будто возрадуюсь, в потемень-то как начну из ружья обхаживать, аж засветит все, загудит. Только повалюсь, а он, волчище, треклятый, опять: у-у-у, я снова в одном исподнем за ворота. И так всю ночь позорюсь, и весело мне. Осподи, вот жизнь-то, не знаешь, что и хочешь. Бывало, все спокою искал, уйду в горки, в боры, где белку возьму, где куньку подловлю, и благостно мне...
Бродили Донька с дядей Гришаней долго, добыли из леса хонгу[20], ох и жаркие будут дрова, желтоволосой Тине на радость. Но пока волокли да разделывали на чураки, у матери и выть готова: житняя каша с коровьим маслом и котел чаю. Принесла еще Тина из тени берестяной пестерь с подорожниками и достала пирог рыбацкий с палтосиной. Корку твердую, как кожаные переды у сапог, рвали руками, но солонющей рыбы тащили совестливо, чтобы поменьше съесть, а поболе воды выпить. После житней каши долго чаи дули, выплескивая на сторону сваренных комаров, не по одной кружке опрокинули, сыто рыгали, закусывали пряниками медовыми: ради сенокосного зачина раздобрилась Тина Богошкова, ну как тут не покормить мужиков-работников.
С такой выти не грех бы и поспать, да не на отдых в комариную даль тянулись, дай-то Бог под самую ночь прикорнуть на один глазок. И так пойдет со дня на день, закрутится колесом до самой последней копны, и тогда только свободно глянешь и подивишься: осподи, да мы ли провернули всю эту тягость, а зароды, а зароды-то стоят, будто новые пятиалтынные, будто избы просторные, ветер их не подточит ни с какого боку, былинки не унесет, и под каждым кустышком ни одной косицы травы не качнет забытой – всю прибрали к рукам. Вот тут и вздохнуть бы, да нет, до ледостава только взад-вперед, вперед-назад на карбасах. Ведь сено на пожнях – это не сено, его зимой по тайболе не вызволишь, надо полой осенней водой на карбасах сплавить; иначе мор коровушкам, висеть им на ужищах[21] до новой травы иль посередке зимы с присохшими хребтинами идти под нож. И такое бывало...
Под полуденным солнцем желтоволосая Тина ворошила граблями сено, Калину, мужика своего, поминала, где-то он там, живой ли в студеном море: жил бы в деревне, спокой-дорогой, и какая нелегкая его тянет, пёхает во льды, на каменный остров. Все люди как люди, при земле живут, во своей семье, а тут бродяга бродягой – знать, приворожила его водяница морская, обманщица русалка ввела в ман греховный. Осподи, не дай погинуть мужику, заступись, вороти его в домы живу-здорову, не осироть сына моего, рублевую свечу поставлю во спасение, век стану за тебя молиться.
А Гришаня Келейный из черемухи волокуши под сено ладил, крепил вересковыми обвязками, чтобы гнулись они да не ломались, таких на целый век хватит. Порой за Донькой приглядывал – тот на речном берегу дикий лук рвал. Бездумно шевелил Гришаня тонкими губами, щеки присохли к деснам, опустел рот, что у малого, бормотал мужик себе под нос: «А что будет после-то, выспрошу у Господа», – и легкий ветер с далекой реки Шалони завивал сивую стариковскую бороду.
– Прости ты меня, осподи, ох-хо-хонюшки. Робь не робь, а все одно повалиссе в гроб. – Оглянулся Гришаня, присмотрел, куда бы поудобнее приклонить голову, накрыл лицо холстинкой, чтобы не напекло, и сразу захрапел, пугливо вздрагивая во сне черными растоптанными пятками. И где-то на третьем тяжелом вздохе поднял старик голову, будто и не спал вовсе, сбросил с тихо мерцающих глаз кровяной от комарья плат, охлопал себя по тощим ляжкам. «Ох-хо-хонюшки, как же это я сподобился?» – сказал виновато вслух и, припадая на левую ногу, пошел кошениной, и зеленые кузнечики весело посыпались из травы.
Сено таскали допоздна, черемуховые ручки гнулись от тяжести и выскальзывали из ладоней, плечи дрожали, острые лопатки Гришани Богошкова совсем выперли из серой от пота рубахи, и когда он приседал на левую ногу, у Тины каждый раз пугливо и жалостливо вздрагивало сердце. Ей все казалось, что вот-вот мужик завалится на бок, надорвется, а там беда, куда с ним денешься, и Тина, запыхавшись, окликала:
– Гришаня, вздохнем хоть чуток. Позоримся хуже скотины.
– Карюху бы сюды, мигом справились.
– А кто пригонит?
– Если бы Калина, дак.
– Если бы, – со вздохом откликалась желтоволосая Тина, вглядываясь в деверя, Тот лежал пластом у подножия стога, кусал былинку, вернее, теребил ее съеденными деснами, и какое-то доброе удовольствие, мало похожее на усталость, жило на его запорошенном сенною пылью лице.
– Вот как понять, куда все это девается? – вдруг сказал дядя Гришаня, поворотив черное от загара лицо, на котором светлые глаза казались житними спелыми зернами. Потом переждал чуток и снова повторил, ни к кому не обращаясь, разве только к своей душе: – Вот куда все это девается?..
– Ты о чем, Григорей? – беспонятно переспросила Тина, подумывая, что пора подниматься, хватит, належались, уж и ночь на пороге, а ей еще ужин готовить.
– А все вот. К лешевой матери. Вон облак куда-то гонит, не по своей же охоте бежит. И эти деревья не веком же здесь стояли. Что-то, знать, было туточки и тоже девалось. Ну да Господь с има, ох-хо-хонюшки. – И дядя Гришаня заскрипел горлом. – Укатали вошки Бога. Это меня то есть.
– Окстись, чего говоришь, Григорей? Грех ведь, – испуганно одернула деверя желтоволосая Тина.
– А бывает и грех, да не про всех. Чево такое сказал, чтобы пугаться? А может, Бог вошку укатал, нажился, говорит, хватит, копчушка старая. Раз работать не замог, ложись и помирай. Ох-хо-хонюшки. – И вдруг весело закричал, задрав черное лицо, отыскивая племяша: – Донька, отца не зришь?
– Че-о, где-ка? – вроде бы не расслышал Донька, а сердце зашлось. Он только что лежал в зароде, думал о дружке закадычном Яшке Шумове, где-то он сейчас, и следил в пустынном небе за одиноким розовым облачком, похожим на шкуру весенней лисицы, которое утекало куда-то неслышно и безвольно. А внизу, под стогом, о чем-то мерно говорили мамка с дядей Гришаней; их голоса доносились до вершины зарода, как шорох неторопливого ручья, и сыпили Доньку.
– Че-о, дядь Гришаня? Че сказал?
– Тятьку не зришь, говорю? Глухня...
– Полно тебе парня задорить, – ткнула Тина в бок деверя.
– Ну, ну, ладно, – примирительно сказал Гришаня, набирая на вилы сено.
И только Донька под самым небом крутил рыжей головой, как желтопузая синичка, взаправду отыскивая взглядом отца и не находя его, и сердце крохотным кулачком билось в ребра и просилось вон.
– Где-ка? – уже отчаянно закричал Донька, вцепился рукой за шершавый стожар и скатился на самый край зарода.
– Ополоумел? Не свались, – испуганно спохватилась Тина.
– Ништо, крепче будет. Эй, Донька, шевелись, исправник едет, – подзадорил Гришаня и ворох душного кусачего сена бросил на мальчишку, утопил его с головой в терпкой глубине. – Топчи его пушше, екмамкарек, – все кричал дядя Гришаня.
А Донька, выбираясь из вязкого наплыва, разгребал сено руками и, проседая по самую шею, добрался на вершину зарода уже молчаливый и грустный. Он понял, что дядя Гришаня его надул, и ничто сейчас не веселило мальчишку. Донька лениво утаптывал зарод, оборачиваясь вокруг соснового стожара, сглатывал непрошеные слезы и мокрыми оплывшими глазами еще ловил дальнюю поречную сторону, где круто обрывалась тайга, уступая место травянистым лывам. Оттуда, с той стороны приплыли на лодке Донька, мать его – желтоволосая Тина и дядя Гришаня, оттуда мальчишка ждал и своего батяню.
Небо там было тускло-серым и постаревшим, словно бы посекшимся мелкими тонкими морщинами; гребни елей казались пугающе мрачными и черными, и уже нельзя было разглядеть на опушке леса пожухлых от жары малинников, в которых прятались полчища перезревшей крапивы и надутые крапчатые жабы, а по ночам там кто-то тяжело и пугающе ворочался. Донька пристально смотрел в эту густую таинственную синь, где сейчас правила всякая нечисть, и ему вроде бы почудилось, как зашевелились кусты малинника и оттуда показалось мохнатое чудище.
– Нечистая сила, – закричал заполошенно Донька, наливаясь непрошеным страхом. – Леший тамотки, чур-чур. – И он опрокинулся в зарод, закрыл голову руками.
– Донюшка, сыночек, осподи, да что с тобой? – крикнула снизу мать.
– Балуется, чего боле, – сказал напряженным голосом дядя Гришаня и тут же обернулся и посмотрел в поречную сторону, расслышав твердую и частую поступь. И у старика волос на голове стал колом, но мало ли на своем веку повидал дядя Гришаня всякой нечисти, потому скорехонько осенил себя крестом и шепнул: «свят-свят, сгинь, нечистая»: ведь никого не ждали в такое позднее время на самом краю света. И только у желтоволосой Тины отчаянно шевельнулось сердце, потому что о мужике своем она непрестанно денно и нощно молила Бога, и тут, расслышав частую и твердую поступь и мокрые всхрапы, она сразу подумала: «Осподи, не Калинушка ли ко мне едет».
И она приставила ладонь козырьком и, отчаянно отмахиваясь другою рукой от надоедливых комаров, напряженно вгляделась в размытый тусклый свет и решительно побежала навстречу по склону еще не обкошенной холмушки. И еще не видя никого толком, она уже твердо знала, что это Калина ее едет на коне, потому как бабье сердце вещун. И путаясь в захолодевших под вечер пониклых травах и усмиряя больно занывшее сердце, Тина уже не бежала, потому как неожиданно ослабли ноги, а все тише пошла, потом и совсем остановилась. А лошадь плыла в траве, и семена овсюга прилипали к мокрому брюху. Лошадь фыркала и чихала и в неярком белом свете наступающей ночи казалась заиндевевшей. Верховой не понукал кобылу, не торопил ее, они, видно, оба устали за длинную дорогу, и разом увядшая Тина не могла признать ни мужика, ни белой в черных подпалинах лошади. Потом легкий побережник набежал с речной стороны, всколыхнул устоявшиеся травы, живая синяя тень сдвинулась от лесной опушки навстречу Тине, и седая лошадь стала темно-рыжей в белых подпалинах, и услыхала баба такой до боли знакомый голос: «Ну копошись, зайчиха. Эй, люди, здорово работали». И узнала Тина чуть надтреснутый мужний говор, ибо только Калина обзывал кобылу зайчихой за ее длинные уши, и, замораживая в себе грудной стон, еще не веря своему счастью, она позвала негромко:
– Калина, это ты?
– Ну-ко, на-ко, баба своего мужика не признавает...
– Слава те Богу, вернулся терящий.
И когда карюха поравнялась, сбивая грудью белые пахучие цветы, Тина прижалась лицом к мокрому, заляпанному дорожной грязью голенищу бахилы и сразу отстранилась, недоставало еще, чтобы кто видел, пусть и свой, как она мужика обнимает, а потому ухватилась за стремя и пошла рядом с лошадью, часто всматриваясь в смутно белеющее лицо Калины.
– Это ты? Ну и слава Богу, – повторяла Тина устало-счастливым голосом.
– Каково разживались без меня?
– А, какое тут житье, горе мыкали. Без мужика в дому что сироты.
– Ну-ну, – споткнулся Калина и замолчал, словно не зная, что спросить-высказать. Его качало в седле и до тошноты хотелось спать. И когда он сполз животом с рыжухи, разминая ладонями колени, Тина сразу приметила, что неровно подбитые в кружок волосы на голове у мужика сбелели, словно первая пороша. Калина молча обнял брата, прижался к его сухой щеке, сына Доньку скупо и устало обмахнул ладонью по волосенкам и сразу сел в стороне, подальше от огня, словно бы таясь и призакрыв глаза.
– Вымотала дорога? – спросил Гришаня, непривычно суетясь у костра, вороша мохнатые от пепла угли и подживляя огонь хворостом.
А Калина не ответил брату и опять уклончиво спросил, словно бы ему не хотелось говорить о себе:
– Ну каково разживались? Сенов дивно наставили?..
– Мы-то слава те осподи, Христом спасаемся.
– Ну и лады, ну и лады.
– А я все гляжу в залывы, и сердце мое стоскнулось, – сказала Тина, смахивая со щеки счастливую слезу. – Вот чую сердцем...
– Вот и свиделись, вот и сви-де-лись, – тут Калина неожиданно поперхнулся, замолчал сразу, словно бы утонул, повалился тихонько с чурбака, широко раскидывая по земле чугунной тяжести руки с глубокими трещинами шрамов. Тина ойкнула, подскочила к мужику, подумала, что помирает он, а Калина-то спит сладко, по-ребячьи почмокивая губами. «Эх тебя укатало», – сказала желтоволосая Тина, нагнувшись над мужем, под голову сунула клок еще теплого сена, чтобы пришли добрые сны, сама еще недолго посидела подле, вглядываясь в белое, совсем неживое лицо, по самые глаза обросшее сивой бородой. Вот когда совсем сравнялись братовья и обличьем и летами. «Ой, сердешный, ой, соколик, умучило как. Знать, несладко пришлось, досыта нахлебался морского рассолу». И Гришаня Богошков словно расслышал тайный причет невестки, откликнулся от костра:
– А не нами сказано: без моря горе, а с ним вдвое. От моря едят, от моря и стареют. Эй, Тинка, от радости сыты не ходят. Мужиков кормить надо.
– Дак спит ведь.
– Поспит – да и встанет. А про нас и не сказ?
– Ой, что это я, – совсем ополоумела, глупая баба. Сейчас, что ли, сготовлю, а вы тут тише шиньгайте. Донька, отпахнись от отца, дай ему поспать. Поди в полог-ту, полежи, пока я выть сготовлю.
И Донька послушно залез в балаган, повалился на оленьи постели головою к выходу, чтобы все ладом видно было: и костер с веселым морошечным огнем, и мать, совсем черную в ярком горячем свете, и похожего на сиротливого кулика дядю Гришаню, посунувшегося на чурбачке, и раскинутое тело батяни с неживым острым лицом. Наверное, уже переломилось за полночь, потому что у недальней сосны, одиноко вросшей в поляну, посерела чешуя; трава на пожне шелковисто светилась от созревшей росы, а вдали над щетиной леса уже начинало наливаться желтизной покатое небо. И ночь быстро закатилась, едва успев народиться. А Донька еще расслышал, как глухо на дальнем плесе кинулась щука, где-то мокро всхрапнула лошадь и за пологом в лопухах завозилась зорянка, прочищая горло Потом еще показалось Доньке, что он не спит, а по-прежнему смотрит на костер, на черные длинные тени от матушки и дяди Гришани, а на самом-то деле он уже давно спал счастливо и легко.
Когда желтоволосая Тина сготовила запоздалую выть и хотела скликать мужиков, то звать было некого, всех сморил сон. Жонка сняла котел с огня, поставила в стороне и накрыла его холстиной, чтобы не нападало комарья, потом стянула с головы повойник, и желтые с житним отливом волосы тихо раскатились по плечам. Тина еще шально качнула головой, мутной от литой усталости, тупо посмотрела на розовеющее небо, еще подумала, что скоро пора вставать, а мужика надо бы перетащить в полог, иначе натянет с земли хворь, и с этими мыслями подошла к Калине, чтобы разбудить его. Она совсем нечаянно прильнула головою к его груди, словно хотела послушать сердце, а оторваться уже не было сил.
Но потом, видно, шея отекла, занемела, шевельнулась Тина, беспамятно приподнялась, чтобы ловчее повалиться снова, и тут увидела, что утро совсем проснулось, легкие дымы курятся от просыхающих трав, и вот-вот солнце встанет. «Ой, спяха, ой, засоня», – выбранила себя, легко ладонью огладила неширокие плечи Калины, еще подумала про себя: «Пускай поспит, не буду тревожить, а деверя поднимать пора». Земля выстыла за ночь и была холодной от росы, и желтоволосая Тина не раз замирала сердцем и содрогалась от прохлады, пока спускалась к реке, а отходила с берега осторожно, высоко заткнув юбки и щупая воду босою ногой. Но вода оказалась мягкой и ласково-теплой, будто щелок, лицо, остывшее за ночь, едва услышало ее прохладу, словно парным молоком поливала себя Тина. Выпрямилась, собираясь выйти на берег, но чуть замешкалась, почувствовала в себе необыкновенную легкость и вдруг заметила радостным взглядом то, отчего давно отвыкла, может, с самых детских лет. Словно мелкие рыбешки, толклись в ногу тонкие струйки воды, огибали колена и сразу же звонко сливались воедино, потом, шурша, пропадали в осоте, шевеля его жесткие перья. Еще дальше посмотрела Тина, в самые верховья, где река делала крутой поворот: там вода казалась необыкновенно скользкой, почти ледяной, и, не задевая ее, как бы сами собой стояли ровные столбы розового пара, незаметно истаивающие в просторном атласном небе. Порой словно бы из этих столбов опадали вниз беззвучные камни, и тогда по недвижной реке расходились широкие круги. И ничего не подумалось Тине, но только словно бы что ворохнулось в душе и сделалось бабе истомно и дрожко, так что морозные пузырьки вскочили на загорелых руках.
Вдруг на той стороне задрожали кусты ивняка, и, проваливаясь меж осотных высоких кочек почти по самое пузо, вымчали лошади, а следом, по живым неустойчивым моховинам, будто боясь замарать ноги, прыгал мальчишка, совсем голый. Неожиданно он икнул горлом и, едва коснувшись руками гнедой лошадиной спины, сел над самым хвостом, как на широкую лавку, звонко пришлепнул ладонью и вонзился сухими пятками в отпотевшие широкие бока. Гнедуха всхрапнула и, разбрызгивая зеленую грязь, поскакала зайцем через осотные кочки, потом опала в реку крутой грудью, окутывая себя и мальчишку пеленой прозрачной солнечной воды.
– Осподи, да чей это? – забеспокоилась Тина. – Утонет ведь, лешак.
Приставила ладонь к глазам, но признать парнишку не смогла, потому что утренняя река застила глаза. Но тут снова задрожали кусты, словно промчались там испуганные звери, оттуда появился громоздкий, расхристанный мужик в одном исподнем, за него цеплялась руками простоволосая баба, путалась в ногах и что-то причитала бессвязно. Высокие осотные кочки сбивали дыхание, и рыхлый мужик скоро устал бежать, по колена в воде остановился, потрясая кулаком.
– Вернись-ко, сотона, дак убью! – зычным басом кричал он. – Воротись-ко, сколотыш... Воротись, не задию. Ей-Богу, не задию, только лошадь-ту пожалей, – вдруг взмолился он.
– Яшенька, сыночек, воротись, – причитала простоволосая баба. – Петра Афанасьич тебя не задиет. Он крест дал.
А мальчишка не слышал мольбы, он сидел на лошади маленькой коричневой ящеркой, лупил ее по бокам кулачонками и жестокими пятками, гнал вдоль тенистого берега, готовую вот-вот свалиться в мутную, закрученную воду и захлебнуться в ней.
– Ма, да это же Яшуха Павлин, – не веря глазам своим, сказал за спиной у желтоволосой Тины заспанный Донька. Она и не услыхала, как встали ее мужики и сейчас толпились позади. – Ну и находальник, — завистливым дрожащим голосом добавил он. – Яш-ка, я здесе-ка, приедь к мине, – радостно закричал Донька пронзительно-чистым голосом. – Яш-ка, я тута.
Нетерпеливый Донькин голос всех смутил и заставил замолчать, и Яшка Шумов, а это был он, вздрогнул от неожиданности, перестал всхлипывать и шмурыгать носом, обернулся, и тут гнедуха, просевшая ногами в промоину, споткнулась, окунула в реку по самые уши длинную гривастую морду, а Яшка не усидел на широкой, потной ее спине и скользкой рыбиной плеснул в осотах. А утро зарождалось ангельски тихим. Даже на этом берегу было слышно, как, задыхаясь и проваливаясь в тягучий ил, бежала Павла Шумова, и было похоже, будто мимо провели мыльную, загнанную лошадь. Павла за мокрые волосенки вытянула ошалелого сына на берег, дала по острой заднюшке хорошего звонкого шлепка и поволокла в кусты. А Петра Чикин ласково усмирял задохшуюся гнедуху, хлопал ее по дрожащей, упругой шее, вытирал рубахой оскаленную морду. Потом скинул исподники и, не скрывая наготы и широкого своего брюха, побрел по мелкой воде, чтобы окунуться, но выше колена трудно было сыскать глубь, потому что русло тут делало петлю и прижималось к другому берегу, вырыв там омута.
Тина смущенно отвернулась:
– Вот лешак, хоть бы стыд-то прикрыл.
– А ты гляди пуще, небось соскучилась, – сказал, подсмеиваясь, деверь, а рядом с ним стоял Калина и оглаживал длинную бороду, побитую серебром.
– Ой-ой, – всплеснула руками Тина, побежала к кострищу, расшевелила покрытые пеплом угли, навесила на деревянные крюки котел со вчерашней вытью, каша даже не успела выстыть.
– На ханзинские пожни сел? – спросил Калина у брата, кивая головой на ту сторону.
– Слыхал я краем уха, будто два ведра водки поставил. А сход и за ведро был согласен, лишь бы на дармовщинку выпить. Уж кой год травные места пустуют. А ему что, он и у черта кушак стащит.
– А ты-то как там, небось блазнит? – спросил Калина, намекая на братнево одиночество.
– Живу в своих Кельях да от леших отмахиваюсь.
– Помрешь, дак и схоронить некому будет.
– А уж так. Это верно дело...
– Дак перебирайся к нам, не стеснишь, – вдруг смущенно и глухо предложил Калина.
Но Гришаня промолчал, словно бы не расслышал Калину, ушел от ответа.
– Ну, а ты-то как, оклемался? Вчерась как прибыл, так пластом и пал.
– Вроде ожил. Ожил вроде, – сухо рассмеялся Калина.