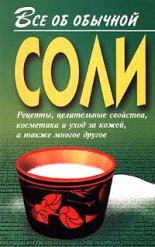Скитальцы Личутин Владимир

– Не нами сказано: кто в море не бывал, тот и горя не видал. Помнишь, Калинко, татушку? Придет, бывало, с моря, кается: веком ноги моей в море не будет. Не то в воду, а к воде не подойду. И почнет деревья валить, пожоги делать; только бы навину[22] пахать, а он как затоскует-заболеет. Вот и побежал опять в Мезень к мещанам наниматься. А где лежит нонь, один Бог ведает.
– А мне уж в море не бывать. Зарок дал, – вдруг сказал Калина.
– Не зарекайся, брательник. Не мы правим собой, – возразил Гришаня, смутно жалея брата и догадываясь о какой-то смертельной беде, случившейся в полуночной земле, но расспрашивать не стал: поведает, как время тому придет, когда горестно ожгет душу и станет невозможным молчать более и мучительно захочется освободить память от воспоминаний.
Впервые после года разлуки сел Калина Богошков во главе трапезы и, прижав туго замешенный ржаной каравай к груди, сначала нюхнул хлебушко, клоня седую голову, потом ловко и бережно разрушил его на длинные ломти, сложил горкой посреди холстинки, а горбушку подал сыну.
– Ой, Донюшка, у тебя жонка-то будет горбата, – засмеялась Тина, опять готовая плакать от радости.
– Горбата, да богата. Ничего, Донька, от горбушки набирают силушки, – хитро утешил дядя Гришаня.
И только Калина Богошков молчал: хмурая тень набегала на длинный желтый лоб, и тогда жестко сдвигались брови, но тайная улыбка тревожила губы, покрытые белыми пятнами, и Калина улыбался, не раздвигая рта. Ел он тихо, словно стеснялся иль не замечал никого, осторожно волочил деревянную щербатую ложку с кашей, подставляя под нее хлеб, жевал долго и бережно, и сухие щеки тогда глубоко западали. Однажды Калина забылся, что-то хотел сказать иль поперхнулся, но раскрыл широко рот и показал черные пустующие десны, будто век не бывало у мужика зубов. Тина заметила это и сжалась вся, словно ударили ее, но виду не показала, из котла еще подложила каши.
– Ешьте понажористей, – прикрикнула она на мужиков. – Теперь уж до вечера не едать. Ты-то, Донька, чего ленишься? Ведь каков у стола, таков и у стога.
– Я нынче на карюшке ездить буду, – откликнулся Донька.
– Езди-езди, Бог с тобой, а завтра и сести не заможешь...
– Не замогу. У меня с прошлого лета мозоли.
– Атаман ты у нас, – сказал дядя Гришаня. – А ты сам-то, Калина, каково себя слышишь? Может, до полудня полежишь в тенечке?
– Когда лежать-то? – раздраженно откликнулся Калина.
– Ну, да как знаешь, – готовно согласился Гришаня. – Горбуша направлена, травушка ждет.
– Ма, к Яшке спусти когда ли, – неожиданно заканючил Донька, когда мужики ушли на пожню, а мать еще замешкалась у одинокой сосны, развешивая на длинных голых суках мокрые вехти.
– Не канючь, робить-то кто будет?
– А когда спустишь?
– Отвяжись, чего выдумал. Поди, лошадь прибери, – не слушая толком сына, оборвала разговор желтоволосая Тина. Она неотрывно приглядывала за мужиком, как шел он от балагана мимо сосны по еще не просохшей отаве, оставляя за собой черные неровные следы; как потом скрывался в дудках-падреницах, в небольшой калтусинке меж пониклых ив; как появилась белым одуванчиком в диком травостое его седая голова, и на солнце вскоре сверкнуло лезвие горбуши и раз и другой... И только тогда, будто решившись, Тина горестно вздохнула, оправила синий костыч из тканины, закрывая обгорелые, саднящие от воды и солнца ноги, откинула накомарник на плечи и пошла следом за мужем. И теперь уже Донька глядел в спину матери, пока она не исчезла в калтусине, а когда ее не стало видно, подбежал к одинокому дереву, где мать просушивала свое немудреное хозяйство, и почему-то стал плакать. Он ревел в три ручья, беззвучно шмыгая коротким круглым носом и прижимаясь щекой к горячему шероховатому стволу. Потом он так же неожиданно перестал плакать, отколупывая ногтем рыжие чешуины, запрокинул голову; там, где-то в самой вышине, шумела голубоватая вершина, и в жилистых иглах всегда жил теплый ветер. Он качал длинные упругие ветки, и от них по всему стволу шел тихий звон, и сыпались иголки и чешуинки. Донька приложил ухо к дереву, послушал, как поет оно, сразу забыв о своем непонятном горе, и, жигая себя ивовой вицей, побежал отыскивать карюху.
А Тина подошла к мужу неслышно и встала поодаль за увядшим ивовым кустом, на котором лист свернулся в трубочку от долгой жары. Ей было хорошо видно, как наотмашку рубился Калина с загрубелой травой, горбуша часто втыкалась в высокие, скрытые овсюгом кочки, и тогда мужик матерился, тоскливо озираясь. Но Тина все так же таилась за кустом и, прижаливая мужа, шептала: «Ну отдохни ты, чего маешься». Ей бы хотелось подойти к Калине, окрикнуть неожиданно, прижаться к его груди и говорить ласково: «Осподи, кровиночка ты моя, за што так-то. Ну пошто ты бежишь от меня?» А она вот робела почему-то и пряталась, словно бы чужая. И вдруг Тина услыхала пересохший голос и не сразу поняла, что это Калина ее зовет.
– Эй, Тинка, чего таишься? Поди до мужика-то, – позвал он хрипло и удивился, что так трудно и неловко давались ему первые ласковые слова, вот ведь как озверел-одичал в своем море. – Ну поди, поди ко мне. Эка ты, мужика своего не признавать? – говорил Калина все торопливее, глотая слова, и невольно отмякал душой и чувствовал, как в нем просыпается наконец такая желанная радость встречи, что от нее пересохли губы и стало трудно дышать. – Ну поди, поди ко мне, ужели забыла? Эка ты, – говорил Калина уже шепотом, а сам гладил, гладил нетерпеливыми дрожащими руками горячие и податливые бабьи плечи. – Ужель забыла, а?
– Осподи, чего мелешь? Забыла... Как только язык повернулся такое сказать, – легко заплакала Тина, уже в который раз за нынешнее утро. – Сам приехал вчерась, ровно чужой, в глаза не смотрит. Осподи, жи-вой ведь...
А вечером, когда легкий туман выстелился над водой, с другого берега приехал гость. Сначала что-то шуршало и фыркало на той стороне, потом уключины скрипнули совсем рядом, и с весла звонко пролилась вода; у костра сразу все притихли, настороженно повернулись к реке и ожидающе смотрели, как из молочного тумана показался смолевой нос лодки-осиновки, а на корме сидел, обвалившись, мужик, весь в белом, угласт и велик, словно глыба весеннего льда. Еще с реки этот мужик закричал басовито: «Эй-й, хозяева, хлеб да соль. Здорово вечеряли», – последним гребком весла разогнал лодчонку, да так, что она залетела в осоты и на пологий травянистый берег, и Петра Чикин, а это был он, вышел к хозяевам посуху, даже ног не замочив. Был он в легких чунях, шитых из телячьей кожи, порты заправлены в короткие голяшки, и каждой порточины хватило бы обернуть вместо юбки Тинку Богошкову; рубаха холщовая, сопрелая в подмышках, навыпуск и без опояски. Никто не поднялся навстречу Петре, не захлопотал, и он сам подошел к огню, оскальзываясь на влажной отаве стоптанными чунями.
– Бог в помощь. Да тут и хозяин сам, а сказывали – потонул, – и Петра протянул короткопалую толстую ладонь, всматриваясь в Калину, и его глаза на обожженном солнцем безбровом лице горели зеленым кошачьим светом. – Ну, здорово, што ли, хозяин, – повторил Петра Чикин уверенным голосом, словно был здесь давножданным гостем, но ладонь смущенно и растерянно дрогнула.
И Калина Богошков, приподнявшись с земли, торопливо сунул навстречу длинную сухую руку:
– Ну, давай поздоровкаемся, если не с камнем за пазухой.
– Чего говоришь-то? Да кто старое помянет, тому глаз вон.
– А кто старое забудет, тому оба долой, – ехидно напомнил Гришаня Богошков.
Но Петра проглотил намек, решив умом, что лучше не ссориться более.
– Довольно сенов-то наставили? Я, грешным делом, помыслил: раз дом без хозяина, надо бы пособить чем. Мало ли чего было, да быльем поросло, а теперь, слава те осподи, сколько лет прошло... Небось опять богачества-то навез?
– Навез, – согласился Калина. – Дивно навез, до смерти хватит.
– Ишь ты, ловок... Тут уж так: иль на воз, или с воза. Мы корячимся, корячимся на земле на матушке, света белого не видим, сыто не едим да хорошо не спим, а тут на тебе: сбегал в море – и пан. Ну, Тинка, разоденет тебя мужик в шелка-бархаты.
– Разодену, – согласился Калина. Но отчего же хмурое облако накатилось на его лицо?
– А други-то как? – страшно завидуя, спросил Петра.
– А никак. Нету других-то, – тихо ответил Калина, и был он сейчас лицом столь бел и страшен, словно только что из земли достали человека. – Бог прибрал. Всех прибрал. Все-ех. А это видел, на, гляди, гляди на богачество, – и Калина задвинул пальцы в рот и широко распялил бескровные губы, открывая черные пустые десны. – Ы-ы-ы, – наклонился над Петрой, гыкая юродиво в самое лицо и брызгая слюной.
– Ну ты, Бог с тобой, – испуганно отшатнулся Петра, А Калина уже задирал порточины выше колен, показывал иссохшие ноги в синих покойницких пятнах:
– И тут богатство, и эво.
Желтоволосая Тина убежала в полог, уткнулась в постели и тихо завыла:
– Осподи, да за что же его эдак.
Донька забрался к матери в изголовье, утешал, гладил спутанные волосы, сам готов разреветься:
– Матушка, не надо...
– Хватит тебе выть-то, ну! – крикнул раздраженно Калина. – Осподи, ну не вой же, и без тебя тошнехонько.
– А ты не покрикивай, ты не покрикивай, – вступился за невестку Гришаня. – Никто тебя не неволил, на цепи в море не тянул. Сам свою судьбу выбирал. Расшумелся, с ним худо, его не тревожь...
– А ты кто? Гли-ко, люди добрые, посмотрите на него, он пасть открыл, – распалился Калина, теряя разум и бессмысленно оглядываясь вокруг. Голова у него кружилась, и мужик толком не мог разглядеть даже, кто сидит подле. – Убирайтесь! Чего вам нать от меня, чего нать? – яростно кричал Калина. Непонятная злоба сдавила горло и мешала дышать, и он вбивал кулаки в землю, пока кровь не проступила на козонках. И, разглядывая разбитые пальцы, Калина словно бы очнулся, увидел себя со стороны и тогда повалился боком, прижимаясь щекой к захолодевшей истоптанной траве:
– Осподи, дай силу не потерять разум...
Гришаня понял, что с братом неладное, отбросил прочь обиду, обнял Калину за плечи, стал гладить по жестким седым волосам бережно, будто малое дитя.
– Ну что с тобой, Каля? – уговаривал Гришаня. – Ведь эким ты никогда не был. Ты откройся нам, сними тягость с души.
– Да и то правда, полно тебе убиваться, – поддакнул нерешительно Петра Чикин, подумывая умом, как бы ловчее убраться отсюда. – Вот уж воистину сказано: выстрелив, пулю не схватишь, а слово сказав, не поймаешь.
Тут и Тина смирила плач, вышла из полога, стала у кострища возиться, разживила огонь, чтобы чаю нагреть. В разговоры она не вязалась, не дозволено ей, бабе, соваться в мужские дела, как-нибудь сами разберутся. Но с Калины глаз не сводила, думала: ей бы только наодинку с ним остаться, приголубила бы она мужика, утешила – и открылся бы он как на духу, и оттаял бы сразу.
Все невольно замолчали, Калина сел, отвернувшись, и положил голову на острые коленки. Было смутно и тихо, маленькая, болотного цвета луна, так похожая на подкову, прорезалась посреди неба и родила вкруг себя крохотное озерцо света. Где-то туго плеснула рыба, может, билась она в Гришаниной верше; потом откликнулся кулик, он икал долго, захлебнувшись сиротскими слезами; вдали над синим изломом матерого леса вспыхивали белые молнии, – знать, где-то шла гроза. И в этой смутной душной тишине особенно звонко и назойливо нудели комары.
– Хоть бы дожжа не пало. Дало бы сена закончить, – нарушил молчание Гришаня. – Вот и темнеть стало, осеня подкатывают на дожжах.
– Теперь как бы убраться отсюдова поскорей, – Охотно откликнулся Петра, искоса поглядывая на понурое лицо Калины. – Уж и не рад, что забрался в экую даль, пожадился. И с сенами-то напозоришься, а потом и достать-то не знаешь как.
– Потные сена-то, не одна рубаха на них сопрет, пока возьмешь. Дак тебе все больше других надо. Опять мужиков-то надул, эки богатые пожни за ведро водки выбил.
– За два ведра, – поправил Петра, – а нынче хоть даром отдам.
– Отдашь ты даром, держи карман шире. Работники-то кто?
– А Павла со своим сколотышем. Извел меня, изгильник, нынче лошадь чуть не угробил. Поймал бы о ту пору, сразу убил, и все. Дак опять мати жаль.
– Да как не жаль, живой ведь. От кого парня-то нашла?
– Поговаривают, от Степки Рочева, беглый матроз тут околачивался, с Няфты сам-то, оттудова родом.
– Я, может, и мати его знаю? – стал припоминать Гришаня.
– Да все может быть, как не знаешь-то. Дак он, паразит, – бабу Ханзину с девкой порешил. А изба и поныне пустая. Хотел я ныне в избе остановиться, что ни говори – жилье, дак не мог своих девок туда затянуть. Ревут обе, страшатся, что бродят покойницы каждую ночь. А чего им бродить, давно уж и косточки истлели... А страшно... Уж на что я мужик, а и то...
– Как не страшно-то, экое смертоубийство. Уж на веку не забудется, – согласился Гришаня. И тут заметил, что сзади племянник притулился, развесил уши. – Донька, кыш, не тебе экие разговоры слушать.
– Я тихо, дядя Гришаня, – захныкал Донька. Хочется ему про Яшкиного татушку послушать.
– Беги в полог, чего сказано, а то вицу схлопочешь. Неслух, – пригрозила мать, а с нею плохо спорить.
И Донька поплелся в балаган, но повалился у самого лаза, печальный и хмурый, подоткнув кулачком лицо. Хотел было отцу пожаловаться, да раздумал, притих: и оказалось вдруг, что в сумрачной тиши каждый звук слыхать далеко. Куда-то луна провалилась, – знать, застлало ее лохматым мокрым облаком, небо затемнилось, и отсюда, из балагана, огонь костра казался живым красным зверем, а люди – совсем чужими, угловатыми, и от них на лужайку ложились длинные страшные тени. У Доньки от страха спирало в горле, он боялся даже оглянуться назад, в сумрачное жилье балагана, где стояли укладки со всякой утварью. Казалось, что там обязательно сидит хозяинушко, смотрит на Доньку розовыми глазами и точит о свои копытца острые желтые ногти.
– Ма, – опять захныкал Донька, думая разжалобить матушку. Но та нынче была сердита.
– Не канючь, вот дитя народилось. Сладу с ним нет, – пожаловалась мужикам, села подле Калины, положила ему руку на плечо. – Ну хватит. Господь с тобой, – стала утешать шепотом, чтобы не расслышали у костра.
– Ваш-то золото. У Павлы совсем отбивной паренек. Ему бы только назлить да напроказить, – сетовал Петра. – Намедни палец мне прокусил насквозь, волчонок. Во-во, – стал показывать всем толстый, грязный палец. – Насквозь прохватил, волчонок.
– А Павла, та робить может, за двух мужиков робит, – перевел Гришаня разговор на другое. – Ей бы мужиком быть.
– Уж не похулю. Робь, говорю, Павла, жеребенка дам.
– Ты дашь, ты вон какой, – опять нечаянно подковырнул Гришаня и снова смутил мужика.
– Я ведь только снаружи такой, я больней... Вы-то чево в эдакую даль перлись? Что вам, в Кельях сенов не хватит? Сенцо-то там, прости Господи, сам бы ел: мелконькое, суходольное, а запашина от него, ой. Коровушки от одного запаху молоко гонят рекой.
– А ты не сюда ли заришься? – вдруг догадался Гришаня. – Ну ловок, ловок, соседушко.
– Бог с тобой, экое придумаешь. Я вот о чем раздумался. Ломишь, ломишь, дня-ночи не знаешь, а потом пук – и все. Досками обошьют да в землю спрячут, чтобы не вонял. Вот и нажился. А мы все корячимся, миром жить не можем. Пошто не можем?
– Лукавый бес в дырку от пуговицы залез, а его и зашили. Тоже хитрей хитрого хотел быть, – сказал Гришаня, никак не веря Петре. – А смерть че, от нее не сбежишь.
– Михайло Тазуй как помирал, донага разделся, все кричал: «Жить хочу, осподи, жить хочу», – неожиданно заговорил Калина тусклым голосом, словно бы проснулся внезапно. – Жить-то хотел, порато хотел, а Господь вот прибрал. Такие дела, – опять замолчал Калина, всматриваясь невеселыми глазами в огонь. Розовое от пламени лицо его было горестно.
– Кажись, засиделся я. Духотища-то, уф. Как бы не полило, наставим тогда сенов, – сказал Петра Чикин, тяжело приподнимаясь, становясь сначала на колени.
– Оставайтесь, оставайтесь, Петра Афанасьич, чайку с нами, – запоздало предложила Тина.
– Да какой чай на ночь глядя, – отказывался Петра.
– Вот странно все, ох-хо-хонюшки. Иной из трусливой породы живет девяносто годков, а из храброй породы человече – на двадцатом падет. Ежели помыслить так, вроде бы по разумению Божьему: храбрый сам свою смерточку ищет. Но отчего по-иному получается: иной из трусливой породы да в самом благополучии, можно сказать, под боком у бабы своей на двадцатом годке скапутится, а храбрец – ломан-переломан, Господи, места на нем живого нету, и чуть ли не до века тянет. Тут и есть Божье провидение, и знать его нам не ведомо, – так долго и невнятно бормотал Гришаня Богошков, вглядываясь в брата выцветшими глазками и подслеповато мигая.
– Как думать о смерти начнешь, значит, нажился, – напомнил Петра. – Боженька знак тебе дает, не иначе.
– Типун тебе на язык, чего мелешь-то, Петра Афанасьич? – одернула Тина, вмешиваясь в мужской разговор.
– Мы перед Покровом-то будто очнулись... да, будто очнулись, мяли как лошади хорошие. А знатье бы, дак, а? Ужели бы я? Я-то за кормщика, глухарь сивый, здоровье-то все на море ухвостал. Поворот земли знаю и теченье воды, а тут, эх! – вдруг тихо начал говорить Калина, теребя ладонями обтерханный понизу зипунишко: жонка сзади набросила на плечи, ночи-то студеные, долго ли захворать, а потом не один раз спокаешься. – Промысел-то как шел, дак спали, где приткнет ночь, досыта не едали горяченького, а устали не знали – ведь работали в душевное удовольствие. Мы-то на стану, на острове были, еще наш татушко там промышлял, а остальны-ти в Митюшихину губу ушли, на другой стан, чтобы не мешаться. А перед Покровом очнулись мы, как птица начала на крыло подниматься и вода-то на море засалилась. Нет бы раньше, я-то, я-то, глухарь сивый, до старости ума не нажил, – и Калина горестно забрякал кулаком по колену. – Вот уж воистину, Бог ума не дал – дак не займешь. В бане намылись, мне бы сразу хватиться: пошто наши с Митюшихиной губы к нам не попадают, да к ним спешить, а я, дундук, переждать-погодить решил. Тако бы дело нынче, дак травки бы под себя подстелил.
И так не дождались мы котляного карбаса, знать, грех там какой вышел, неведомо нам. Но только в какое-то утро выскочил я из избы, и Боже ты мой, на море ни слезинки, верите, будто всю воду выжало и кругом белее покойницкого савана: все море лединами забито, и ветер-полуночник[23] садит с Матки, ну силы нет, как садит. Тогда-то я пал на камень и заплакал: понял тут, что крепко надо молиться Богу, чтобы выжить до нагорных ветров[24].
А еды-то у нас никакой, зимовать не помышляли, что было – приели. Потом и солнышко-батюшко укатилось до весны, на Веденьев день и ошкуй[25] перестал хрипеть, в снега залег Мы избу обрыли кругом, чтоб тепло сохранить, а дровец-то, прости Господи, топишь да прижаливаешь, только сальничек трещит день-ночь: как одна плошка выгорела, значит, день миновал, другая кончится, значит, ночь умерла. В избе запашина, морозина садит, самое светопреставление, конец света, и только вот и лежишь в постелях в малице[26] да в тобоках, подольше не встаешь, чтобы поменее дровец тратить. А проснессе, волосье-то к изголовью примерзнет и оторвать не можешь.
И еще раз я тут согрешил: надо бы мне мужиков толкать, тут первое дело ходить надо, а я дровец прижаливал, вот и запустил это дело. А как стал с нар стаскивать, их уже лень долить начала. Они, двое-то, еще Михайло Тазуй был, солонинки поедят, потом воды напьются, – ведь с соленого всегда на воду гонит, – вот и стали они пухнуть. Я поднимать, а они ни в какую. Я гиган на улице сделал, ну бегать вкруг него; горку ледяную залил – накатаюсь, набегаюсь, с меня дурь-то на вольном воздухе выпрет, а зайду в избу, там душина – из горла воротит, а они еще лежат да нахваливают, больно им хорошо.
А я умом-то думаю: ой, ребяты-ребяты, до могилы своей поступочкой идете, сами на себя руку кладете, коли пластиной лежите дохлой. И тут стал замечать, что Тимоха нет-нет и затоскует, среди ночи проснусь, будто ревет кто; крикну: живы ли кто? А Тимоха замрет, будто голодная кошка, и не подаст голоса. А ведь чую я, что плачет он. А однажды и говорит он нам: ой как мяса оленного хочу, так бы и попил крови-то горячей. Я тут было как приволоку утельгу, пейте, говорю, кровь – с нее и спасетесь, и никоторый пить не хочет, рыла воротят. Впервой на зимовке-то, а к тюленьей крови привычка нужна.
Я Тимохе-то: какие, говорю, олени? А снега лютые были, вповал шли, я и думал, что олени на материк свалились[27] иль на горы поднялись, где моху выбить можно. А Тимоха не послушал и ушел, да и вроде совсем пропал. Потом в потемни приходит, оленя волочит. Тут крови-то мы напились, возрадовались, мяса сырого с ножа поели, и к утру Тимоху мутить стало, – знать, не приняла душа строганины. Ввечеру жаловаться стал; пятки у него заныли – это уж первая примета на цингу, потом жилы скрутило, он, парничок, и ноги ладом вытянуть не может.
А однажды плюнул, так, осподи, одна чернота со рта, будто сажи печной наглотался, десны распухли, кровь идет, зубы сами собой выпадывают, и никий хрен их во рту не удержит. То все был Тимоха толстой, а тут сразу вытонял, кощей кощеем, под глазами черные пятаки, а на Крещенье и руда изо рта хлынула. Он подозвал нас и тихо говорит: «Наробился, знать». А я ему отвечаю: «Пошто, Тимоха, на себя наговариваешь. Ты пошто себя заживо-то хоронишь?» А он: «Вот чую, как за мной пришла смертушка». Ишь ты, он смертушку свою в обличье видел. Тут Мишка-то и сдался, по-худому заревел, не помирай, говорит, Тимоха...
Ночью гроб сколотили, ну, известно, какой там гроб, одно прозванье: из сенец от стенки доски оборвали да сшили на живые гвоздочки, чтобы хоть держалось да предать можно было земле по христианскому обыкновению. Под утро и у меня пятки стало крутить и тягость на душу взошла, бабу свою увидел: вот стоит перед очию, будто живая. Ох-хо-хо... Схоронили мы Тимоху, снегом закидали, полагали так, что весной, как мать – сыра земля отойдет, тогда и спрячем покойничка.
А на Оксинью-полузимницу солнышко на дальних берегах заиграло, еще не выкатилось, но ровно следочек свой оставило, и душа-то возрадовалась сразу, будто жизнь переменилась. И светло стало после экой темнотищи, сальничек часа на два загасили. Снег слепой стал, у меня и глаза подбило, саднит веки, слеза горючая бежит, щиплет, на щеках-то борозды выело. С неделю ничегошеньки не видел, с черной тряпицей на очах сижу, а Мишка подле лежит, уж по-худому жалуется, от него дурнотой потянуло, заживо портится человек. На великий день Благовещенья, любовный у Господа праздник, надо бы церковные стихиры петь, солнышко славить, а Мишуху не поднять, лежит пластиной дохлой. Я ему как бы заместо няньки, и самого-то карачун долит, впору бы на коленках ползать. Еды какой-то сварганил, покормить хочу, а он вдруг и завопит, Бог ты мой, как завопит, что меня мороз по коже продрал: «Калинушка, я помираю» Я к нему-то кинулся, говорю, что ты, Михайлушко, Господь с тобой, какие слова дурные баешь, пошто ты на себя смерть накликаешь, а смотрю, он уж совсем плох. Да тут его как корежить начало, так, бедного, и гнет, так и катает по постелям. Потом вдруг и скочил, стал платье с себя срывать, нагишом по нарам бегать да на стены кидается, по бревнам кулаками колотит. Я реву, его на нары укладываю и пособить с ним ничего не могу, такая у него вдруг сила взялась. Тут Мишка и стал кричать: «Осподи, жить-то хочу. Не хочу помирать. Врешь, Господи, я еще поживу, поживу...»
Тихо стало у костра, только слышно было, как не то сморкался, не то плакал Калина; сухо потрескивал костер, разбрасывая малиновые угли, да где-то погромыхивало над суземьем, и небо нет-нет да вспарывали белые сполохи. Вдруг в котле вскипела вода, выплеснулась в пламя, и кострище сердито зашипело, потянуло на мужиков горечью. А комар совсем одолил, знать, услыхал дождь, и на голове у Петра Чикина уже взялась откуда-то холстинка, которою он укрылся по самые глаза. А Калину теперь не остановить, прорвало запруду, и слова-то в самом горле стоят, ими задохнуться можно.
– Сгорстал он мою ладонь, да и не отпустил, так и помер, я и глаза не успел ему закрыть. Значит, пригласил меня за собой; и мертвый, а не отпускает. Едва руку-то свою достал. Теперь, умом-то думаю, мой черед. Хотел домовище сколотить, а сил нет, подле покойника привалился, вроде бы в беспамятье ушел, не знаю, сколько спал, но только от страха очнулся. Привиделось во сне, будто Мишуха мне глаза ладонью закрывает. Очнулся я, а он лежит подле, уж совсем заколел. Ну и поволок его в сени. Он хоть и высох от болезни, а костью тяжел. Три раза отдыхал я, пока до сеней дотащил и уложил за сальные бочки.
... На улицу-то выкатился, осподи, а там благодать. Вешний Никола пришел, по черным каменьям водица торопится, и солнышко уже не на корточках, а во весь рост выстало. Я не стерпел тут, закричал, как увидел такую благодать, и жить захотелось неистребимо. Ведь весной только глупы люди пропадают. И с трудом-то великим стрелил я гуся, потом супу наварил, навару попил, а мяса жевать не могу, совсем зубы во рту не держатся: сколько в силах, поглотал кусками, на том моя выть и закончилась.
А много ли человеку надо: горяченького внутрь спустил, и уж совсем другой вид. Потом травку стал собирать, на южных сторонах кислушка родилась, сырком жевал. Однажды в озерцо глянул, осподи, совсем дикий человек отразился, и себя я не признал, вот до какой степени дошел. Но знал по старинному поморскому правилу, что лежачего человека и мышь рушит, и все чего ли через силу да копошился. Камнями покойничков обложил, крест в изголовье поставил, карбасок направлять стал, а сам глаз с моря не снимаю, откуда товарищи должны прибежать. Так со дня на день жду, и опасение в голову пришло: не иначе случилось что. Парусок раскинул и побежал в Митюшихину губу. Слабость долит, правило держать не могу – дремлю, а очнусь – когда парус всхлопает. Ой, не приведи Господь это богачество. Порато солоной хлеб, впополам со слезами. Не зря присловье ведется: хвали море, а сидя на берегу у моря, жди горя, а от воды беды.
На пустынное прибегище правлю я с Христовой молитвой подумываю: мужики, знать, паруса подшивают да борта конопатят, в самый срок прибегу. А в Митюшихиной губе я промышливал, не один сезон стаивал, разволочную избу[28] лично перекрывал; только никто меня не встречает, и собака не взлает, и дымком с той стороны не потянет. Потом и карбас наш, промысловый, на глаза пался, на полуводе стоит, и прибой его по-худому треплет. Ну, думаю, однако, и здесь печаль.
На берег-то поднялся, нежилым веет, за избою кресты стоят, вроде бы их позапрошлым летом не было: вот, думаю, здесь ребяты успокоились. Дверь в сени закидана снегом, едва на брюхе прополз, словно веком здесь люди не живали, столь запущено все. В избе с потолка сосули висят; на постелях, с головой накрыт, лежит покойник, – знать, и сил уж не стало схоронить его. А за столешней я подкормщика своего нашел; стоит на коленях и молится. Ну, мыслю, хоть один живой, да на радостях-то его по плечу хлоп, а мужик-то и пал на бок. Знать, на поклоне ко Христу-спасителю и помер. И остался я тут совсем один.
Шесть раз на Матку плавал, всякого приходилось видеть – и худого и хорошего; и на ледине замерзал, и ошкуй-то рвал меня, метин наоставлял, и с карбасом вместе тонул, похлебал морского рассола, но экой беды не случалось, чтобы на острову одному пооставаться и всех своих товарищей схоронить... И стал я тут крепко винить себя, уж хотелось пасть и не вставать. А солнышко палит, снег ручьями скатывается, мои товарищи покойные все вытаяли, на каменьях лежат, и стал я их по новой в землю-матушку прятать без церковного благословления. Всех схоронил, а сам вот живу. Прибежала вскорости мезенская лодья, подобрала. И стал я по обеим слободам ходить, по вдовам-то, да объявлять, эх... – И замолчал Калина, сглотнул горький комок, сухими больными глазами обвел мужиков.
– Ну-ну, не кали себя. – ободрил Гришаня. – Раз погинули, дак своею смертью Знать, судьба. Они как бы на долгий отдых повалились чтобы потом когда ли опять встать. А тебя Господь не принял, и не виноватый ты нисколь.
– Да-а, – протянул Петра, посмотрел на небо, обложенное синим мраком. Оттуда редко накрапывало.
Глава вторая
К себе Петра вернулся уже впотемни. Зарядил дождь, еще мелконький, но сердитый, и в заречье погрохатывало, – знать, кончилось вёдро. У полога потоптался, освободился от лишней воды и, тяжело пыхтя, волоча животом по земле, прополз в полог. Три девки спали посередке: Евстолья, Манька и Таиска (малюха, а тоже на сенокос навязалась); в другом углу Павла Шумова с упырем своим. Глянул в тот угол, вроде бы показалось в теми, как остро зыркнули шальные Яшкины глаза. «Ой, надо было кнутом ожечь хорошенько, ой, память бы осталась. Матке спасибо скажи», – мысленно пригрозил, широко заваливаясь на оленью одевальницу. Свободно вздохнул и размягченно зевнул до слезы в глазах: «Ох-хо-хо».
– Петра Афанасьич, может, чайку? – вдруг подала голос Павла.
– Лежи давай. Кто на ночь чаи пьет, глупа баба, – нарочито сердито окрикнул Петра, в душе чувствуя к Павле жалостливую доброту. Еще подумал: не баба, колода, что вширь, что вверх. «Господи, где у меня глазищи-то были, на такую-то березовую ступу позарился». Так подумал, а в душе ласковость ворохнулась, захотелось приласкать бабу, но вспомнил нынешнее утро, сердито опрокинулся.
– И то правда, Петра Афанасьич, – запоздало и робко откликнулась Павла, – наверное, все это время вглядывалась в Петрину сторону, но ничего не рассмотрела и тоже стала укладываться, чтобы укурнуть до рассвета хоть одним глазком... «Нет, Петра Афанасьич, вы не прогадали, что попросили меня в помощь, я за двух мужиков вывезу, я на работу порато лютая. Только жеребеночка-то дайте, как обещали, и заживем мы с Яшенькой, как бары, с коровушкой своей да с карюшкой, чего нам тогда больше и нать. Своего-то счастья не дадено, так от чужого хоть кроху урвать».
Прижала к себе плотнее сына, словно боялась утерять его, тот тихо и тепло сопел в щеку Павле, и бабе было щекотно и радостно от Яшкиного дыхания. Спит чертоломина, убегался. Вот тоже своенравный какой. И нать было ему в ту пору по нужде иттить, а может, и следил за маткой, экий чертенок, всю напугал. И по сю пору гак и знобит, как в пролубь окунули. Ой, Петра Афанасьич, грех-то какой творим. Люди-то прознают, мне тогда в монастырь иттить, до самого смертного часу грехи замаливать.
Вспомнилось утро, суматошное и грешное. Осподи, думала, прибьет Яшку, столь диким стал Петра, дак и то сказать, напугал – хуже некуда, откуда только черт его вынес. Да Бог милостив, милостив Бог-от, все устроилось, опять тихо-мирно все. А ты-то, кобыла стоеросова, хороша тоже, на старости лет сбеленилась, одной науки мало, еще от тех розог рубцы на спине не заплыли, какой белены объелась, Паш-ка-а? И ничего поделать с собой не могу, ничего. Вот бы сей миг окликнул тихохонько – эй, Павла, подь-ко сюда, и пошла бы, как покорная собачонка. Знать, судьба такая моя. Охо-хо-нюшки... Прости рабу свою, не дай по миру пойти с покаянием, вовек буду молить живота твоего.
Повернулась на другой бок, а сон нейдет. Какие-то мысли грешные лезут и представляется черт знает что, стыд один. Утром у варницы стояла, она ведь раноставка, ей черт какой-то спать не дает. Еще заря не проклюнулась, а уж за водой сбегала да выть заварила, чтобы по первому солнцу всех поднимать. И он-то, Петра Афанасьич, таков же, от одного дерева коренье: еще вода в котле не вскипела, выполз сердитый, мятый весь. Да и то сказать, ломит за хорошую лошадь, по копне мечет, у него и устали-то нет, дал Господь Августе мужика, как за каменной стеной живет. Ей ли бы не радоваться, дак попрекает еще – толстой, мол, да брюхатой, а сама-то, прости Господи, расплылась сама себя шире.
Прислушивалась Павла, что за спиной Петра Афанасьич творит, и сердце обмирало. Вот на реку сбродил, фырчал там, будто тюлень, за версту слыхать, потом вернулся, встал подле, но молчит: последнее время все будто чужой. Ну и слава Богу, что чужой, доколе грешить. Смешно началось, дак пусть хоть не срамно кончится. Набаловался мужик, насытился, своя-то баба теперь скуснее будет.
А она-то, а она-то, срамина, волосье седое на голове, глянуть страшно на экую образину, а еще чужих мужиков улещает, – кляла себя Павла, мешала мутовкой кулеш, а сердце постанывало от неясной обиды: почто Петра Афанасьич и словом-то с нею не перемолвится.
– Петра Афанасьич, каково спалось? – не выдержала, спросила. Тыльной стороной руки отерла мокрый лоб, лицо едва обжарилось на солнце, и над носом вперебор вылупились мелкие веснушки, бровки льняные выцвели, распушились над радостными глазами. Глядит Павла на Петру Афанасьича, и люб он ей, ой как люб, и не видит она его выпученных кошачьих глаз, ни безбрового обгорелого лица, ни его круглого, необхватного брюха, едва прикрытого рубахой.
– А снилось, будто всю ночь с бабой на лавке катался...
– Ой ли, ой ли, а с кем это? – ревниво спросила и в сторонку от варницы ступила, словно бы зазывала мужика. А утро желтое, все высвеченное солнцем, комар скатился в болотины, и на холмушке легко дышится, вольно под легким шелоником.
– Вот тебе и ой ли, – вспыхнули зеленые Петрины глаза, и любопытный интерес пробудился в них. Подумывалось: заманивает баба, ишь разохотилась как, небось жжет все – и водой не залить. «Тут-то бы мне поостеречься надо, в такое-то время все беды следом льнут. А, один грех замаливать...» Пошел к копнушке, уже не глядя на бабу, запустил руку по самый локоть, ощутил шершавый жар, клок длинного грубого сена вытянул, нюхнул жадно широким растяпистым носом.
– Посмотри-ко сенцо-то, – крикнул Павле.
Та приставила ладонь к глазам, чтобы разглядеть мужика.
– Гли-ко, гли-ко, сенцо-то...
– Да не время глядеть-то, Петра Афанасьич, – все поняла Павла, а еще упиралась. – Кулеш подгорит, и девки вот-вот встанут, – договорила уже шепотом, уговаривая себя опомниться.
– Да ты подойди только, эка ты, – уже сердился Петра, нетерпеливо переминаясь за высокой копнушкой, из-за которой торчала его большая редковолосая голова.
– Иду-иду, вот пристал, – ворчливо откликнулась Павла, со страхом оглядываясь на полог. Ведь чуяла сердцем, какое сенцо идет смотреть, казнила себя, а ноги будто сами собой несли ее к копнушке...
– Охо-хо-нюшки, – еще простонала Павла, досматривая минувшее утро, но тут усталость взяла свое, и, не слыша себя, ушла в сон баба. По другую сторону, будто ломовая лошадь, тяжело всхрапнул Петра Афанасьич, тоненько, по-синичьи, засмеялась Тайка, а в туго натянутый верх полога упрямо барабанил дождь, и особенно глубоко, до маеты в костях спалось людям в такие ночи.
И только Яшка не спал и редко мигал, рассматривая в сумерках материно размякшее лицо. Он слышал, как пришел Петра Афанасьевич, как чесал обширное свое брюхо, как спрашивала его мать, и все ожидал, что вот-вот мамка встанет и выйдет из полога, и потому быстренько смекал, как ему тогда поступить. Сейчас, вспоминая увиденное утром, он маялся душой, уже смутно догадываясь, что между мамкой и Петрой есть что-то запретное, и ему, недоростку, это знать не велено. Еще тем несчастным утром он, заспанный, не в силах продрать глаза, выскочил за полог по нужде, глянул кругом, нет ли возле матери, куда-то девалась; и в пологе пусто, одни девки разметались, храпят, коровы, из ружья не пробудишь. Только пристыл за пологом, вдруг услыхал за спиной шорохи и вскрики, догадался, что шумят за ближней копешкой, и тут же на плохое подумал, не с мамкой ли что случилось, – может, давят ее. Стремглав кинулся за копешку, на ходу надергивая портки, и сразу в глаза бросилась взлохмаченная материна голова, а поверху Петра Чикин, ихний хозяин, и он вроде бы мамку душит. Яшка с разбегу вскочил на Петрину спину, схватил за шиворот, дернул на себя и закричал: «Не бей мамку, ирод, не бей мамку».
А дальше Яшка совсем смутно помнил: кажется, Петра ущучил его своей клешней, больно прижал к себе, мать, с растерянными и перепуганными глазами, лежала, откинувшись на копешку, и дрожала, не в силах сказать слова. «Ах ты, сколотыш», – хрипло шептал Петра, и Яшка вплотную увидал его зеленые страшные глаза. Извиваясь лягушонком на толстом Петрином колене, он умудрился прокусить мужику палец, и пока Петра ревел от боли, Яшка бросился прочь куда глаза глядят, ближе к речке, а может, и утонуть там. В такой растерянности он мчался к воде, слыша сзади глухой настигающий топот, и тут на глаза попали лошади... Но Донька помешал. Не Донькин бы голос, Яшка ни за что бы не свалился с гнедухи, его тут и подпорой не сшибить. Он бы показал этому брюхану, как мамку бить. Но почему же она не плакала, не звала Яшку на помощь? Наверное, рот зажимал ей, иначе бы мамка кричала.
Пристально вгляделся в материно лицо, показалось, что оно улыбалось во сне. «Мамка, почему у всех есть тятьки, а наш пропал?» – вдруг захотелось спросить Яшке, ведь ему так тяжело жить без отца. И он приготовился растолкать мать и посреди ночи устроить допрос, но Павла неожиданно отпустила парнишку и мягко засмеялась. Яшка никогда еще не слыхал, чтобы так тепло смеялась его мать, она обычно молчала, или плакала, или устало грозилась, и потому мальчишка даже поднялся на колени, чтобы получше разглядеть ее лицо. Но в пологе стало совсем темно, мерно бренчал дождь, с луга доносило сыростью, и Яшка ничего необыкновенною не разглядел в смутно белеющем лице матери. Мальчишка поежился, укладываясь потеплее в оленьей полости, но из памяти не уходило минувшее утро, и, не в силах успокоиться, он грозился в темноту: «Я те покажу, как мамку бить. Дай-ко только вырасти».
Но упорно не спалось, и он высвободился из окутки, тихо скользнул в самый угол, отвернул низ полога, где был тайный лаз, и, вглядываясь в серый дождливый полумрак, подумал: «Убежать, што ли? Вот реву-то будет». Он еще протянул ладошку навстречу дождю, мокрая трава скользнула по руке. Яшка вздрогнул и утянул руку обратно. Потом, нюхая набухшую влагой холстину, полежал подле, но с воли доносило сыростью, и оттого вскоре стало зябко и тоскливо. И мальчишка залег обратно в одеяла, прижался плотнее к мамке, просунув ей под мышку руку, быстро согрелся от потного родного тепла и, слушая вполуха балаганные шорохи, тревожно уснул.
Пробудился Яшка позже всех – растолкала мать: «Вставай, засоня, выть проспишь». Яшка приподнял голову, сразу посмотрел в дальний угол, подозрительно поглядывая за Петрой, но тот уже сидел, поджав калачом ноги, пластал у груди каравай и не обращал внимания на разбойника. Яшка сразу успокоился, сердито сказал матери:
– Могла бы и раньше поднять.
– Да жалко ведь. Так сладко спал...
– А сена-то кто ставить будет? – взросло спросил Яшка, оглядывая девок.
Евстолья, плосколицая, с мышиной косичкой по спине, въедливо хихикнула: «Работничек-то, девки, гли-ко». А Петра Афанасьевич только глянул исподлобья в Яшкину сторону, хмыкнул, но промолчал.
– Какие сегодня сена. Уж сиди давай, – откликнулась Павла. – Дожжа-то навалило, осподи. Необоримая сила. – И она быстро выскочила из полога, притащила котел с вытью. Петра довольно оглядел Павлу: словно шьет баба, минутки без дела не усидит.
– Ты-то давай садись. Не служанка, бат, да и мы не господа. Могли бы девки сшевельнуть задницу, – неожиданно сказал Петра, и девки все, от Евстольи до Тайки, разом повернулись к тятьке и глянули на него любопытно... Экое чудо, экое чудо, такого с тятькой не случалось, он и с мамкой-то по-людски не говорил. И Павла смутилась, по-девичьи закраснела лицом.
– Вы-то ешьте, а я уж после. Много ли мне нать.
– Я что велел? – прикрикнул несердито Петра, и Павла, радуясь всем сердцем этой ласковости, подчинилась просьбе.
– Ну ладно, разве что с крайчику примостюсь.
Петра первый погрузил ложку в житнюю кашу, все покрестили лбы и тоже потянулись к котлу, но старались мясо не забирать, на то будет своя команда. Да и Петра зорко присматривал за дочерними ложками и при случае сразу охаживал по лбу, да так, что слезы выскакивали из глаз дробью, и после долго не хотелось мяса. И словно играя над хозяином, Яшка дерзко заискал ложкой в кулеше и подобрал там кусище и медленно поволок к себе. Девки запнулись. Тайка тоненько пискнула, все взглянули на тятьку... Ой, достанется нынче Яшке, ну и поделом ему, охальнику, пусть не перечит. Девкам проходу не дает, все одни проказы. Тайка даже зажмурилась, словно своим лбом чуяла, как звонко прилипнет сейчас ложка к Яшкиной голове. Но Петра Афанасьич поперхнулся, сурово глянул в Яшкину сторону, сначала хотел, видно, окрикнуть, но сдержался. И Яшка победно оглядел девок и еще плотнее умостился на согнутых ногах, но, странное дело, только мяса ему сразу расхотелось, да и не ахти какое мясо – летошняя солонина с душком, едва зубы берут. Все смолчали, за вытью грех языком молоть, но в Яшку нынче словно бес шальной вселился. И сказал он Петре Афанасьичу разбойно, кругля непросветные глаза:
– Ты мотри, мамку мою больше не колоти...
– Не будет, не будет он меня трогать, – вздрогнув, торопливо откликнулась Павла и пугливо глянула на Петру Афанасьевича.
А тот неожиданно подался к котлу, побрякал ложкой по медным стенкам и сказал: «Волочи». И все потянулись за мясом, возя ложкой по дну, и сразу забыли про Яшку.
Под утро балаган пролило – и место сухого не найти: накинули на плечи кто армяк, кто одевальницу мехом внутрь, сидели скучные и злые, как вороны. А дождь монотонно кропил с набухших небес, и казалось, краю-конца ему не будет. Петра Афанасьевич и тут заделье себе нашел, лапти с подборами вязал, глубокие, в косой стежок; такие мокроступы, что в каждую две Яшкины ноги влезут вместе с цыпками и мозолями на пятках. Девки, укрывшись оленьей полостью, хихикали, щекотали друг дружку под мышками, порой высовывали мокрые потрескавшиеся ноги. Павлу, ту и дождь не усадил, то и дело елозила на коленках из полога да обратно, пестрядинная рубаха почернела от сырости, бедра, обтянутые крашениной, мокро блестели, и с облизанной дождем головы текли на спину ручьи. Такова Павлина забота: пускай на улице и мокрядь несусветная, но и живот – не амбар, пустым не закроешь, все чего-то требует туда затолкать, хоть и век не работай, лежмя лежи, а значит, и выть готовь ко сроку – ко времени.
Яшка поскучал, к девкам нынче не лез, свяжись только с ними – заревут, руготня подымется, спасу не будет; тут вспомнил о Доньке, в самую бы пору навестить его. Еще дедов коричневый кафтан, как раз Яшке до пят, запахнул потуже, затянулся шерстяным пояском.
– Ты куда сряжаессе? – остановила мать. – Эка неволя была в такую погодушку бежать.
– Пусть охолонет. А то горячий больно, – подал голос Петра, и холодная усмешка потревожила зелень глаз. И уже вдогон крикнул: – Коней понаведай, работник, как бы не забрели куда.
– У балагана будь. Экий несговорный растет, – добавила мать. И, уже выползая из полога, Яшка еще слышал, как говорил Петра Афанасьич: «Секчи парня надо».
– На-ко, выкуси, – высунул Яшка в сторону балагана язык. – Своих нарожай, тогда и секи.
Он поежился, когда тугая капля, скатившись с березового листа, упала за шиворот, потоптался на скользкой блестящей отаве, привыкая к прохладе; пальцы сразу закраснели, низы портов почернели от влаги, и вода собралась под ступнями крохотной прозрачной лужицей. Было тихо, ветер не шевельнул листа на деревьях, трава, еще не взятая горбушей, поседела; редкие, будто свинцовые дождины лениво летели с обложного неба, и легкий парок вставал над загустевшей рекой. Костер едва курился, и от него горько воняло сырым углем. Яшка плюнул на головни, побежал к воде, нарочито твердо ступая подошвами, и тогда меж пальцев пырскали дождевые струи. Он выскочил на берег, на то самое место, куда вымчала его вчера напуганная лошадь, но грязь уже заплыла от долгого дождя, толстые листья куги распрямились и встали со дна на красных жилистых стеблях, и ни одного-то своего следочка не отыскал Яшка. И ему стало так грустно, словно отказали в самом желанном. «Вот вырасту и убегу, все одно куда. Ужо погоди», – беззлобно погрозил Яшка в сторону своего балагана; над которым путался лохматый костровой дымок.
Противный берег речушки был смутно виден.
– Донька-а, где-ка ты? – сипло крикнул Яшка, проседая ногами в тягучий ил. – Донь-ка, – позвал он еще раз.
Напротив, за серой пеленой дождя, показался приятель и заполошно замахал руками. «Уж не мог сам навестить, тяпа, – бормотал Яшка, снимая с кола веревочную петлю и сталкивая лодку на приглубое место. – Все-то ему няньки нать, ведь мужик уже».
Он быстро протолкнул осиновку через быстрину, а Донька, ожидая, переминался на берегу. Отросшие волосы косицами сползали на уши, тонкая шея робко выглядывала из просторного мятого балахона, но голубые глаза под белесыми ресницами сияли неподдельной радостью и проливали на Яшку потоки восторга от негаданной встречи. И, глядя на Донькино лицо, Яшка тоже расцвел, почувствовал себя взрослым и сильным, но крикнул нарочито строго:
– Ну, здорово, воша-богоша. Че мнешься? Ползи давай в лодку-то... К ханзинской избе хошь?
Донька растерянно оглянулся, заметался нерешительно по берегу.
– Лезь давай. Трусишь, да? Так и скажи.
– Да, трус, тебе-то хорошо... Ты, Яша, погоди. – И, махая просторными рукавами балахона, Донька взбежал на взгорок, крикнул оттуда: – Мам-ка, я до Яшки поехал.
– Я ужо покажу Яшку, – закричала от варницы Тина, отыскивая прут помягче. А сын не знал, на что решиться, то на мать взглядывал, то на Яшку, нетерпеливо зовущео с лодки, и вдруг, словно в омут кинулся, махнул на все рукой, подхватил лапти – и в лодку. Осиновка качнулась с борта на борт, у Доньки сердце обмерло, а желтоволосая Тина на берегу запричитала в испуге:
– Вернись, Донюшка, Богом прошу. Вернись, пальцем не трону.
– Ма, чего ты. Я не маленький ведь...
– Боюсь я воды, вернись, Донюшка.
– Ма-ма, на тот берег, ну? – жалобно упрашивал Донька, а в душе и не подумывал возвращаться. Яшка торопился, словно нагоняли их, наворачивал шестом, взмок весь, под носом растеплило, такая дюля над губой нависла – страх. А Донька еще раз обернулся с неясной тоской в душе, но матери на берегу не виделось, и у балагана не мельтешили люди. И, успокаиваясь, он вдруг похвастал:
– А у нас татка с морю пришел...
– Эка невидаль, – сплюнул Яшка, скрывая зависть.
– Знал бы ты... страхов-то, сказывал, натерпелся, – уже готов был доложить Донька, но приятель сухо оборвал:
– А я еще и не то могу. Мне бы только вырасти. Я ничего не боюсь. Петре Афанасьичу палец-то хам! А он: ы-ы..
– Он вчерась гостился до нас, дак сказывал, ой-ой.
– Чего сказывал-то? – уже с интересом спросил Яшка и подумал: «Жалился небось, глотина. Живую кукушку съел.. Другой раз носырю прокушу, коли мамку бить будет». – Ну чего сказывал-то?
– И не скажу, пошто дразниссе…
– Ну и отвяжись, привязка, – сурово оборвал Яшка. Уж очень ему хотелось съездить Доньке по шее, чтобы тог не задавался. Но тут ткнулись в берег. Яшка молча вытянул осиновку на зеленый мысок и, не оглядываясь, помчался к ольшанику. Донька тоже поспешил следом, но балахон путался в ногах и мешал бежать. Духота стояла, недальняя туча отливала багровым светом, и по ту сторону речки угрюмо погромыхивало. Пока-то Донька снимал балахон, Яшка уже пропал, только вздрагивали неожиданно вершинки кустов да потрескивали сучья под ногой убегающего приятеля. И вдруг Доньку остановила промоина, доверху залитая болотной водой, глубина ее чудилась страшной, а дальние истоки, где можно бы обойти, поросли перезревшей осотой и терялись в калтусине – луговом седуне.
– Яшка-а, где-ка ты? – позвал Донька со слезой в голосе.
Страх щекотнул спину, Донька обернулся и увидел лишь тугие красные дудки с пахучими цветами да черное небо поверх. А впереди неожиданный ручей, морщинистые стволы ольшаника и легкий голубой просвет меж деревьев. Примятая кочка еще вздрагивала: значит, Яшка перебирался здесь. Донька снова попытался ступить в воду, но не достал дна. А тихо-то кругом, до жути тихо; не шелохнутся жирные узловатые дудки, целый лес падрениц, а впереди желанная лужица света, которую еще не затмила громыхающая туча.
«А, будь что будет», решился Донька, кинул балахон по ту сторону ручья; теперь уж поневоле придется прыгать, зажмурился и толкнулся от зыбкой кочки. Мысленно-то он уже представил, что ему наверняка не допрыгнуть до той стороны, и он должен схватиться вон за тот сук, чтобы не захлебнуться, – и действительно, Донька плюхнул в самую середину промоины, далеко не долетев даже до спасительной ветки, и стал отчаянно возиться в воде, страшась встать.
– Тяпа ты, тяпа, – сказал Яшка, неожиданно взявшийся откуда-то. – Экий ты недоделок. Вставай давай, доколе будешь в луже валяться?
А Донька таращил помутневшие глаза, да и Яшка ли стоит над головой, а не тот лесной лешак, который только что таился за деревом? А Яшка почему-то пошел через ручьевину, закатав порточины на колена, у той стороны, где, по Донькиному разумению, была жуткая глубина, шагнул чуть в сторону, потоптался, нахалюга, попрыгал на живых кочках, строя Доньке рожи, и вернулся обратно тем же путем. Эту дорогу Яшка знал хорошо, еще когда сено косил здесь, и решил пострашить приятеля.
– Ва, бояка. Баба в штанах, хуже Тайки Чикиной, – дразнил он Доньку.
Но тот надулся, глотал соленых жуков, которые сами рождались на глазах, выжимал порты, скручивая наподобие вехтя. Яшка лез помочь, но Донька отталкивал его локтем, отворачивая мокрое лицо в сторону. Они вышли на запущенные навины, которые уже давно никто не пахал, и когда завиднелась на опушке матерого леса серая изба, похожая на зарод сена, то присмирели оба, часто оглядывались, вспомнив людские наговоры, будто здесь пугают мертвяки.
Мальчишкам было до жути интересно, и никакой черт не мог бы их остановить сейчас на полдороге. Но когда миновали вонный амбар[29], а дверь тихохонько скрипнула, подавшись от сквозняков, то оба встрепенулись, готовые наддать к реке, а сердчишки испуганно ворохнулись в ребра.
– Пу-гат, – тихо прошелестел Донька, уже забыв все смертные обиды и хватая дружка за рукав.
– Не-ка, – отчаянно возразил Яшка, но побледнел лицом и тут же стал задорить себя, заорал во все горло: – Я не боюсь тебя, леший.
«Бу-бу-бу», – заворчало что-то в амбаре и тут же стихло.
– Эко диво, да мы сами кого хошь напугаем, – сказал Яшка и подмигнул черным захолодевшим глазом. И Донька подумал, ответно подмаргивая: «Во разбойник-то, тать лесная, – и сразу заново припомнил вчерашний разговор. – Все, значит, правда», – сказал он сам себе, невольно сторонясь и пугаясь приятеля.
Изба была ставлена высоко, рублена на года, и старость едва хватила необхватные лиственничные дерева. Дверь хранил поржавевший амбарный замок наподобие секиры, волоковые окна закрыты изнутри, чтобы не мог каждый беспутный бродяга пакостить в доме. Но сразу было видно, что давно уже никто не бывает подле, да и кого потянет в такую глушь, кроме тати или разнесчастного человека.
Яшка мигом обежал избу вокруг, будто охотничья собака, смекая, как бы удобнее забраться в дом: подергал хлебные дверцы – плотно закрыты на щеколду изнутри; замок на двери – тоже не под силу; волоковые окна – задвинуты досками. Тогда взбежал по взвозу к поветным воротам, но кожаный ремешок был выдернут, потоптался подле и надавил на ворота плечом. Они, видно, сидели неплотно на деревянных пятках и, сухо скрипнув, подались. Яшка в щель подцепил щеколду палкой и откинул ее. Ворота раскрылись неохотно, с повети дохнуло застоялым холодом и плесенью. Страшно было идти по скрипучим плахам. А Яшка, находальник этакий, еще пугал порой: неожиданно оборачивался и хрипел Доньке в лицо.
В избе стоял мрак, но Яшка на ощупь, будто жил здесь, вдоль печи пробрался к передней стене и отдернул волочильную доску. Тут белая вспышка ударила в глаза, дом словно встряхнуло, и гром прокатился по крыше.
– Пугат, баба Ханзина пугат, – опасливо сказал Донька, пригибаясь к полу.
– Чего пугат?.. Илья Пророк едет, когда ли будет, – откликнулся Яшка, и Донька снова втайне позавидовал его храбрости.
Мальчишки огляделись: изба была большая, с осадистой печью в левом углу, с бахромой черной сажи на потолочных плахах и с толстыми лавками по передней и боковой стенам. Полати закрывала короткая занавеска из крашенины, и потому думалось, что там кто-то есть.
– Яш-ка, а где-ка убили-то? – решившись наконец, спросил Донька.
– Здеся и убили. Брюхан сказывал, что подле двери, – деловито ответил Яшка, протирая жесткой пяткой пыльные плахи около порога.
– Дак ты знашь про то? – намекнул Донька, пугаясь досказать вслух.
– Чего знашь? – переспросил Яшка, не отрывая от пола глаз.
– Что твой тятька убил бабу Ханзину да девку Варвару...
– Ты очумел? Ты что это, ворзя? Я ведь сколотыш. В рыло захотел?
– Дак тебя не ветром надуло?! – не отступался Донька. – Без тятьки никак нельзя.
– Не-ка, не-не, – вяло бормотал Яшка, высунув головенку в волоковое оконце. – Я сколотыш, все так говорят. Я ничей, правда?
– Вчера Петра Афанасьич сказывал, чей ты, – тянул Донька, уже не в силах умолкнуть.
– Не ври-и, – тонко по-щенячьи завыл Яшка, узкие плечи задрожали, и мальчишка еще дальше потянулся в волоковое оконце, словно хотел вывалиться вон. – Не ври-и, чего врешь. В рыло захотел, да-а? Получишь... А брюхана убью, пошто он мамку мою колотит. Я ему сделаю чего ли.
– Ну буде, буде, – утешал Донька, устыдившись своей радости, потянул приятеля за полу кафтана. Парню было стыдно показывать слезы, и он упирался, хватался руками за бревна, но Донька настойчиво тянул за широкий подол, все больше жалея Яшку. – Ну буде, буде, может, и врет он. Всамделе врет. Он ведь кукушку живьем съел, с него станется. – И вдруг предложил: – Ну хочешь, давай покрестосоваемся? Будем крестовыми братьями.
Яшка прислушался, перестал всхлипывать, а Донька, уже испытывая к другу жалостливую нежность и сам готовый заплакать, снял через голову крест на кожаном засаленном ремешке.
– Ну давай, ну чего ты... На меня говорил, а сам-то плакса, вэ-э. Плакса, рева-корова.
Яшка замотал головой, рукавом кафтана пробовал смахнуть слезы, но они лились неудержимо, оставляя грязные борозды, а нижняя закушенная губа некрасиво дергалась. Сначала Донька подставил свою рыжую голову, а ростом он был повыше. Потом пришел Яшкин черед подставлять лобастую голову, и Донька, продевая шнурок, долго пугался в крученых смолевых волосах и в оттопыренных прозрачных ушах.
– Навеки? – торжественно спросил Донька.
– Аха, – согласился Яшка.
И тут словно провалилось небо от долгого громового раската, и оказалось, что изба сразу осела на два нижних венца в землю.