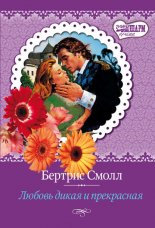Ближнее море Андреева Юлия
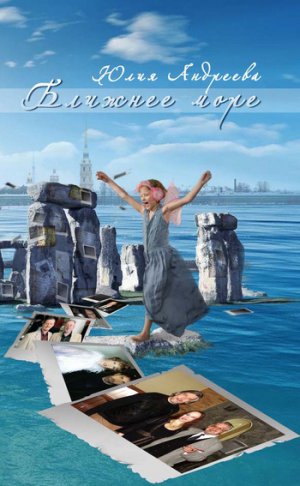
– Почему левую? – вопросительно смотрю на Бориса Федоровича.
– А правую жальче, если откусят, – удивляется моей непонятливости собеседник.
Не поспоришь
Дедушка приходил, бывало, снимал носки и просил бабушку заштопать дырку.
– Хорошо, я ее заштопаю, только ты сначала их постирай, – миролюбиво отвечает бабушка.
– Не надо стирать, просто заштопай.
– Заштопаю, только сначала постирай.
– Да они же чистые! Всего день носил. Просто зашей дырку, это что, сложно?
– Нет, но сначала я все же постираю.
– Ну стирай, – вздыхает дед. – С тобой не поспоришь.
Бабушка победно выносит в ванную носки.
Про рукоделье
Моя бабушка работала художником по тканям. Впрочем, чего она только не умела делать – настоящая мастерица, да и все в ее семье с руками. Тончайшие кружева, матерчатые пуговицы, какие-то замысловатые фалды, цветы из лент. И, конечно же, вафельки… у меня так в жизни не получится, сколько ни учи.
Всем премудростям, которые ведала моя бабушка, научили ее мама и старшие сестры. Учили и в школе, но она всегда с неизменным отвращением вспоминала об этих занятиях.
«Придет училка, сядет посреди класса, снимет с ноги башмак, стянет старые-престарые вонючие чулки. И штопайте их на оценку».
По высочайшему повелению
Лето. Душно. Лиговка стоит, километровая пробка. Тесная маршрутка набита до отказа. Двоим даже места не хватило. Груди сгорбившейся у дверей женщины свисают под платьем, как два полупустых бурдюка. А солнце жарит. С каждой секундой, с каждым ударом сердца воздуха все меньше и меньше. Машина делает попытку продвинуться на метр и тут же встает.
Господи, а ведь уже почти что добрались до метро. Сейчас бы только двери открылись, и я – раз… Не получится. Машина застряла во втором ряду, до спасительного берега не добраться.
Берега? Почему я подумала о берегах? Воде? В сумке бутылка с минералкой, когда-то холодной и с газом. Глоток спасительной жидкости, но его нельзя тратить абы как. Только в экстренном случае, например когда сделается совсем невыносимо.
Надо на что-то отвлечься. Ах да, почему я подумала о воде? Жаркий день, машинная и человеческая вонь, медленное натужное движение…
И тут в голове проясняется. А ведь Лиговка когда-то действительно была каналом. Да каким там каналом – просто грязной канавой. Петровские солдаты рыли сквозь лес и надоевшее всем болото.
Согласно приказу Петра вода из Лигова должна была самотеком добраться до Летнего сада, заодно осушая окрестные болота. Вот какие у нас цари! Даже стихии могли приказать.
Двести лет просуществовал Лиговский канал, обмелел, зарос, испоганился. А потом его зарыли, проложив здесь Лиговский проспект.
Ах, вот в чем дело – стоячая вода! А ну, по приказу Петра Алексеича пошла… быстрей, быстрей…
Маршрутку тряхнуло. И вдруг, закачавшись, словно лодка, она поплыла, не задерживаемая больше уже ничем.
Вот что значит по высочайшему повелению! Помнишь, зараза, былые времена, когда не забалуешь, а как миленькая будешь радение выказывать на службе отечеству.
Я бы еще много всего сказала сей виртуальной канаве, но как назло в этот момент наша маршрутка действительно причалила к пирсу метро «Лиговский проспект» и я, оставив скверно воспитанную Лиговку в покое, поспешила по своим делам.
Вопль в ночи
Что за дурацкая карма: сначала мыть голову шампунем для выпрямления волос, а затем спать на бигудях?!
Часов шесть просидели с Виктором Беньковским над макетом нового сборника «Честь и радость». Он делает верстку, я проверяю, правлю, он снова выводит. И так час за часом.
Умаялись, убились. Потом я в «Теремок» побежала покушать, а Витька у себя дома остался отдыхать.
Подхожу к прилавку, над которым названия кушаний и ценники выставлены, смотрю – что-то не то. Первая колонка: заголовок «Блины» и ниже название блинов, второй столбец «Супы» и перечисление супов, третий – «Салаты». Только слово «салаты» не с первой строчки, а со второй, а на первой значится «Уха по-фински» – во втором столбце, должно быть, не уместилась.
– Непорядок у вас, – говорю и показываю на неправильное меню. – Верстка поехала.
После одного из таких мучительных дней родился моностих:
- Отольются заказчику слезы верстальщика.
Мурр против вирусов
Налетели как-то на мой компьютер злобные вирусы. Прыгают по программам, словно бесы, и плодятся с такой скоростью – уничтожать не успеваешь. Бились мы вместе с Мурром целый день. Только почистит, а оно по-новой – сирена орет: «Система обнаружила новый вирус». Только запрешь заразу в хранилище, полечишь или удалишь – опять двадцать пять.
Устали оба. Мурр еле живой домой уехал. Проводила его до лифта и в полном изнеможении к себе вернулась.
Подошла к компу.
– Ну что, блохастая тварь! Вычистили тебя? Больше гадостей цеплять не станешь?
А в ответ металлическим компьютерным голосом:
«Вирусная база УТОМЛЕНА»!
Мурр и математика
Есть такие фокусы математические для детей, когда загадываешь какое-нибудь число, потом выполняешь кучу действий с ним и в результате получаешь его же. Мурр не верил, что так может получиться.
– Загадай число, – попросили его.
Загадал.
– Умножь, раздели, вычти, сложи. Получилось то же самое число?
– Нет.
– Ну как же так? Давай еще раз. Загадал? А теперь умножь, раздели… получилось то же самое число?
– Нет.
– Ну почему же нет? Какое число ты загадал?
– 31 апреля.
Мурр и весна
Весна. Мурр гуляет за руку с ребенком.
– Видишь, доченька, весна. Весной травка начинает расти. Тепло, солнышко выглядывает, деревья появляются…
Мурр и слава
Когда новые знакомые узнают, что Юля Черняховская – жена того самого Мурра из «Анахрона», на нее смотрят с восторгом, граничащим с преклонением перед божеством. Буквально: «Девушка, вы замужем за памятником!».
Наши в городе
Идут по Невскому проспекту в прекрасный солнечный день Мурр и Беньковский, рассуждают о смысле жизни. Навстречу им Лена Хаецкая в отличном настроении. Видит небритых, похмельных мужиков и думает: «Ну надо же, чтобы в столь распрекрасный день и такие страшные и понурые!» Подойдя поближе, внезапно: «Оп, да это же свои!».
Окурок
Человек с мечом вынырнул из метро, чуть не сбив с ног белую от пуха снежных ангелов старушку попрошайку и, пробежав через тихий, точно стыдившийся своего неоригинального вида дворик, оказался перед входом в картинную галерею. Не замечая ворчания смотрительницы, без билета и объяснений ворвался в зал и быстро зашагал мимо глазеющих на него со стен персонажей полотен Игоря Геко.
Поравнявшись с картиной «Белое или черное», где Иисус сидит за старым деревянным столом напротив безобразного дьявола, он остановился, силясь вникнуть в сюжет.
На коленях дьявола расположился жуткого вида уродец. Иисус держал на руках хорошенькую светлую девочку, предлагавшую дьяволу (а может быть, и зрителям) выбор «черное» или «белое». Какими играешь? Или на чьей стороне воюешь?
Человек с мечом стоял какое-то время, тяжело дыша и шевеля губами, точно разбирая по слогам невидимые письмена.
И вдруг… вдруг он различил знак, за которым пришел.
Из глаза девочки торчал потушенный в нем окурок!
– Пора, – прокаркал меченосец и, резко развернувшись, узрел перед собой странного человека с пышной копной седых волос и с белой бородой. Лицо незнакомца было светлым, напоминая кого-то, в больших голубых глазах стояли слезы.
– Да как же? Да кто же посмел? – запричитал над изуродованной картиной художник Игорь Геко. – И главное – почему ее? За что его-то? Не дьявола? Не монстра? А саму чистоту?
Человек с мечом посторонился, когда художник отодвинул его, бросившись к своему поруганному детищу.
– Глазик я тебе промою, подкрашу, будет лучше прежнего, – засуетился-защебетал Геко.
– Мы тебя вылечим, вычистим, осветлим, по головке погладим, в щечку поцелуем – боль и пройдет, – заговорили, заворковали, загулькали фавны и лешие на картинах, запели заколдованные леса, в каждой небыли которых отражался образ самого художника.
– Зло нанесло удар, но добро все равно восторжествует, – кивнул человек с мечом и уже не торопясь проследовал к выходу.
– Была у меня история, – Игорь Геко на несколько секунд снимает ткань со стоящей у стены картины, отходит на шаг, всматривается. – Однажды в 1996 году устраивал я «персоналку» в залах кинотеатра «Баррикада». И вот, проходя по выставке, смотрю на картину «Белое или черное» и замечаю странный дефект – как будто лицо девочки слегка сморщилось, искривилось. Когда пригляделся – понял. Кто-то воткнул ей в глаз грязный окурок.
История одного бомжа
Аркадий Кутилов
- Меня убили. Мозг втоптали в грязь.
- И вот я стал обыкновенный «жмурик».
- Моя душа, паскудно матерясь,
- сидит на мне. Сидит и, падла, курит!..
Весной 1985 года в Омске в сквере около транспортного института был обнаружен труп бродяги (лицо БОМЖ, как это было отражено в милицейском протоколе). Обстоятельства смерти неизвестны. Впрочем, труп был опознан достаточно скоро. Им оказался поэт Аркадий Кутилов, бродяжничавший уже семнадцать лет.
Пролежавшее несколько недель в морге тело Кутилова не было востребовано ни родственниками, ни друзьями, ни товарищами по перу. Аркадий был похоронен за счет государства, место захоронения до сих пор неизвестно.
«Опознан, но не востребован». Так озаглавил статью об Аркадии Кутилове Геннадий Великосельский.
Аркадий (на самом деле Адий) Кутилов писал стихи, прозу, подвизался в журналистике. Был отмечен Твардовским, признан в литературных кругах Омска.
В юности во время прохождения срочной службы в армии Кутилов с группой друзей раздобыли где-то антифриза, устроив мощную гулянку на территории части. До утра дожил один лишь Аркадий.
После того как тела погибших солдат были отправлены родителям, а Кутилов вышел наконец из госпиталя, его жизнь изменилась. По словам знакомых, Кутилов будет нести груз этих смертей до конца, разбивая свою жизнь вдребезги и не позволяя себе хотя бы на время наладить отношения с окружающим миром.
Он будет рисовать, писать, пытаться публиковаться… Но еще он будет страшно пить.
Из-за пристрастья к алкоголю он сделается изгоем. Постоянно увольняемый, преследуемый молвой, в конце концов он бросит все и начнет бродяжничать.
«А ведь при жизни ни один сосед//Не приглашал поэта на обед», – написал в свое время Роберт Бернс. Приглашали или нет, но думаю, что находились добрые души, пытавшиеся спасти поэта от пропасти, к краю которой он стремительно катился. Только ведь это страшный крест – тащить на себе алкоголика, муж он, друг или поэт…
Часто, знакомясь с трагическими биографиями поэтов, художников минувших лет, потомки утирают слезы, восклицая: «Если бы я оказался рядом с этим святым человеком, я бы тогда…» Нет, святой – это тот, кто несет сей страшный крест, ежедневно поддерживая хрупкий огонек жизни в другом, кто этой самой жизнью не дорожит и спасибо за жертву не скажет.
А Кутилов уж никак не святой. Он просто поэт каких еще поискать. Очень жаль, что мы так мало о нем пока знаем.
- Стихи мои, грехи мои святые,
- Плодливые, как гибельный микроб…
- Учуяв смерти признаки простые,
- Я для грехов собью особый гроб.
- И сей сундук учтиво и галантно
- Потомок мой достанет из земли…
- И вдруг – сквозь жесть
- и холод эсперанто —
- Потомку в сердце
- Грянут журавли!
- И дрогнет мир от этой чистой песни,
- И дрогну я в своем покойном сне…
- Моя задача выполнена с честью:
- Потомок плачет.
- Может, обо мне…
Пропущенная встреча
– Конец восьмидесятых. Заезжаю к Вовке Шинкареву. Как всегда, напились, и тут звонит Сапега, говорит, что у него тоже интересная встреча и чтобы мы быстренько собирались. А мы – ну просто никакие, – рассказывает Дмитрий Вересов. – Ну в общем не пошли. Проходит неделя, другая, и вот встречаю я на улице Сапегу.
«Интересная была тусовка, жаль, что вы не приехали, – сокрушенно качает головой он, – многое пропустили. Впрочем, у меня запись осталась, хочешь послушать»?
– Короче говоря, взял я кассету и прослушал запись, – Дмитрий делает выразительную паузу. – Представь себе – трио. Три пьяных мужских голоса проникновенно тянут «Летят утки». И эти трое…
Он снова останавливается, испытующе глядя на меня.
– И эти трое – Цой, Башлачов и Майк Науменко!
Вот какую тусовку я, оказывается, пропустил! Не застал, но запись слышал.
Пожелания
Поздравила «ВКонтакте» поэта Арсена Мирзаева. Написала кратко: «Поздравляю!!! Здоровья, денег, любви!!!»
Арсен ответил: «Спасибо, Юля! И тебе – всего самого несбыточного!..»
Медведев
На очередном дне рождения Пушкинской, 10, – 26 июня 2010 года я запланировала встречу с известным в прошлом правозащитником, а ныне художником и писателем Юлием Рыбаковым. Готовясь к встрече, проконсультировалась у знакомого по поводу политической карьеры Юлия Андреевича. Сама-то я в политике ни бум-бум.
Вернулась вечером домой, звоню, докладываю: мол, видела знаменитого политика и поговорила с ним несколько минут.
Интересно другое: весною на выставке я дарила Рыбакову свою книгу «Многоточие сборки» и еще экземпляр просила передать Медведеву.
– Угу, – говорит знакомый, отчего-то вдруг сделавшись немногословным.
– Так что ты думаешь, он Медведеву книгу так и не передал. Сам Медведев на выставку заявился, совершенно стеклянный и «Многоточие сборки» требует. Я объяснила, что книжка у Рыбакова. Он завелся. Хотел уже идти ругаться, экземпляр вызволять. Ну я ему, лишь бы не скандалил, тут же книжку подарила.
– Стоп. Как Медведев явился на Пушкинскую, когда он в Москве?
– Да в какой Москве? Здесь. Я же говорю – бухой на выставку приперся.
– Кто?! Медведев бухой?!!
– Ну, да.
– Какой Медведев?
– Николай.
Забавно, а он, оказывается, на президента подумал.
Эрмитажная сказка
Раз в месяц писатель С. «брал Зимний». Не так, как грубые, пьяные матросы в октябре семнадцатого, а планомерно, раз за разом. Точно входящий в супружескую спальню муж. Каждый раз он брал Эрмитаж с нежностью и упорством, удаляясь затем с чувством исполненного долга. Стены Зимнего дворца давно запомнили странного посетителя, являвшегося регулярно каждый первый четверг и вышагивающего затем по залам главного в Питере музея.
Подобно тому как барон Мюнхгаузен вставал с постели с непременным намерением совершить подвиг, как христиане берут на себя добровольное обязательство читать по главе Евангелия в день, С. добросовестно и обычно в отличном расположении духа в любую погоду, мучаясь от вынужденной человеческой близости в общественном транспорте, заслоняясь рукой от ледяного ветра, перемешанного с дождевыми каплями и осколками зеркала, разбитого троллем, шел к своей цели.
Раз в месяц год за годом он восходил, воспарял по беломраморной лестнице, походя или церемонно здороваясь с беломраморными богинями. Богини тоже были разными. Со многими из них у писателя сложились особенные доверительные отношения. Так что ни богини, ни уважаемый прозаик давно уже не обижались на некоторую разрешенную в среде своих фамильярность.
«Ан не закрыли в этом году окна должным образом, непорядок. Нерадение!» – придирчиво приглядывался к рамам С., трогая большим шероховатым пальцем не тронутые замазкой щели.
«Пустое, – чревовещала белоснежная Ника, – сквозняки и сырость вредят картинам. Да вот еще, возможно, снова простудится бабушка, уже сколько лет греющая стул в углу».
«Бабушка! Да ты, должно быть, выжила из ума, подруга. Слышали! Бабушка. Сразу видно, что создатель не наделил тебя и каплей наблюдательности и ума. Бабушка! Каково?! – весело вступала в спор крутобедрая Мнемозина (откуда она взялась в Эрмитаже, не из Летнего же сада прилетела потолковать о жизненных перипетиях), – бабушка… А вот умеющие мыслить и подмечать детали люди скажут тебе, что еще совсем недавно на этом самом стуле сидела отнюдь не старушка, а похожая на букетик незабудок юная девушка, только-только закончившая искусствоведческое отделение.
Когда ее не станет, когда ссохнется человеческая красота, перетекая в картины и статуи, на месте старой сотрудницы музея, на этом самом стуле, на котором прошла ее жизнь, появится букет незабудок».
«Могу ли я, Ника Аптерос, помнить какую-то девушку, перетекающую в бабушку? Ее красота, молодость и радость рано или поздно перейдут в нас, если только уважаемый сочинитель не сочтет нужным сохранить их в стихотворении или эссе. Ну что? Так и будете любоваться на мраморную, не знающую целлюлита наготу или же напишете пару строк о спящей в углу старушке?»
«Может быть, и напишу, – пожимает С. плечами, – хотя…»
«К чему писать о бренном, когда есть вечное? Ускользающая красота может протечь сквозь пальцы, не оставив и следа воспоминаний. Нет смысла воспевать обыденное и каждодневное – все равно оно исчезнет, обратившись в прах. Останется только…»
Писатель застыл на месте, боясь спугнуть летающий над ним призрак мудрейшей Мнемозины.
«Останется и не канет в Тартар, не достанется мраку, не исчезнет в суете веков то, к чему человек прикладывает частичку своего сердца, – принялась за поучения старая труженица Мойра, – то, во что он верит всей душой. И бабушка-девушка – прекрасна, потому что отдала свою молодость и жизнь Эрмитажу. Умерев, она будет вечно жить в его стенах, пока стоят эти самые стены.
Сохраняют частичку жизни художники и скульпторы, продолжающие жить через свои произведения. Писатель постепенно истончается, списывается как карандаш, переходя в строки. Вензеля, закорючки, строгие компьютерные дорожки – если в них есть душа, то они – суть продолжение жизни, шаг к бессмертию.
Люди привыкли думать о каретах и паланкинах, сандалиях и плащах, об оружии и месте, где можно отдохнуть после работы или долгого пути, об очаге и похлебке. Но кроме вещей необходимых есть и иные, те, что на первый взгляд кажутся ненужными, а на самом деле… Картины и изящные вазы, дорогое оружие и украшения, созданные ювелирами, – все то, что хранит в себе тепло жизни и любви уже после смерти создавших их мастеров, – все это пропуски в вечность.
Стяжая блага от суетного, получишь лишь сиюминутный выигрыш. Халкос – медный грошик. Купишь на них маленький двойной или пирожок с сомнительной начинкой. Проглотишь – и всё.
Служи вечности и воздастся тебе от людей грядущего, верь мне!» – голосила мраморная Мойра, ловко крутя в руках шустрое веретенце с суровой ниткой писательской судьбы.
«Хотя бы шерсть пряла стерва, к зиме дело, – подумал было С., но тут же осекся. По уму для пиита тетка должна была тянуть тонкую шелковую нитку. Для Пушкина шелк – хоть для основного полотна, хоть для вышивки. Для Набокова. … Нет, суровая нитка – стало быть, прочная, грубая, неизящная. Ну да ничего. Протрутся шелк и бархат, батист и вельвет – все что угодно, но суровая нить – в последнюю очередь. А ничего, судьбу мне спрядет старая зануда, полотно соткет, а потом нужно будет непременно проверить, чтобы двойной шов сделала. Главное проследить, а то потом намаешься…».
«Слушай меня, смертный…», – гнула свое Мойра.
«Свои бы мысли все передумать, – отмахнулся писатель, – смертный. Вот именно что смертен! Времени в обрез. И еще столько всего сделать нужно, а она…»
«Не смей отворачиваться от меня – богини судьбы! Ну хотя бы посвящение прими. – Мойре сделалось не по себе оттого, что впервые ею пренебрегли, да еще кто, не какой-нибудь простой пахарь или кузнец, которые и сами, лучше любых богов наперед знают свою судьбу, потому как все судьбы их похожи, точно черенки от лопат, а вроде как вполне приличный, респектабельный дядя, мыслящий, можно сказать, культурный, и вдруг такое. – Ты что же, совсем в судьбу не веришь?»
«Почему не верю? – С. остановился, по привычке зачесывая назад сбритые недели две назад волосы. На стене его двойник повторил жест, тряхнув густой длинной гривой. – Просто, вы же плетете все по старинке, ткете на станках далекого прошлого, кроете по вышедшим из моды лекалам, а мне надо…», – он махнул рукой.
– «Инженер человеческих душ! Ишь ты, – зашипела Горгоной Мойра, – по старым лекалам… видали! Да где же это видано, чтобы смертный избежал участи идти от рождения к смерти, шаг за шагом, от капли, личинки, зародыша, чада – к сокровищнице своей жизни? Чтобы расцвести дивным цветом, сбросив лепестки желаний. И обессиленному, утомленному жизнью и любовью улечься в манящую долгожданным покоем могилку?
У тебя же все не так, все не как у людей. Хочешь начать с середины? Хочешь без проволочек стартовать? Будучи зрелым мужем, начать жить сызнова? Начать от центра, а не от края, как все людишки? Что же, будь по-твоему! – Она захватила кривыми зубами суровую нить и, перекусив ее в двух местах, отбросила в сторону кусок жизни, быстро связав готовые вырваться из ее старческих рук два обрывка. – Итак. Смотри и слушай. Слушай и внимай. Ты родился только сейчас. Сколько тебе? Сорок? Больше? Не перебивай, пока остальные нитки не разорвала да, растерзав, к богам подземным не забросила. Ух, и довел же ты меня! Ох и рассердил. Ты начнешь жизнь с этого дня, начнешь со всем приобретенным ранее опытом, со всеми потерями, невзгодами и болезнями, какие успел набрать.
Сегодня ты пойдешь на старт. И чтобы шел вверх! Хочешь не как все люди, хочешь с середины – будет по-твоему, только уж не плачь. Друг плечо не подставит – нет больше у тебя друзей! Прошлое оторвано и перечеркнуто. За спиною ни крыльев, ни котомки. Ногами, своими ногами по земле-матушке иди. А ну, пшел отсюда! Что сказать нужно?»
– Да пошла ты! – С. досадливо повел плечами. Крыльев действительно не было. А ведь могла, хотя бы ради чистого эксперимента. Богиня… мда.
– Чего-чего?
– Спасибо, – он улыбнулся. И вдруг, резко крутанувшись на месте, вырвал веретено из рук не успевшей отреагировать Мойры. – А вот нить своей собственной судьбы я чур с этого дня плету сам. Поняла? – И С. весело подмигнул судачащим вокруг богиням и пошел своей дорогой.
– Он обязательно вернется через месяц, вот увидите… – засуетилась вокруг обескураженной Мойры старушка-смотрительница. – Он каждый месяц сюда приходит. Помнится, была я девушкой – так он тоже приходил. Суровый такой, серьезный…»
За спиной старушки шумно стрекотали стрекозиные крылья. А на стуле, на котором она привыкла сидеть, лежал букетик незабудок.
Сила искусства
Пригласил как-то Ларионов Четверикова в гости культурно отдохнуть, так сказать, музыку послушать. Музыку – новый концерт «Альфы», правда, Виктор Четвериков сам принес, он тогда в Доме молодежи на дискотеке подрабатывал, отчего всегда мог разжиться интересными записями.
Хорошо сидят. Магнитофон «Юпитер» орет на всю округу песню «Гуляка» – ту, что на слова Сергея Есенина «Отчего прослыл я хулиганом, отчего прослыл я скандалистом», катушки исправно крутятся, дверь на балкон распахнута – слушай народ, не жалко.
Закуски на столе вдоволь, выпивки еще больше. Настроение расчудесное!
И вдруг в проеме балконной двери (восьмой этаж!), за которой лишь черное небо, светящиеся окна да крыши ближайших домов, перед изумленными приятелями… нарисовалась всклокоченная тетка в старом халате и в тапочках на босу ногу.
Одно слово – «допились»: ужасы мерещатся.
Ларионов моргнул и на всякий случай ущипнул себя, прогоняя видение. Но странная баба и не подумала исчезать. А вместо этого нежно улыбнулась ничего не понимающим мужикам и попросила еще раз поставить песню про московского гуляку.
Оказалось, что соседка услышала волшебные строки Есенина и, не выдержав, перелезла через решетку балкона, не убоявшись ни высоты, ни того, что могло ждать ее в соседской квартире.
Вот что называется сила искусства!
Ну и налили ей, конечно.
Приезжайте к нам… в Сосновый Бор
На одном из «Интерпрессконов» подходит к Балабухе Ларионов. Естественно, уже весьма поддатый, но при этом, надо отдать ему должное, на ногах держится твердо, по прямой движется сносно и вполне способен к членораздельной речи. С высоты своего роста облапил Балабуху Ларионов:
– О, Андрей Дмитриевич! Как я рад тебя видеть!
– Володенька, я тоже!
– А помнишь, ты приезжал к нам в Сосновый Бор?
– Ну конечно, помню.
– И Шалимов к нам приезжал.
– Да, помню.
– А вот Шалимова уже нет, – сказал Володя Ларионов и пошел дальше.
Вечером они встретились в коридоре, и Володя Ларионов, падая на грудь Андрея Дмитриевича, снова повторяет, как он рад его видеть:
– А ты помнишь, к нам в Сосновый Бор приезжал Снегов?! А ведь Снегова уже нет…
На следующее утро в столовой Ларионов, обнимая Балабуху, сообщил, как он рад его видеть.
– Ты меня уже в третий раз рад видеть, – на всякий случай насторожился Андрей Дмитриевич.
– А ты помнишь, как приезжал к нам в Сосновый Бор? А ведь в Сосновый Бор приезжал и Щербаков Александр Александрович! А Щербакова уже и нет…
За обедом в той же столовой он снова был рад видеть Балабуху, тонко намекнув, что нет Брандиса.
За ужином он радостно сообщил, что из тех, кто побывал в Сосновом Бору, нет Георгия Бальдыша.
Таким образом за три дня «Интерпресскона» он перебрал около девяти человек. Когда участники конвента собирались разъезжаться и уже садились в автобус, Ларионов снова был рад видеть Балабуху.
– Приезжай к нам в Сосновый Бор, а то и тебя не будет, – сказал он на прощание, стискивая Андрея Дмитриевича в своих богатырских объятиях.
– Спасибо. Володя. Теперь уж я точно туда не поеду, – ответил Балабуха. И не поехал.
О Саломатове
Последний день одного из Росконов: затянувшаяся пьянка, глубокая ночь, в банкетном зале стоят уставленные остатками напитков столы. Глеб Гусаков с Алексом Орловом допивают все то, что еще можно допить. В коридоре пьяная компания, на Андрее Саломатове бессильно висит писательница Маша С. Подходят Орлов и Гусаков. Маша мутным взором смотрит на Гусакова, отрывается толчком от Саломатова и повисает на Гусакове. Саломатов переводит на Глеба изумленный взор:
– Маша, ты меняешь меня на него. МЕНЯ на него? Меня на НЕГО?!!
Маша мычит нечто нечленораздельное. Саломатов смотрит на бейдж Гусакова.
– Глеб! Я прошу тебя, береги ее! Береги ее, Глеб!!! Маша – она такая, Маша она… – затихает.
– Спокойно, – Глеб находит глазами соседку Маши по комнате. Они берут сомлевшую девушку под руки и тащат, ноги ее безвольно волочатся по коридору. Саломатов остается в той же прострации.
Учат в школе
Динька подделала мою подпись в дневнике. Иду домой, мысленно перебираю возможные казни. Телевизора она лишена до конца недели за драку, к компу не допускается за хулиганство на уроке. Иду, злоблюсь. И вдруг в голове возникает простой вопрос. А с какой это стати я оплачиваю ребенку художественную школу, если она на втором году обучения простую подпись толком срисовать неспособна? Это чему их там учат?!
Нет, так дело не пойдет – нужно будет поставить вопрос на родительском собрании. А то как ребенка ругать – все горазды, а как научить чему-нибудь жизненно полезному – никого!
Белый кот – не белый стих
1999 год. Я пришла к Виктору Кривулину с просьбой поучаствовать в новых стихотворных сборниках «Actus morbi» (свидетельство о смерти) или «Проникновение» (сказки, фантастика, иная реальность). Уфлянд уже дал согласие, и мы с ребятами надеялись, что имя Кривулина придаст проекту вес.
Сложность заключалась еще и в том, что после этих книжек планировалось выпустить несколько сборников в подготавливаемой Морозовым[15] антологии, выходящей под эгидой Союза писателей России, в то время как Кривулин принадлежал к СП Петербурга. Я подарила несколько книжечек, и Виктор Борисович пообещал ознакомиться с ними и решить, давать стихи или нет.
Когда я уже собралась уходить, вместе с хозяевами провожать меня вышла серая мохнатая кошка по имени Сова. Во всяком случае именно так представили красавицу хозяева. За кошкой, гордо задрав хвосты, шествовала ее свита – сын и дочка, при виде которых я тотчас забыла, что тороплюсь, бросившись гладить пушистое семейство.
Кривулин и его супруга переглянулись.
– У нас есть годовалый котик, которого решительно некуда девать, – доверительно сообщил Виктор Борисович. При этих словах его жена метнулась назад в комнату, откуда мы только что вышли, и вынесла совершенно белое флегматичное создание, которое я видела на диване, но приняла за меховую подушку. – Вот этого никто не забрал.
Кот глядел на меня сонным безразличным взором.
– У меня дома кошка. Полосатая британочка, как с рекламы «Вискас», – обреченно констатировала я, запуская руки в теплый белый мех.
– Получатся красивые котята! Вы будете продавать их у метро, – с наигранной веселостью предложила жена Кривулина.
– Я не умею торговать, – отступила я на шаг.
– Тогда раздавать! С руками оторвут!
– Не знаю… А как его зовут?
– Вы можете дать ему любое имя. Ему все равно.
Взглянув на равнодушную мордулень котяры, я поняла, что хозяйка не врет.
Я помотала головой, уже понимая, что влипла.
– Его можно и кастрировать, хотите, я займусь этим. У меня есть знакомый ветеринар. Прекрасно кастрирует, – продолжала наступать дама.
– Как мы прокормим двух котов?
– Но он же у нас все кушает, решительно все. Потрогайте, какой жирненький.
– У меня даже котоноски нет, – начала сдавать позиции я.
– Котоноски нет? Вот как? – Кривулин в нерешительности перевел взгляд на супругу. На мгновение показалось, что само отсутствие переноски для кошек характеризует меня с нежелательной стороны.
– А далеко ли везти? Может, я бы помогла, – не собиралась сдаваться хозяйка.
– На Гражданку, через весь город, – на всякий случай уточнила я. – Так что, может, в другой раз?..
Взять породистого белого кота, конечно, хотелось. Но как бы повела себя Баська, предъяви я ей этого прекрасно-кастрированного принца?
Вот так и получилось, что у Виктора Борисовича я больше не была и стихов его не просила.
Кошачий рай