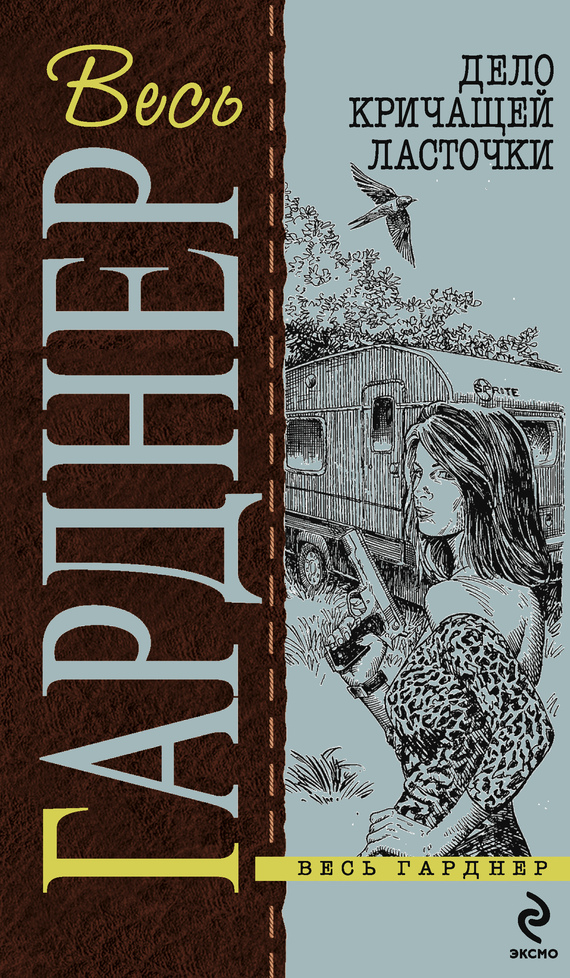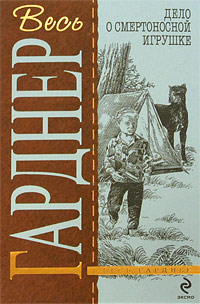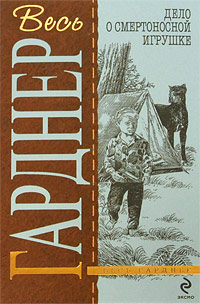Затоваренная бочкотара Аксенов Василий

— Здравствуйте, — сказала она и низко поклонилась. — Не вы ли, граждане, бочкотару в Коряжск транспортируете?
— Мы, бабка! — гаркнул Володя. — А тебе чего до нашей бочкотары?
— А я к вам в попутчицы прошусь, милок. Кто у вас старшой в команде?
Путешественники весело переглянулись: они и не знали, что они «команда».
Старик Моченкин крякнул было, стряхнул крошки с пестрядинового пиджака, приосанился, но Шустиков Глеб, подмигнув своей подруге, сказал:
— У нас, мамаша, начальства тут нет. Мы, мамаша, просто люди разных взглядов и разных профессий, добровольно объединились на почве любви и уважения к нашей бочкотаре. А вы куда следуете, пожилая любезная мамаша?
— В командировку, сыночек, еду в город Хвеодосию. Институт меня направляет в крымскую степь для отлова фотоплексируса.
— Это жука, что ль, рогатого, бабка? — крикнул Володя.
— Его, сынок. Очень трудный он для отлова, этот батюшка фотоплексирус, вот меня и направляют.
Оказалось, что Степанида Ефимовна (так звали старушку) вот уже пять лет является лаборантом одного московскою научного института и получает от института ежемесячную зарплату сорок целковых плюс премиальные.
— Я для них, батеньки мои, кузнецов ловлю полевых, стрекоз, бабочек, личинок всяких, а особливо уважают тутового шелкопряда, — напевно рассказывала она. — Очень они мною довольные и потому посылают в крымскую степь для отлова фотоплексируса, жука рогатого, неуловимого, а науке нужного.
— Ты только подумай, Глеб, — сказала Ирина Валентиновна. — Такая обыкновенная, скромная бабушка, а служит науке! Давай и мы посвятим себя науке, Глеб, отдадим ей себя до конца, без остатка…
Ирина Валентиновна сдержанно запылала, чуть-чуть задрожала от вдохновения, и Глеб обнял ее за плечи.
— Хорошая идея, Иринка, и мы воплотим ее в жизнь.
— Все-таки это странно, Володя, — зашептал Вадим Афанасьевич Телескопову. — Вы заметили, что они уже перешли на ты? Поистине, темпы космические. И потом эта старушка… Неужели она действительно будет ловить фотоплексируса? Как странен мир…
— А ничего странного, Вадим, — сказал Володя. — Глеб с училкой вчера в березовую рощу ходили. А бабка жука поймает, будь спок. У меня глаз наметанный, изловит бабка фотоплексируса.
Старик Моченкин молчал, потрясенный и уязвленный рассказом Степаниды Ефимовны. Как же это так получается, други-товарищи? О нем, о крупном специалисте по инсектам, отдавшем столько лет борьбе с колорадским жуком, о грамотном, политически подкованном человеке, даже и не вспомнили в научном институте, а бабка Степанида, которой только лебеду полоть, пожалуйте — лаборант. Не берегут кадры, разбазаривают ценную кадру, материально не заинтересовывают, душат инициативу. Допляшутся губители народной копейки!
— Залезайте, ребята, поехали! — закричал Володя. — Залезай и ты, бабка, — сказал он Степаниде Ефимовне, — да будь поосторожней с нашей бочкотарой.
— Ай, батеньки, а бочкотара-то у вас какая вальяжная, симпатичная да благолепная, — запела Степанида Ефимовна, — ну чисто купчиха какая, чисто лосиха сытая, а весела-а-я-то, тятеньки…
Все тут же полюбили старушку-лаборанта за ее такое отношение к бочкотаре, даже старик Моченкин неожиданно для себя смягчился.
Залезли все в свои ячейки, тронулись, поплыли по горбатым улицам города Мышкина.
— Сейчас на площадь заедем, Ваньку Кулаченко подцепим, — сказал Володя.
Но ни Вани Кулаченко, ни аэроплана на площади не оказалось. Уже парил пилот Кулаченко в голубом небе, уже парил на своей надежной машине с солнечными любовными бликами на несущих плоскостях. Выходит, починил уже Ваня свою верную машину и снова полетел на ней удобрять матушку-планету.
Уже на выезде из города путешественники увидели пикирующий прямо на них биплан. Точно сманеврировал на этот раз пилот Кулаченко и точно бросил прямо в ячейку Ирины Валентиновны букет небесных одуванчиков.
— Выбрось немедленно! — приказал ей Шустиков Глеб и поднял к небу глаза, похожие на спаренную зенитную установку.
«Эх, — подумал он, — жаль, не поговорил я с этим летуном на отвлеченные литературные темы!»
К тому же заметил Глеб, что вроде колбасится за ними по дороге распроклятая Романтика, а может, это была просто пыль. Очень он заволновался вдруг за свою любовь, тряхнул внутренним железом, сгруппировался.
— Выбросила или нет?
— Да ой, Глеб! — досадливо воскликнула Ирина Валентиновна. — Давно уже выбросила.
На самом деле она спрятала один небесный одуванчик в укромном месте да еще и посылала украдкой взоры вслед улетевшему, превратившемуся уже в точку самолету, вдохновляла его мотор. Какая женщина не оставит у себя памяти о таком волнующем эпизоде в ее жизни?
Итак, они снова поехали вдоль тихих полей и шуршащих рощ. Володя Телескопов гнал сильно, на дорогу не глядел, сворачивал на развилках с ходу, особенно не задумываясь о правильности направления, сосал леденцы, тягал у Вадима Афанасьевича из кармана табачок «Кепстен», крутил цигарки, рассказывал другу-попутчику байки из своей увлекательной жизни.
— В то лето Вадюха я ассистентом работал в кинокартине Вечно пылающий юго-запад законная кинокартина из заграничной жизни приехали озеро голубое горы белые мама родная завод стоит шампанское качает на экспорт аппетитный запах все бухие посудницы в столовке не поверишь поют рвань всякая шампанским полуфабрикатом прохлаждается взяли с Вовиком Дьяченко кителя из реквизита ментели головные уборы отвалили по-французски разговариваем гули-мули и утром в среду значит Бушканец Нина Николаевна турнула меня из экспедиции Вовика товарищеский суд оправдал а я дегустатором на завод устроился они же ко мне и ходили бобики а я в художественной самодеятельности дух бродяжный ты все реже реже рванул главбух плакал честно устал я там Вадик.
Вадим же Афанасьевич, ничему уже не удивляясь, посасывал свою трубочку, в элегическом настроении поглядывал на поля, на рощи, послушивал скрип любезной своей бочкотары и даже слова не сказал своему другу, когда заметил, что проскочили они поворот на Коряжск.
Старик Моченкин тожжа самое — разнежился, накапливая аргументацию, ослаб в своей ячейке, вкушая ноздрями милый сердцу слабый запах огуречного рассола пополам с пивом, и лишь иногда, спохватываясь, злил себя, — а вот приду в облсобес, как хва-ачу, да как, — но тут же опять расслаблялся.
Степанида Ефимовна в своей ячейке устроилась домовито, постелила шаль и сейчас дремала под розовым флажком своего сачка, дремала мирно, уютно, лишь временами в ужасе вскакивая, выпучивая голубые глазки: «Окстись, окстись, проклятущий!» — мелко крестилась и дрожала.
— Ты чего, мамаша, паникуешь? — сердито прикрикнул на нее разок Шустиков Глеб.
— Игреца увидела, милок. Игрец привиделся, извините, — смутилась Степанида Ефимовна и затихла, как мышка.
Так они и ехали в ячейках бочкотары, каждый в своей.
Однажды на косогоре у обочины дороги путешественники увидели старичка с поднятым пальцем. Палец был огромен, извилист и коряв, как сучок. Володя притормозил, посмотрел на старичка из кабины.
Старичок слабо стонал.
— Ты чего, дедуля, стонаешь? — спросил Володя.
— Да вишь как палец-то раздуло, — ответил старичок. — Десять ден назад собираю я, добрые люди, груздя в бору, и подвернись тут гад темно-зеленый. Еттот гад мене в палец и клюнул, зашипел и ушел. Десять ден не сплю…
— Ну, дед, поел ты груздей! — вдруг дико захохотал Володя Телескопов, как будто ничего смешнее этой истории в жизни не слыхал. — Порубал ты, дедуля, груздей! Вкусные грузди-то были или не очень? Ну, братцы, умора — дед груздей захотел!
— Что это с вами, Володя? — сухо спросил Вадим Афанасьевич. — Что это вы так развеселились? Не ожидал я от вас такого.
Володя поперхнулся смехом и покраснел:
— В самом деле, чего это я ржу, как ишак? Извините, дедушка, мой глупый смех, вам лечиться надо, починять ваш пальчик. Пол-литра водки вам надо выпить, папаша, или грамм семьсот.
— Ничего, терпение еще есть, — простонал старичок.
— А ты, мил-человек, кирпича возьми толченого, — запела Степанида Ефимовна, — узвару пшеничного, лебеды да табаку. Пятак возьми медный да всё прокипяти. Покажи этот киселек месяцу молодому, а как кочет в третий раз зарегочет, так пальчик свой и спущай…
— Ничего, терпение еще есть, — стонал старичок.
— Какие предрассудки, Степанида Ефимовна, а еще научный лаборант! — язвительно прошипел старик Моченкин. — Ты вот что, земляк, веди свою рану на ВТЭК, получишь первую группу инвалидности, сразу тебе полегчает.
— Ничего, терпение есть, — тянул свое старичок. — Еще есть терпение, люди добрые.
— А по-моему, лучшее средство — свиной жир! — воскликнула Ирина Валентиновна. — Туземцы Килиманджаро, когда их кусает ядовитый питон, всегда закалывают жирную свинью, — блеснула она своими познаниями.
— Ничего, ничего, еще покуда терпение не лопнуло, — заголосил вдруг старичок на высокой ноге.
— Анпутировать надо пальчик, ой-ей-ей, — участливо посоветовал Шустиков Глеб. — Человек пожилой и без пальца как-нибудь дотянет.
— А вот это мысля хорошая, — вдруг совершенно четко сказал старичок и быстро посмотрел на свой ужасный палец, как на совершенно постороннего человека.
— Да что вы, товарищи! — выскочил вдруг на первый план Вадим Афанасьевич. — Что за нелепые советы? В ближайшей амбулатории сделают товарищу продольный разрез и антибиотики, антибиотики!
— Правильно! — заорал Володя. — Спасать надо этот палец! Так пальцами бросаться будем— пробросаемся! Полезай-ка, дед, в бочкотару!
— Да ничего, ничего, терпение-то у меня еще есть, — снова заканючил укушенный гадом дед, но все тут возмущенно загалдели, а Шустиков Глеб, еще секунду назад предлагавший свое боевое решение, спрыгнул на землю, поднял легонького странника и посадил его в свободную ячейку, показав тем самым, что на ампутации не настаивает.
— Опять, значит, крюк дадим, — притворно возмутился старик Моченкин.
— Какие уж тут крюки, Иван Александрович! — махнул рукой Вадим Афанасьевич, и с этими его словами Володя Телескопов ударил по газам, врубил третью скорость и полез на косогор, а потом запылил по боковушке к беленьким домикам зерносовхоза.
— Я извиняюсь, земляк, — полюбопытствовал старик Моченкин, косым глазом ощупывая стонущего ровесника, — вы, можно сказать, просто так прогуливались с вашим пальцем или куда-нибудь конкретно следовали?
— К сестрице я шел, граждане хорошие, в город Туапсе, — простонал старичок.
— Куда? — изумился Шустиков Глеб, сразу вспомнив столь далекий отсюда пахучий южный порт, черную ночь и светящиеся острова танкеров на внешнем рейде.
— В Туапсе я иду, умный мальчик, к своей единственной сестрице. Проститься хочу с ней перед смертью.
— Вот характер, Ирина, обрати внимание. Ведь это же Сцевола, — обратился Глеб к своей подруге.
— Скажи, Глеб, а ты смог бы, как Сцевола, сжечь всё, чему поклонялся, и поклониться всему, что сжигал? — спросила Ирина.
Потрясенный этим вопросом, Глеб закашлялся. А старик Моченкин тем временем уже вострил свой карандаш в областные инстанции.
Проект старика Моченкина по ликвидации темно-зеленой змеи
Уже много лет районные организации развертывают успешную борьбу по ликвидации темно-зеленого уродливого явления, свившего себе уютное змеиное гнездо в наших лесах.
Однако, наряду с достигнутым успехом многие товарищи совсем не чухаются окромя пустых слов. Стендов нигде нету.
Надо развернуть повсеместно наглядную агитацию против пресмыкающихся животных, кусающих нам пальцы, вооружить население литературой по данному вопросу и паче чаянья учредить районного инспектора по змее с окладом 18 рублей 75 копеек и с выдачей молока.
В просьбе прошу не отказать.
Моченкин И. А., бывший инспектор по колорадскому жуку, пока свободный.
Вот так они и ехали. Телескопов с Дрожжининым в кабине, а все остальные в ячейках бочкотары, каждый в своей.
Однажды они приехали в зерносовхоз и там сдали терпеливого старичка в амбулаторию.
В амбулатории старичок расшумелся, требовал ампутации, но его накачали антибиотиками, и вскоре палец выздоровел. Конечно же, на шум сбежался весь зерносовхоз и в числе прочих «единственная сестрица», которая вовсе не в Туапсе проживала, а именно в этом зерносовхозе, откуда и сам старичок был родом. Что-то тут напутал терпеливый старичок. Должно быть, от боли.
Однажды они заночевали в поле. Поле было дикое с выгнутой спиной, и они сидели на этой спине у огня, под звездами, как на закруглении Земли. Пахло пожухлой травой, цветами, дымом, звездным рассолом. Стрекотали ночные кузнецы.
— Стрекочут, родные, — ласково пропела Степанида Ефимовна. — Стрекочьте, стрекочьте, по кузнецам-то я квартальный план уже выполнила. Теперича мне бы по батюшке фотоплексирусу дать показатель, вот была бы я баба довольная.
Личико ее пошло лучиками, голубенькие глазки залукавились, ручка мелко-мелко — ох, грехи наши тяжкие — перекрестила зевающий ротик, и старушка заснула.
— Сейчас опять игреца увидит мамаша, — предположил Глеб.
— Ай! Ай! Ай! — во сне прокричала старушка. — Окстись, проклятущий, окстись!
— Хотелось бы мне увидеть этого ее игреца, — сказал Вадим Афанасьевич. — Интересно, каков он, этот так называемый игрец?
— Он оченно приятный, — сказала Степанида Ефимовна, сразу же проснувшись. — Шляпочка красненькая, сапог модельный, пузик кругленький, оченно интересный.
— Так почему же вы его, бабушка, боитесь? — наивно удивилась Ирина Валентиновна.
— Да как же его не бояться, матушка моя, голубушка-красавица, — ахнула старушка. — А ну как щекотать начнет да как запляшет, да зенками огневыми как заиграет! Ой, лихой он, этот игрец, нехороший…
— Перестраиваться вам надо, мамаша, — строго сказал Шустиков Глеб. — Перестраиваться самым решительным образом.
— В самом деле, бабка, — сказал Телескопов, — загадай себе и увидишь, как хороший человек…
— …идет по росе, — сказали вдруг все хором и вздрогнули, смущенно переглянулись.
— Лыцарь? — всплеснула руками догадливая старушка.
— Да нет, просто друг, готовый прийти на помощь, — сказал Вадим Афанасьевич. — Ну, скажем, простой пахарь с циркулем…
— Во-во, — кивнул Володенька, — такой кореш в лайковых перчатках…
— Юридический, полномочный, — жалобно затянул старик Моченкин.
— Уполномоченный? — ахнула старушка. — Окстись, окстись! Мой игрец тоже уполномоченный.
— Да нет, мамаша, какая вы непонятливая, — досадливо сказал Глеб, — просто красивый лицом и одеждой и внутренне собранный, которому до феньки все турусы на колесах…
— И мужественный! — воскликнула Ирина Валентиновна. — Героичный, как Сцевола…
— Поняла, голубчики, поняла! — залучилась, залукавилась Степанида Ефимовна. — Блаженный человек идет по росе, ай как хорошо!
Тут же она и заснула с открытым ртом.
— Запрограммировалась мамаша, — захохотал было Шустиков Глеб, но смущенно осекся. И все были сильно смущены, не глядели друг на друга, ибо раскрылась общая тайна их сновидений.
Блики костра трепетали на их смущенных лицах, принужденное молчание затягивалось, сгущалось, как головная боль, но тут нежно скрипнула во сне укутанная платками и одеялами бочкотара, и все сразу же забыли свой конфуз, успокоились.
Шустиков Глеб предложил Ирине Валентиновне «побродить, помять в степях багряных лебеды», и они церемонно удалились.
Огромные сполохи освещали на мгновения бескрайнюю холмистую равнину и удаляющиеся фигуры моряка и педагога, и старик Моченкин вдруг подумал: «Красивая любовь украшает нашу жись передовой молодежью», — подумал, и ужаснулся, и для душевного своего спокойствия сделал очередную пометку о низком аморальном уровне.
Вадим Афанасьевич и Володька лежали рядом на спинах, покуривали, пускали дым в звездное небо.
— Какие мы маленькие, Вадик, — вдруг сказал Телескопов, — и кому мы нужны в этой вселенной, а? Ведь в ней же всё сдвигается, грохочет, варится, вся она химией своей занята, а мы ей до феньки.
— Идея космического одиночества? Этим занято много умов, — проговорил Вадим Афанасьевич и вспомнил своего соперника викария, знаменитого кузнечника из Гельвеции.
— А чего она варит, чего сдвигает и что же будет в конце концов, да и что такое «в конце концов»? Честно, Вадик, мандраж меня пробирает, когда думаю об этом «в конце концов», страшно за себя, выть хочется от непонятного, страшно за всех, у кого руки-ноги и черепушка на плечах. Сквозануть куда-то хочется со всеми концами, зашабашить сразу, без дураков. Ведь не было же меня и не будет, и зачем я взялся?
— Человек остается жить в своих делах, — глухо проговорил Вадим Афанасьевич в пику викарию.
— И дед Моченкин, и бабка Степанида, и я, богодул несчастный? В каких же это делах остаемся мы жить? — продолжал Володя. — Вот раньше несознательные массы знали: бог, рай, ад, черт — и жили под этим законом. Так ведь этого же нету, на любой лекции тебе скажут. Верно? Выходит, я весь ухожу, растворяюсь к нулю, а сейчас остаюсь без всяких подробностей, просто, как ожидающий, так? Или нет? Был у нас в Усть-Касимовском карьере Юрка Звонков. Одно только знал — трешку стрельнуть до аванса, а замотает, так ходит именинником, да к девкам в общежитие залезть, били его бабы каждый вечер, ой, смех. Однажды стрела на Юрку упала, повезли мы его на кладбище, я в медные тарелки бил. Обернусь, лежит Юрка, важный, строгий, как будто что-то знает, никогда я раньше такого лица у него не видел. Прихожу в амбулаторий, спрашиваю у Семена Борисовича: отчего у Юрки лицо такое было? А он говорит: мускулатура разглаживается у покойников, оттого и такое лицо. Понятно вам, Телескопов? Это-то мне понятно, про мускулатуру это понятно…
— Человек остается в любви, — глухо проговорил Вадим Афанасьевич.
Володя замолчал, тишину теперь нарушал лишь треск костра да легкое, сквозь сон, поскрипывание бочкотары.
— Я тебя понял, Вадюха! — вдруг вскричал Володя. — Где любовь, там и человек, а где нелюбовь, там эта самая химия-химия — вся мордеха синяя. Верно? Так? И потому ищут люди любви, и куролесят, и дурят, а в каждом она есть, хоть немного, хоть на донышке. Верно? Нет? Так?
— Не знаю, Володя, в каждом ли, не знаю, не знаю, — совсем уже еле слышно проговорил Вадим Афанасьевич.
— А у кого нет, так там только химия. Химия, физика, и без остатка… Так? Правильно?
— Спи, Володя, — сказал Вадим Афанасьевич.
— А я уже сплю, — сказал Володя и тут же захрапел.
Вадим Афанасьевич долго еще лежал с открытыми глазами, смотрел на сполохи, озаряющие мирные поля, думал о храпящем рядом друге, о его откровениях, вспоминал о своей любимой (что греха таить, и он порой вскакивал среди ночи в холодном поту) работе, заглушавшей подобные мысли, думал о Глебе и Ирине Валентиновне, о Степаниде Ефимовне и старике Моченкине, о пилоте Ване Кулаченко, о терпеливом старичке, о папе и маме, о всемирно знаменитом викарии, прыгающем по разным странам, ошеломляющем интеллектуальную элиту каждый раз новыми сногсшибательными то католическими, то буддийскими, то дионисийскими концепциями и возвращающемся всякий раз в кантон Гельвецию, чтобы подготовить очередную интеллектуальную бурю — что-то он готовит сейчас блаженной, бесштанной, ничего не подозревающей Халигалии?
С этими мыслями, с этим беспокойством Вадим Афанасьевич и уснул.
В отдалении на полынном холме, словно царица Восточного Гиндукуша, почивала под матросским бушлатом Ирина Валентиновна. Весь мир лежал у ее ног, и в этом мире бегал по кустам ее верный Глеб, шугал козу Романтику.
Она гугукала в кустах, шурша, юлила в кюветах, выпью выла из ближнего болота, и Глеб вконец измучился, когда вдруг всё затихло, замерло; на землю лёг обманчивый покой, и Глеб напружинился, ожидая нового подвоха.
И точно… вскоре послышалось тихое жужжание и по дороге силуэтами на прозрачных колесах медленно проехали турусы.
Вот вам пожалуйста — расскажешь, не поверят. Глеб сиганул через кювет, напрягся, приготовился к активному сопротивлению. И точно — турусы возвращались. Описав кольцо вокруг полынного холма, вокруг безмятежно спящей царицы Восточного Гиндукуша, они медленно катили прямо на Глеба, четверо турусов — молчаливые ночные соглядатаи.
В дрожащем свете сполоха мелькнул перед моряком облик вожака — детский чистый лоб, настырные глазёнки и широченные, прямо скажем, атлетические плечи.
Почти не раздумывая, с жутким степным криком Глеб бросился вперед. Что-то тут разыгралось, что-то замелькало, что-то заверещало… в результате военный моряк поймал всех четырех.
— Ха, — сказал Глеб и подумал совершенно отчетливо: «Вот ведь расскажешь, не поверят».
Он тряхнул турусов — они были гладкие.
— Ну, — сказал он великодушно, — можно сказать, влопались, товарищи турусы па колесах?
— Отпусти нас, дяденька Глеб, — пискнул кто-то из турусов.
Глеб от удивления тут же всех отпустил и еще больше удивился: перед ним стояли четверо школьников из родного райцентра.
— Это еще что такое? — растерялся молодой моряк.
— Велопробег «Знаешь ли ты свой край», — глухим дрожащим басом ответил один из школьников.
— Дяденька Глеб, да вы нас знаете, — запищал другой, — я Коля Тютюшкин, это Федя Жилкин, это Юра Мамочкин, а это Боря Курочкин. Он нас всех и подбил. Прибежал, как чумной, организовал географический кружок. Знаешь ли ты, говорит, свой край? Вперед, говорит, в погоню за этой…
— За кем, за кем в погоню? — вкрадчиво спросил Глеб и на всякий случай взял Борю Курочкина за удивительно плотную руку.
— За романтикой, не знаете, что ли, — буркнул удивительный семиклассник и показал свободной рукой куда-то вдаль.
Очередной сполох озарил пространство, и Глеб увидел пылящую вдали полнотелую Романтику на дамском велосипеде.
— Это — дело хорошее, ребята, — повеселев, сказал он. — Хорошее и полезное. Пусть сопутствует вам счастье трудных дорог.
И тут он окончательно отпустил школьников и совершенно спокойный, в преотличнейшем настроении поднялся на полынный холм к своей царице.
Третий сон педагога Ирины Валентиновны Селезневой
Жить спокойно, жить беспечно, в вихре танца мчаться вечно. Вечно! Ой, Глеб, пол такой скользкий! Ой, Глеб, где же ты?
Ирочка, познакомьтесь, — это мой друг, преподаватель физики Генрих Анатольевич Допекайло.
Генрих Анатольевич, совсем еще не старый, скользя на сатирических копытцах, подлетал в вихре вальса — узнаёте, Селезнева?
На одном плече у него катод, на другом — анод. Ну, как это понять моей бедной головушке?
С какой стати, скажите, любезная бабушка, квадрат катетов гипотенузы равен региональной конференции аграрных стран в системе атомного пула?
Еще один мчится, набирая скорость, — чемпион мира Диего Моментальный, в руках букет экзаменационных билетов. Ах да, мое соло!
В пятнадцатом билетике пятерка и любовь, в шестнадцатом билетике расквасишь носик в кровь, в семнадцатом билетике копченой кильки хвост, а в этом вот билетике вопрос совсем не прост.
Кругом вальсировали чемпионы мира, мужчины и женщины, преподаватели-экзаменаторы приставучие. Ждали юрисконсульта из облсобеса — он должен был подвести черту.
И вот влетел, раскинув руки, скользя в пружинистом наклоне, огненно-рыжий старичок. Все расступились, и старичок, сужая круги, рявкнул:
— Подготовили заявление об увольнении с сохранением содержания?
Повсюду был лед, гладкий лед, раскрашенный причудливым орнаментом, и только где-то в необозримой дали шел по королевским мокрым лугам Хороший Человек. Шел он, сморкаясь и кашляя, а за ним на цепочке плелись мраморные львята мал мала меньше.
Третий сон военного моряка Шустикова Глеба
Утром обратил внимание на некоторое отставание мускулюс дельтоидеус. Немедленно принял меры.
Итак, стою возле койки — даю нагрузку мускулюс дельтоидеус. Ребята занимаются кто чем, каждый своим делом — кто трицепсом, кто бицепсом, кто квадрицепсом. Сева Антонов мускулюс глютеус качает — его можно понять.
Входит любимый мичман Рейнвольф Козьма Елистратович. Вольно! Вольно! Сегодня, манная каша, финальное соревнование по перетягиванию канатов с подводниками. Всем двойное масло, двойное мясо, тройной компот.
А пончики будут, товарищ мичман? Смирно!
И вот схватились. Прямо передо мной надулся жилами неуловимо знакомый подводник. Умело борется за победу, вызывает законное уважение, хорошую зависть.
В результате невероятный случай в истории флота со времен ботика Петра — ничья! Канат лопнул. Все довольны.
Я лично доволен и в полном параде при всех значках гуляю по тенистым аллеям. Подходит неуловимо знакомый подводник.
— Послушай, друг, есть предложение познакомиться.
— Мы, кажется, немного знакомы.
— А я думал, не узнали, — улыбается подводник.
— Телескопов Володя?
— Холодно, холодно, — улыбается он.
— Дрожжинин, что ли? — спрашиваю я.
— Тепло, тепло, — смеется он.
Пристально вглядываюсь.
— Иринка, ты?
— Почти угадали, но не совсем. Моя фамилия — Сцевола.
— А, это вы? — воскликнул я. — Однако ручки-то у вас обе целы. Выходит — миф, трёп, легенда?
— Обижаешь, — говорит Сцевола. — Подумаешь, большое дело — ручку сжечь.
Тут же Сцевола чиркает зажигалкой, и фланелька на рукаве начинает пылать.
Поднимает горящую руку, как олимпийский факел, и бежит по темной аллее.
— Але, Глеб, делай, как я!
Поджечь руку было делом одной секунды. Бегу за Сцеволой. Рука над головой трещит. Горит хорошо.
Сцевола ныряет в черный туннельчик. Я — за ним. Кромешная мгла, лишь кое-где мелькают оскаленные рожи империалистов. На бегу сую им горящую руку в агрессивные хавальники. Воют.
Выбегаю из туннеля — чисто, тихо, пустынно.
По радио неуловимо знакомый голос:
— Готов ли ты посвятить себя науке, молодой, красивый Глеб, отдать ей себя до конца, без остатка?
Гляжу — лежит Наука, жалобно поскрипывает, покряхтывает, тоненьким, нежным и нервным голосом что-то поет. Какие-то добрые люди укутали ее брезентом, клетчатыми одеялами.
Ору:
— Готов!
Нате вам, пожалуйста, — из комнаты смеха выходит Лженаука огромного роста. Напоминает какую-то Хунту из какой-то жаркой страны. В одной руке кнут, в другой — консервы рыбные и бутылка «Горного дубняка». Знаем мы эту политику!
Автоматически включаю штурмовую подготовку. Подхожу поближе, обращаюсь по-заграничному:
— Разрешите прикурить?
Лженаука пялит бесстыдные зенки на мою горящую руку. Размахивается кнутом. Это мы знаем. Носком ботинка в голень — в надкостницу! Тут же — прямой удар в нос — ослепить! Двумя крюками добиваю расползающегося колосса. Лженаука испаряется.
Хлынул тропический ливень — ядовитый. Кашляю и сморкаюсь. Гаснет моя рука. Бегу по комнате смеха — во всех зеркалах красивый, но мокрый. Абсолютно не смешно. Пробиваю фанерную стенку и вижу…
…за лугами, за морями, за синими горами встает солнце, и прямо от солнышка идет ко мне любимая в шелковой полумаске. Идет по росе Хороший Человек.
Третий сон Владимира Телескопова
Бывают в жизни огорченья — вместо хлеба ешь печенье. Я слышал где-то краем уха, что едет Ваня Попельнуха. Придет без всяких выкрутасов наездник-мастер Эс Тарасов.
Глаза бы мои на проклятый ипподром не смотрели, однако смотрят. Тащусь, позорник, в восьмидесятикопеечную кассу. Вхожу в залу — и почему это так тихо? Тихо, как в пустой церкви. И что характерно, все, толкаясь, смотрят на входящего Володю Телескопова. И я тоже смотрю на него, будто в зеркало, что характерно.
Что характерно, идет Володя в пустоте весь белый, как с похмелья. И что характерно, он идет прямо к Андрюше.
Андрюша стоит у колонны. Что характерно, он тоже белый, как чайник.
— Андрюша, есть вариант от Ботаники и Будь-Быстрой. Входишь полтинником?
Андрюша-смурняга пугливо озирается и, что характерно, шевелит губами.
— Чего-о?
— Ты думаешь, Володя, мы на них ставим? Они, кобылы, ставят на нас.
Включили звук. Аплодисменты. Хохот. Заиграл оркестр сорок шестого отделения милиции.
Андрюша гордо вскинул голову, бьет копытом. Я тоже бью копытом, похрапываю. Подошли, взнуздали, вывели на круг. Настроение отличное — надо осваивать новую специальность.
У меня наездник симпатичный кирюха. У Андрюши — маленький, как сверчок, серенький и, что характерно, в очках — видно, из духовенства. Гонг, пошли, щелкнула резина.
Идем голова в голову. Промелькнула родная конюшня, где когда-то в жеребячьем возрасте читал хрестоматию. Вот моя конюшня, вот мой дом родной, вот качу я санки с пшенной кашей. От столба к столбу идем голова в голову. Андрюша весь в мыле, веселый.
А трибуны приближаются, все белые, трепещут. Эге, да там сплошь ангелы. Хлопают крыльями, свистят.
Финиш, гонг, а мы с Андрюшей жмем дальше. Наездники попадали, а мы чешем — улюлю!
Видим, под тюльпаном Серафима Игнатьевна с Сильвией пьют чай и кушают тефтель.