Крест командора Кердан Александр
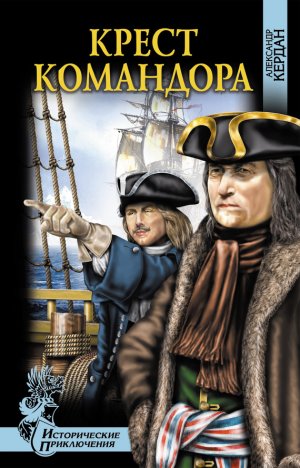
– Det er umuligt! Det er umuligt![57]
– Быть не может, что чадо моё! Отвечай, сучка, от кого брюхо на глаза лезет? – по-дворничьи орал Скорняков-Писарев, брызжа слюной.
Лицо его, перекошенное гримасой гнева, было ужасно: выпученные глаза побелели, щёки приобрели синюшный оттенок. Кажется, ещё миг – и его хватит удар…
Таким Катя его никогда не видела.
Она хотела сказать, что других мужчин в её жизни не было, но молчала, ибо это оказалось бы не всей правдой, а только частью её. Как передать Григорию Григорьевичу ужас, который она пережила, когда подверглась нападению насильника? Как объяснить, что хотя она чиста перед ним, но полюбила другого? Глядя в его взбешённое лицо, она не могла сейчас сказать: любила ли Григория Григорьевича вообще…
– Я же холил и лелеял тебя, я же верил тебе, пуще чем себе самому… Ах ты лярва бесстыжая… – распалялся всё больше Скорняков-Писарев и под конец разразился такой грязной бранью, какой не ругается даже manants[58].
Катя заметила, что он судорожно стискивает могучие кулаки.
«Сейчас ударит…» – подумала и испугалась. Испугалась и обрадовалась одновременно. Ударь он её, и, наверное, душа освободилась бы от тяжести всех свершенных и не свершенных грехов.
– Я более не люблю вас, – еле слышно, но твердо произнесла она, развязывая ему руки.
Но он не ударил ее, а только бухнул кулачищем по столу с такой силой, что высоко подпрыгнула посуда. Кате показалось, что покачнулись образа в красном углу. Она перекрестилась. Скорняков-Писарев плюнул на пол, глянул на неё так, что хоть сквозь землю провались, и тяжело вышел из горницы.
Она услышала, как стукнула дверь, и опустилась на скамью. Её располневшее тело заколыхалось от рыданий.
Когда Катя успокоилась, ей совсем не к месту вспомнилось, как в отрочестве играла она с дворовыми девками и парнями в горелки. Играющие стояли по парам, в затылок друг другу. По сигналу пары разбегалась в разные стороны, а одинокий игрок ловил их, приговаривая:
– Горю, горю пень… Горю, горю пень…
– Чего горишь? – отзывались остальные.
– Девки хочу!
– Какой?
– Молодой да баской! – говорил парень, изображая формы красавицы, какую хотел заполучить.
– А любишь? – со смехом спрашивали его.
– Люблю…
– А черевички купишь?
– Куплю!
– Прощай, дружок, больше не попадайся!
«Как же я попалась в сети к лукавому? – впервые прямо спросила себя она. Прежде боялась об этом даже подумать и после исповеди у батюшки ещё не до конца осознавала свой грех, а теперь словно глаза открылись. – Ведь прав Григорий Григорьевич: он мой муж, отец моего дитя. А я посмела мечтать о другом мужчине. Кто он мне, откуда это наваждение?»
Она встала на колени, зашептала горячо:
– Не доведи, Пречистая Дево, воли моей попущатися, исцели душу мою от греховных помышлений…
Но, молясь, думала о Дементьеве, о себе, о Григории Григорьевиче.
«Из жалости любовь не выкроишь» – это Катя хорошо поняла теперь. Она все эти годы жалела Григория Григорьевича и принимала жалость за любовь. Да, он был её первым и единственным мужчиной, да, его дитя носит она в себе. Но любовь…
Чувство Дементьева вспыхнуло внезапно и не поддавалось доводам разума, твердящего, что не ко времени оно, что не может она, во имя будущего ребенка, отказаться от Григория Григорьевича, что нет будущего у неё с этим молодым офицером, ибо разделяет их пропасть: она ссыльная, да ещё тяжела… Катя понимала, что греховны её помыслы, что жизнь на земле для счастья человеческого вовсе не приспособлена, что не имеет она права даже думать о нём, вспоминать его глаза, лицо… Но что поделать, если даже при взгляде на образа – видит его…
За спиной раздалось негромкое покашливание. Катя так была поглощена своими переживаниями, что не услышала вошедшего. Не вставая с колен, она обернулась и встретилась взглядом с человеком, о недопустимости встречи с которым только что молила Провидение.
Она махнула рукой, будто прогоняя видение, и покачнулась.
Дементьев бросился к ней, помог подняться:
– Вы испугали меня, Екатерина Ивановна. Нельзя так волноваться в вашем положении…
– Скорее уходите! Вам нельзя здесь быть! – испугалась, в свою очередь, она. – Муж сейчас вернется…
– Нельзя так волноваться, – повторил Дементьев. – Я ведь к вам…
– Что случилось?
Он заговорил сбивчиво и бессвязно, торопясь рассказать всё и боясь, что она не станет его слушать… Говорил, что мечтал снова встретиться с ней, что был отправлен на строительство лесопильни, что полюбил её еще тогда, когда увидел впервые, и теперь ещё сильнее любит её…
Глаза его горели. Он попытался взять её за руку. Катя отстранилась и сказала совсем не то, что хотела:
– Я не могу любить вас, сударь. Я замужем…
– Он не муж вам, я знаю.
– Это не важно. Дело не в нём, а во мне, – она старалась говорить как можно спокойнее. – Нам не надобно боле встречаться…
Он видел, что слова даются ей с трудом:
– Вы не любите меня?
– Прошу, оставьте…
Ей было больно смотреть, как судорожно искривилось его лицо – вот-вот заплачет, словно ребенок. Она испугалась, что тогда не сможет остаться строгой, и снова попросила:
– Ступайте же! Это невыносимо…
Он склонил голову и, резко повернувшись, вышел из горницы.
В сенях Дементьев лоб в лоб столкнулся со Скорняковым-Писаревым.
От неожиданности Дементьев отпрянул назад, щёки его запунцовели. С бывшим начальником Морской академии он не встречался с давней, ученической поры. Но сразу узнал его, чего нельзя было сказать о Скорнякове-Писареве.
Он бесцеремонно оглядел Дементьева:
– Кто вы? Что вам угодно, сударь?
Дементьев произнес, запинаясь:
– Флотский мастер Дементьев. С поручением от господина капитан-командора к вашей милости. Их высокородие господин Беринг крайне плох. Просят вас к себе явиться незамедлительно…
Скорняков-Писарев снова смерил его пытливым взглядом и пробурчал:
– Ein mal ist kein mal…
– Что, простите? – растерялся Дементьев.
Он не сразу смог перевести слова Скорнякова-Писарева. И только выйдя на улицу, вспомнил поговорку немца Циркуля: «Айн маль – ист кайн маль. Один раз – не раз. То есть один раз не считается…» Но о чём это сказано, Дементьев так и не понял.
Капитан-командор почувствовал себя дурно в первый день октября. Вдруг пропал аппетит, на отсутствие коего он доселе не жаловался. Ближе к полудню стал бить озноб. Слуга Яган Мальцан уложил его в постель, укрыл несколькими одеялами. Ничего не помогало. Озноб вскоре сменился жаром. Беринг метался в бреду, сбрасывая одеяла.
Перепуганный Мальцан запоздало спохватился и послал второго служителя Ивана Кукушкина за лейтенантом Вакселем, исполнявшим обязанности офицера для поручений, и за эскулапом.
Матис Бедье и Ваксель пришли почти одновременно. Подлекарь, человек неопределенной национальности, выдававший себя за француза, считался в Охотске главным медиком. Он вымыл руки в тазу с горячей водой, согретой по его приказанию, тщательно вытер их полотенцем. Оглядел больного, прослушал пульс, промакнул пот на лбу Беринга, понюхал платок и констатировал:
– Delirium tremens…[59]
– Что сие значит? – озабоченно спросил Ваксель.
Бедье с важным видом пояснил:
– Мокрота, проникшая в мозг господина капитан-командора и вызвавшая его лихорадочное воспаление, есть итог великих страхов и испытаний, а такоже чрезмерных трудов, превосходящих возможности духа и тела…
– Что же делать, сударь?
– О, господин лейтенант, не надо так громко говорить. Это вредно больному и не способствует здравому смыслу.
Ваксель смутился:
– Есть ли надежда, господин Бедье? – перейдя на шёпот, спросил он.
Бедье поднял вверх указательный палец и заявил, переполняясь собственной значимостью:
– Мы, господин лейтенант, слава Создателю, живём не в пещере. Современная медицина знает, как лечить сию заразительную болезнь.
При слове «заразительная» Ваксель поежился, но тут же умоляюще сложил ладони:
– Так что же вы медлите, сударь?
– Искусство врачевания не требует быстроты. Быстрота нужен токмо при понос и ловля блёха. Как говорят, семь раз отмерь…
– Один отрежь, – подсказал лекарский ученик Архип Коновалов, всё это время вертевшийся рядом и преданно глядящий в рот главному эскулапу.
Бедье неодобрительно зыркнул на него и приступил к процедурам.
Сначала сделал кровопускание, потом дал каламель – лекарство с применением ртути, способное вызвать отток желчи.
У Беринга началась рвота, лицо его посинело. Но Бедье спокойно, будто так и должно было быть, наблюдал за тем, как выворачивало командора.
Ваксель сидел в сторонке, не смея ни о чем больше спрашивать ученого медика.
После очищения желудка больной неожиданно успокоился и уснул.
Бедье посчитал свой долг исполненным, наказал слуге давать капитан-командору, когда он проснётся, побольше питья, откланялся и ушёл.
Беринг относительно спокойно проспал несколько часов, а проснувшись, слабым голосом попросил воды.
Напившись, подозвал Вакселя:
– Свен, мне кажется, мой фрегат подходит к вечной стоянке, – заметив протестующий жест, прикрыл глаза, словно прося не перебивать его:
– Пригласите сюда господ Шпанберга, Чирикова и начальника порта. Я хочу говорить с ними…
Через час старшие офицеры собрались у постели больного.
Он лежал на высоких подушках бледный, осунувшийся. Парика на нём не было, и поэтому особенно бросалась в глаза седина, запорошившая его коротко стриженные, некогда смоляные волосы.
Беринг оглядел всех сосредоточенным взглядом смертельно-больного человека. От этого бездонного взгляда, направленного прямо в душу, всем собравшимся стало неуютно.
– Господа, я пригласил вас затем, что не чувствую более сил выполнять руководство экспедицией, возложенное на меня нашей августейшей повелительницей, – медленно проговорил капитан-командор. – Я чувствую, что дни мои сочтены. Прошу выслушать меня, как если бы сие была моя последняя воля…
В горнице, где лежал Беринг, стало слышно тревожное гудение осенней мухи под потолком.
Капитан-командор обратился к Вакселю:
– Свен, прошу, пошлите за Анной Матвеевной…
Он сказал это так, как будто супруга находилась не за тысячу верст, в Якутске, а на соседней улице. Ваксель растерянно оглядел присутствующих:
– Кого прикажете послать, ваше высокородие?
– Всё равно. Хоть лейтенанта Плаутина… Он, кажется, рвался съездить в Якутск… И не медлите, прошу вас…
– Будет исполнено, – Ваксель поднялся и вышел, осторожно ступая по скрипучим половицам. В его лице читалась не только исполнительность преданного служаки, но и то, как тяжко видеть ему немощь капитан-командора.
Оставшиеся терпеливо ждали дальнейших распоряжений.
Беринг заговорил неожиданно горячо:
– Тяжко мне оставлять вас, господа. Не имею уверенности, судари мои, простите сию резкость, что, когда Господь приберёт меня, не перегрызётесь вы, как собаки…
– Как говаривал шут Петра Алексеевича старик Балакирев: «В России хлеба сеять не надоть, мы друг друга едим и этим сыты»… – мрачно отозвался Скорняков-Писарев.
Чириков бросил взгляд на Шпанберга и Скорнякова-Писарева, подумав, что прав Беринг, трудно будет договориться с ними…
– Дело погубите, небывалое дело, что нам Петром Великим поручено… – голос командора зазвенел и вдруг сник.
Снова воцарилась гудящая тишина. Все ждали, кого капитан-командор назовёт преемником.
Шпанберг не выдержал первым:
– Кого вы оставите после себя, сударь? – спросил он по-датски, но его поняли все.
– Согласно высочайшему указу, в случае моей кончины командование экспедицией должен будет принять на себя мой первейший помощник…капитан-поручик Чириков, – тихо произнес Беринг.
Шпанберг вскочил. Лицо у него перекосилось, зубы клацнули, но противоречить капитан-командору он не решился.
Беринг проговорил чуть слышно:
– Прошу всех господ офицеров исполнять его…
Тут силы оставили капитан-командора, и он закрыл глаза.
Чириков кликнул ученика лекаря, дежурившего в соседней комнате. Тот выскочил из-за перегородки, оглядел больного и попросил:
– Господа, у их высокородия опять жар начался. Извольте дать ему покой!
Офицеры вышли, а Беринг провалился в темноту.
Порой, как вспышки света, в нее врывалась жизнь. Звякала ложка о стеклянный сосуд, в котором лекарь разводил питье. Извивались перед мутным взором чёрные жирные пиявки, пришлёпываемые рудомётом[60] ему на виски и на грудь.
– Тak! Godt tak![61] – запекшимися губами шептал он.
Снова наступала темнота. Черные пиявки извивались и увеличивались в размере. Вот они уже вовсе не пиявки, а змеи, переплетающиеся на деревянной резьбе на стенах кирхи в Хорсенсе. Основание кирхи сложено из грубого камня, а черепица на остроконечной крыше похожа на чешую сказочного дракона.
Крылатые драконы подхватывают Витуса и поднимают в небо. Там, на облаке, похожем на сизый дым из трубки-носогрейки, сидит его отец Ионансен. Он курит трубку и говорит ласково:
– Ты будешь капитаном, Витус! Ты будешь капитаном…
– Unskuld, far[62], – отвечает Витус. – Я хочу петь в церковном хоре…
Лицо Ионансена заволакивается дымом, растворясь. Витус пытается удержать отца. Но руки его хватают пустоту…
- Не ковыль-трава, травушка шатается,
- Зашатался тут добрый молодец,
- Он служил, служил царю белому,
- Царю белому, Петру Первому…
– Кто это поет? – спросил он, очнувшись.
– Солдатики наши, из караула… Приказать, чтоб замолкли, ваше скородие?
– Пусть поют… Хорошо… – пробормотал Беринг, снова впадая в забытьё.
…Ласково гладит его по голове пробст Хольдберг, утешает:
– Ты сердцем поешь, мой мальчик! Ты ещё будешь петь в нашем хоре!
– Толстяк попался, толстяк попался, – перебивает пробста рослый парень в поношенной рыбацкой робе.
«Это же Долговязый Педер! Он потащит меня в Логово… Я не хочу отдавать Сатане свою душу! Господи!» – сердце Витуса переполняется давно забытым ужасом…
Он стонет и мечется в бреду.
– Долго не протянет… – послышался знакомый голос Кукушкина.
– Надо бы священника позвать… – эхом отозвался другой.
– Да где тут вашего пастора найдешь… Может быть, все же отца Иоанна пригласим?
– Нет-нет! Не положено лютеранину вашему батюшке исповедоваться…
Сквозь непроглядную тьму глухо, будто из корабельного трюма, доносились до Беринга эти слова, но он уже не понимал, что это говорят о нём.
Фильку Фирсова просто распирало от радости. Услышал-таки Господь всемогущий его молитвы – хозяин наконец-то влюбился. И вроде бы всурьёз. А то, почитай, скоро тридцать лет ему, а так в мужеское состояние и не вступил. Филька даже начал подумывать, уж не больной ли барин? Не обучился ли где какой гадости содомской, а теперь мучается? У господ ведь каких токмо дуростей не встретишь: то, значит, барин барина обихаживает, а то барыня барыньку. Конечно, и среди простого люда такие нехристи попадаются, но куда реже. Девунь и вахлачек[63] люди жалеют. Хворые они. Кто на голову, а кто и душу дьяволу запродал. Слава Богу, барин его не из таких. Значит, сладится у него с его зазнобой. А тут заприметил Филька, что избранница Авраама Михайловича брюхата. Он поскрёб длинным и острым, как у барина, ногтем на мизинце затылок, провёл в уме нехитрые расчёты и чуть вовсе не спятил: скоро у хозяина наследник родится! Эта весть вызвала в нём такой фейерверк восторженных чувств, что он просто не мог держать их в себе. Всё утро, аки кот вокруг сметаны, ходил вокруг хозяина с шуточками и прибауточками, пытаясь разговорить его на сей предмет, но только заработал тумака и гневный окрик. Однако не обиделся, а, отпросившись на речку якобы постирать бельишко, сам наладился к своей сердечной зазнобе – Аграфене. Кому же еще такую радость выложить, как не сударушке?
Надо заметить, что, к великому Филькиному огорчению, женского полу в Охотске было не густо: несколько старух, уже ничьего интереса не вызывавших, с десяток солдатских вдов, ещё столько же каторжанок да две-три офицерские жены… Словом, не разбежишься. Но не зря сказано, мол, свинья грязи найдет!.. «А хоть бы и свинья… – усмехнулся Филька своим мыслям, – она животина сознательная. Ест досыта, живёт в тепле, по-барски. Жаль, что к зиме зарезать могут…»
Новая Филькина пассия – толстенная, как пятиведёрная бочка, баба с рыжими, пропахшими кислой капустой волосами, была супружницей дьячка, что обретался в острожной пыточной избе.
«Как-никак, а мы с ним по одному тайному ведомству проходим. Значит, сродственники. А родня должна помогать друг дружке», – рассудил Филька, приступая к осаде пышнотелой дьяконовой супруги. Он недолго штурмовал «сию крепость».
Аграфена, истосковавшаяся по мужской ласке, на которую, ежели верить, её благоверный был давно не способен, сдалась на первом же свидании, к обоюдному удовольствию. С тех пор и встречались они в урочное время прямо в дьконовой избе. Благодарная Аграфена подкармливала Фильку, а он звал её не иначе как «касатушка» и, ежели бы не страх быть застигнутым в её доме внезапно вернувшимся дьячком, почитал бы он себя совершенно счастливым.
Нынче же, от нечаянной радости, даже этот страх померк, не тревожил Фильку, как обычно. Наскоро приласкав Аграфену и удобно устроившись меж её могучими, как печные чугунки, грудями, он сообщил:
– Слышь, касатушка, а мой барин настоящим мужиком сделался.
– Скажешь тоже, Филя: баринок твой, прости мя, Господи, кутёнок кутёнком. Тебе-от не чета, – нежно прогудела Аграфена.
– Ну, ты, касатушка, про барина моего брось… – обиделся Филька. Он хотел вспомнить про тайное ведомство, к коему они с Дементьевым приписаны, да вовремя спохватился, приказ хозяина вспомнил: про это языком не чесать.
Филька приподнял голову со своего «постамента»:
– Вот те крест! Амор у его!
– Чево? – не поняла Аграфена.
Филька масляно повел очами:
– Ну, как у нас тобой, касатушка… Ясно?
– Ага, – не поняла Аграфена незнакомое слово, но поинтересовалась: – А с кем мор-от?
– С кем, с кем? С ей… – Филька приглушил голос. – С самой Скорнячихой!
Аграфена вовсе стряхнула его с груди, выпучила блеклые зенки:
– Врешь!
– Верно говорю, тресни мое пузо!.
– Неужто у Катерины Ивановны и бабья немочь от баринка твоего?
– От кого ж ещё?
– Ну, брешешь! Хочь Катерина со Скорняком и живут любодеями, но она от него дитё носит. Мой-от мне говорил.
– Твой скажет! Он што, свечку держал? Ты меня послушай. Я доподлинно знаю: не было в то время Скорняка туточки. В бегах был, когда мы в крепости ему шкуру подпалили. Помнишь? А немного погодя я сам, лопни мои буркала, видал, как оне – Скорнячиха и мой барин – друг за дружкой из вашего сенника выходили.
– Ну и что?
– А ничего. Вышли и – шмыг в разные стороны, будто догляду боялись.
Аграфена фыркнула:
– Это ты всего боисся. Запазуху лезешь, а буркалами крутишь…А барам чего пужаться! Им всё нипочём. Как ты сказал, мор и есть мор.
Филька хохотнул:
– Хо-хо, это кады коза копытами кверху – мор, а ежели баба на спину падает, то сие амором зовётся… Уразумела, касатушка? А иначе флиртой, – тут он изловчился и играючи шлепнул её ладошкой по облой ляжке. – Вот она флирта и есть!
Аграфена взвизгнула, но с места не сдвинулась. А Филька шлёпнул ее снова и стал щекотать, приговаривая:
– Скачет баба задом, скачет передом, а дело идёт своим чередом. Бабы, бабоньки мои, разлюбезныя, вы ж, что горшок на тагане, что ни влей, все – закипит!
– Ах ты, бесстыжий! Я вот щас тебе покажу таган, покажу горшок! – Аграфена, с неожиданным для нее проворством, схватила Фильку в охапку, подмяла под себя, осыпая его лицо влажными и жаркими поцелуями…
Вечером того же дня, терзаемая ставшей ей известной тайной, она не утерпела и уязвила мужа:
– Вот ты, батюшка, день и ночь в избе своей пытошной пропадаешь, а ведь ничегошеньки не знаешь, что в острожке деется…
Дьячок непонимающе уставился в её лубяные зенки:
– О чем ты, Аграфена? Окстись.
Аграфена тут же скороговоркой выложила всё, что услыхала от Фильки. Только о том, откуда это знает, само собой разумеется, промолчала.
Выслушав новость, дьячок истово осенил себя крестным знамением и прогнусавил:
– Ох, дщери Евы, исчадье ада. Всё зло в мире подлунном от вас.
Аграфена оскорбилась:
– Чуть что бабы! А сами? Сами-то – кобели!
Дьячок снова перекрестился:
– Без толку молимся, без меры согрешаем…
Аграфена не поняла: поверил он ей или нет. Они в молчании повечеряли. И только когда стали готовиться ко сну, дьячок поинтересовался:
– Откуда вызнала-то про Катерину Ивановну?
– Сорока на хвосте принесла. Что в нашей деревне спрячешь? В одном конце сморкнут, на другом слыхать… – уклончиво ответила она, довольная тем, что новость всё же произвела на мужа впечатление. Помолчав, спросила: – Скорняку-то будешь говорить? Он ведь тебе догляд за бабой своей поручал…
Дьячок внезапно взъярился:
– Поручал! Что я, чужим бабам пастух, что ли? Своя вон от рук отбивается, – он зло сузил глаза, буравчиками вонзил в нее: – Ты гляди у меня, змея, договоришься!
– А я чо, я ничо! – враз сникла Аграфена. Она боялась супруга. Он хоть с виду и невзрачный, но в ярости лютый бывает, бьёт всем, что под руку подвернётся: кочергой, ухватом… Прошлый раз поленом отходил – две недели бока синими были… И за что, скажите?
На этот раз пронесло. Они улеглись, и скоро Аграфена по-мужицки раскатисто захрапела. А дьячок не мог уснуть до утра – всё думал, как сообщить грозному начальнику о том, что Екатерина Ивановна заблудила и носит ребёнка не от него. Да и стоит ли такое сообщать?
Несколько дней он терзался, как поступить. Впрочем, времени даром не терял. Через своего соглядатая в лагере Беринга вызнал, что ходит к Аграфене Филька Фирсов – денщик флотского мастера Дементьева, того самого, что содержался у них в узилище прошлой зимой. Ревности дьячок никакой не почувствовал: телесные забавы у самого давно в прошлом. Он даже неожиданно испытал нечто похожее на благодарность Фильке, освободившему его от докучливых супружеских обязанностей. Само же получение важного известия от слуги Дементьева непонятным образом внушало ему уверенность, что рассказанное Аграфеной похоже на правду.
Дьячок сделал вывод, что разговора с начальником не избежать и что лучше, чтобы Скорняков-Писарев узнал обо всём от него, нежели со стороны. Таковое ведь тоже могло случиться: уж больно этот любодей Филька болтлив. Ему бы, как Акинфию, язык урезать, да по самые уши…
Однако он ещё долго не решался заговорить со Скорняковым-Писаревым.
Случай представился, когда начальник сам заявился в пыточную и стал подробно расспрашивать дьячка обо всём, что случилось в его отсутствие. Мысленно помолившись, дьячок выложил как на духу всё, что узнал. При этом он не позабыл, конечно, всячески выгородить себя, ещё раз побожиться в своей преданности начальнику, а всю вину за происшедшее возложить на известную всему миру женскую греховность и порочность. На языке у дьячка даже вертелась присказка про сучку, без желания которой к ней ни один кобель не подступится, но у него хватило ума этого не сказать. И так наговорил много лишнего…
Скорняков-Писарев слушал, не перебивая. По мере рассказа он как будто становился все спокойнее, умиротворенней.
– Филька Фирсов, говоришь? – раздумчиво переспросил он.
– Точно так, ваше превосходительство. Флотского мастера Дементьева денщик. А этот мастер, чтоб его, при экспедиционной лесопильне нынче состоять изволят.
– Ладно, поглядим, какой он мастер, – Григорий Григорьевич поднял глаза на дыбу. В них полыхнул такой яростный огонь, что дьячок, и без того согбенный, ещё глубже втянул голову в плечи.
– Казёнка у тебя есть? – вдруг спросил начальник.
Дьячок не ожидал такого вопроса и ошарашенно разинул рот.
Скорняков-Писарев прикрикнул:
– Казёнку давай! Живо!
Дьячок выскочил в сени. В ларе под замком он хранил личные запасы огненного зелья, которого в Охотске и днём с огнём не сыщешь. Вытащил запылённую зелёную бутыль, скорчил кислую гримасу – жалко выставлять, а ничего не поделаешь… Вернулся в избу. Налил казёнки в глиняную кружку.
Скорняков-Писарев кружку отодвинул. Взял бутыль и жадно припал к горлышку.
Дьячок со страхом и сожалением наблюдал, как содержимое бутыли с бульканьем исчезает в лужёной глотке начальника.
Скорняков-Писарев остановился только тогда, когда четверть вовсе опустела.
Не поблагодарив хозяина, отшвырнул бутыль в сторону, встал, покачнулся, но выправился и твердой походкой направился к двери. Опьянения он не чувствовал. Только в голове образовалась звонкая пустота, а по кишкам медленно разливался огонь. С порога глянул на дьячка невидящим взглядом и произнёс неожиданное:
– Ведьму надо бить наотмашь…
Дьячок согласно заблеял:






