Крест командора Кердан Александр
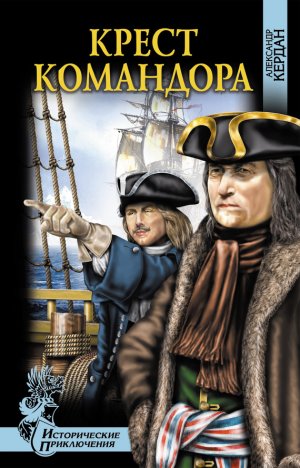
– Ой, барин… Ну, ежели леший закружит, так хучь кафтан перевернуть не забудьте…
На следующее утро Дементьев, в сопровождении проводника и двух солдат, двинулся в путь. Шли налегке, взяв только провизию. Продвигались довольно быстро, пока при переправе через горную речку один из солдат не оступился на скользком камне, сломав при этом ногу. Примотав к повреждённой ноге лесину, попробовали идти дальше, неся раненого на себе, но ход так замедлился, что Дементьев вынужден был оставить обоих солдат в попавшейся им избушке, построенной ещё в первую экспедицию. Здесь оказался небольшой запас крупы и муки, а также грубые лыжи, которые очень пригодились. На перевале уже лежал снег.
Дементьев и проводник продолжили путь. Он запомнился как изнуряющее силы продвижение по глубокому снегу, ночёвка у костров на лапнике под завывание ветра и жуткие песни волков, чьи мерцающие зеленым глаза неотступно каждую ночь маячили вокруг стоянок. Чтобы отпугнуть хищников, Дементьев палил во мрак из штуцера. Один раз, кажется, попал. Раздался дикий визг, сменившийся грозным рычанием сразу нескольких зверей. Кто-то по-собачьи тявкнул, заскулил, и наконец всё стихло. Утром он обнаружил на снегу пятна крови, клочья шерсти и обглоданные кости. Мурашки поползли по спине: волки сожрали собрата… Дементьев устало вскинул глаза к низкому серому небу, пристывшему к макушкам елей и так же равнодушно, как проводник, взиравшему на безбрежную тайгу и на него.
Проводник-якут торопил:
– Идем, начальника… Скоро совсем зима. А что дальше, знает только создатель Тенгри…
Когда остановились на ночлег, он подбросил в костер сушняка. Глядя на красные искры, улетающие вверх, разговорился:
– Ничего нету зря. Слава священной Иэйиэсхит Хотун! Она ведёт нить жизни! Её слушай Хозяин охоты Байанай и мать его Аар-Тайга. Длиннорогий Бык Зимы тоже слушай Иэйиэсхит Хотун! Не даст замерзнуть и пропадай жизнь. Надо соблюдай Закон! Кто не соблюдай – худо! Кто соблюдай – не умер никогда, стал облако, стал снег, стал река… Его нет, и он есть… Закон соблюдай надо!
Дементьев слушал, не перебивая. Он – сильный молодой мужчина, понимал, что сейчас целиком зависит от этого странного старика. Не простой старик, уж не колдун ли? А может, тот самый леший, о котором все уши прожужжал Филька? Лесная нежить? Приняла человечий облик и водит его, путая след, по тайге. Не ровен час, проснешься поутру, а его и след простыл… Тогда точно придётся плащ на другую сторону выворачивать!
Проводник неуклонно, следуя по одному ему известным заметкам, торил путь в сторону, откуда вставало красное, как лисица, промерзшее солнце. И вот однажды утром с седловины хребта, на который они едва вползли намедни в сумерках, открылась взору долина, в середине которой Дементьев разглядел острожек.
– Это Охотск?
Проводник кивнул. Потом поглядел куда-то в сторону и огорошил:
– Моя дальше не ходи. Злая начальника бойся. Душа его – иччитэх, покинутое жилище. Абаас, злой дух, посланник нечистого, живет там. Твоя одна ходи… – и, как ни уговаривал его Дементьев, дальше не пошёл.
– Иэйиэсхит Хотун помогай тебе дорога искать. Соблюдай Закон и придешь к своя люди… – сказал якут на прощанье и ушёл в тайгу.
Дементьев стал осторожно спускаться в долину.
До ворот острожка он доплелся, когда уже стемнело. Долго стучал, пока отворил караульный.
– Кто таков? – угрюмо спросил он.
– Мастер флота Дементьев. Из экспедиции.
Дементьев успел разглядеть, что караульный был в старом стрелецком кафтане, однако вооружён новым мушкетом.
– Откель, гришь? – после повторного ответа караульный как-то странно хмыкнул и распахнул пошире створку ворот. – Милости просим, ваш бродь!
Не успел Дементьев ступить на темный двор острожка, как на него набросились люди, отняли штуцер и шпагу, скрутили руки и поволокли в глубь двора.
– Вы что, сдурели?! – вырывался он. – Я – офицер, пустите! Сволочи! Где ваш начальник?
Его никто не слушал. Отчаянно вырываясь, он получил тяжёлый удар по затылку и обеспамятел.
Привели его в чувство незнакомые голоса.
– Режь наши головы, не тронь наши бороды, говорили старики! – вещал низкий, чуть дребезжащий бас. – По невежеству своему думали, что без бороды не войдут в Царство Небесное. А Царство Небесное отворяется для всех честных людей, с бородами и без бород, в париках и плешивых, наподобие меня. Сколько раз тебе, батюшка, стану я повторять, Пётр Алексеевич боролся не с бородами, а с суевериями и упрямством, от суеверия происходящим…
Другой голос мягко возражал:
– Неумеренное исправление своих обычаев и нравов было причиною разрушения многих древних царств. Человек – создание Божье, однако по природе своей греховен и состоит не токмо из добродетелей, но из пороков. Потому государю надобно тщательно взвешивать, какой из обычаев вред приносит и какая польза выйдет, ежели его уничтожить. Если польза и вред оказываются равными, так такой обычай лучше и не трогать вовсе. Ну какой вред приносили рассейской империи бороды? Да никакой! Но принуждение к их бритью великий вред породило.
– Что за вред, ваше преподобие? Бог с вами!
– А вот какой, ваше высокоблагородие. Коли мой характер хорош, что за нужда, что лицо у меня мохнато или платье до полу?
– Эдак вы, батюшка, и до того дойдёте, что нет никакого греха в том, как я персты складываю, себя крестом осеняя! – сказал обладатель баса.
– Вот, Михайла Петрович, к чему указы вашего любимого императора привели! Уменьшились суеверия, скажете вы! Так, отвечу вам я, и вера стала слабее. Исчезла боязнь ада. Но и любовь к Господу пошатнулась, к его законам! А нравы людские, потеряв священную опору, стали переходить в разврат! Поглядите, кажется, господин флотский очнулся…
К глазам Дементьева придвинулась чадящая плошка и следом за ней два бородатых лица.
– Кто вы? Где я? – опасливо спросил он.
– Значит, не все мозги отшибли, коли интересуется, кто да где… – удовлетворённо хмыкнул обладатель баса.
Второй бородач ласково сказал:
– В узилище, сыне мой, то бишь в темнице.
– За что? Я офицер, я из экспедиции… – Дементьев приподнялся на локте. Голова была тяжелой, боль разламывала затылок. Свободной рукой он ощупал голову, замотанную какой-то тряпкой. Поморщился и снова опустился на солому.
Первый бородач басом пояснил:
– Этим, милостивый государь мой, всё и объясняется. Начальник тутошний Скорняков-Писарев в разладе с вашими экспедицкими… Он и повелел всех вязать, а вы под горячую руку попались… Разрешите отрекомендоваться: Аврамов Михаил Петров сын, в прошлом иностранной коллегии обер-секретарь и директор Санкт-Петербургской типографии. Газету «Ведомости» когда-нибудь читали? Так её издание мне лично Пётр Алексеевич вверил… А ныне я и отец Варлаам – ваши товарищи по несчастью…
– Славьте Господа, сыне мой, он подарил вам в столь неуютном месте не самое дурное общество… – ласково прибавил отец Варлаам. – А вас как звать-величать?
– Дементьев Авраам Михайлович, флотский мастер, – ответил он и спросил: – Как же вы, господин Аврамов, и вы, святой отец, очутились здесь?
– Долго рассказывать, – усмехнулся Аврамов, – впрочем, нам торопиться некуда…
Расположившись на соломенных тюфяках, Аврамов и отец Варлаам, не спеша поведали Дементьеву свои истории. Из них следовало, что батюшку лишили сана и сослали в Сибирь за то, что не отслужил в своем соборе молебна в день восхождения на престол всемилостивейшей императрицы Анны Иоанновны, а обер-секретарь оказался в Охотске, потому что не поладил с самим Феофаном Прокоповичем в вопросе о введении патриаршества. Очутиться в «тёмной», по словам Аврамова, в Охотском остроге вовсе не трудно: стоит только в чём-то не потрафить здешнему начальнику. И хотя сам он из ссыльных, но лют и пощады не даёт никому.
– Любое дело стоит на пересечении разума и совести. А в остальном, да будет воля Господня… – отец Варлаам перекрестил себя и сотоварищей и добавил: – Страсти сынов Адама от Сатаны происходят, потому и начинаются с буквицы «Слово»: сластолюбие, сребролюбие и славолюбие…
– Но тогда, как понять, ваше преподобие, что и то Слово, что было у Бога, тоже начинается с той же буквицы, что и упомянутые страсти… – хитро подмигнув Дементьеву, ввернул Аврамов.
– А что тут понимать, ваше высокоблагородие? Лукавый когда-то был лучшим учеником Господа. Посему все его думы выведал и ныне пытается перевернуть их на свой лад, используя при этом даже буквы, Всевышним рождённые…
Дементьев обратил внимание на то, что новые знакомые, несмотря на свое нынешнее положение, обращались друг к другу по прежним титулам. Говорили они мудрено и высокопарно.
– Ты, сыне, памятуй, что богатство и тщеславие не приносят пользы. Они проходят, как тень. Награда же праведника – во Господе, попечение о нём у Всевышнего, – изрек отец Варлаам. – Когда идолопоклонство распространилось по всей земле, только праведник Авраам, потомок Сима, остался верен Господу. И ты вовсе не случайно носишь его имя, сыне!
Аврамов, который, как понял Дементьев, на всё имел собственное мнение, тут же заметил:
– Но есть, Авраам Михайлович, и другая пословица: на Бога надейся, а сам не плошай!
Такие разговоры были Дементьеву внове. О Боге он и прежде, конечно, задумывался, но ни с кем о нём не говорил. Как большинство соотечественников, в младенчестве он был крещён и отроком вместе с матерью, пока была жива, посещал воскресные службы, но сказать, чтобы глубоко верил в Создателя, было нельзя. Учение в навигаторской школе и Морской академии и впоследствии служба в Тайной канцелярии не способствовали развитию набожности. И там и тут были соблазны: табак, казённое зелье, сквернословие. В Тайной канцелярии царили жестокость, бессердечие. Сбивали с толку примеры, когда брат доносил на брата, друг предавал друга. До Бога ли тут?
Но Провидение, которое всё устраивало по-своему, помимо воли наводило на мысли о Творце, о его промысле, о том, как жил Дементьев все эти годы, в чём провинился перед Всевышним… Не удивительно ли, что именно бывший начальник Морской академии снова запер его под замок?
Во время своей учебы Дементьев однажды попал в карцер. Правда, тогда с ним рядом были лепшие товарищи-гардемарины Овцын и Гвоздев. И провинность, за которую они подверглись аресту, была пустяковой: подумаешь, ушли с занятий поглядеть, как спускают на соседней верфи на воду новый фрегат…
Но Скорняков-Писарев ввел в академии жесточайшую дисциплину. Буквально дословно воспринял приказ государя, требовавший «для унятия крика и бесчинства выбрать из гвардии отставных добрых солдат и быть им по человеку во всякой каморе, во время учения иметь хлыст в руках; и буде кто из учеников станет бесчинствовать, оных бить, не смотря какой бы фамилии он ни был…»
Для Дементьева с приятелями тогда, по счастью, обошлось без порки, и само недолгое сидение в карцере, к тому же в дружеской компании, не оставило мрачного следа. Напротив, вернулись они в казарму героями, уже испытавшими нечто, что не довелось испытать сверстникам…
Теперь всё иначе – всерьёз. Нет рядом улыбающегося и неунывающего Дмитрия Овцына, рассудительного Михайлы Гвоздева. Дементьеву неведомо даже, выйдет ли он отсюда живым. Что станет с обозом, застрявшим в тайге? Выполнит ли его поручение шкодливый Филька?
– А за что экспедицких-то стали хватать? – поинтересовался он.
– Не знаем, сыне, – ответил отец Варлаам и утешил: – На все воля Божья!
– Бог не выдаст, свинья не съест… – поддержал Аврамов и посоветовал: – А вы молитесь, сударь!
И Дементьев с надеждой на высшую помощь стал ежедневно молиться, сперва неуклюже, потом с нарастающим убежденьем и жаром.
«Отче наш, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое… – отвернувшись к стене, повторял он, осеняя себя щепотью.
…Однообразно тянулись дни в темнице. Остывающее с каждым днем предзимнее солнце почти не заглядывало в небольшое оконце под самым потолком. Дементьев научился распознавать, когда наступает полдень. Ещё до звука шагов угрюмого казака, стерегущего их, знал, что сейчас принесут еду, если таковой можно было назвать отвратительно пахнущее варево, есть которое он поначалу брезговал.
Изо дня в день, в один и тот же час, распахивалась забухшая дверь, обитая полосным железом, казак молча плюхал на пол бадью с едой и удалялся, унося бадью с нечистотами.
Отец Варлаам и Аврамов, перекрестившись, принимались трапезничать. Батюшка читал «Отче наш», а бывший посольский секретарь бормотал:
– Вот уж англичане, на что народец чопорный, так и те твердят: коль приехал в Рим, танцуй, как там танцуют, ешь, что подают…
Глядя, как соседи черпают из бадьи глиняными плошками, как по их отросшим бородам стекают мутные струйки, Дементьев отворачивался, мучимый тошнотой. Но голод не тётка, заставил и его смириться. А когда варево из юколы и диковинных морских водорослей притерпелось, то показалось даже вкусным…
Порой, глядя на угасающее оконце, Дементьев сожалел, что не взял с собой Фильку, – этот пройдоха точно придумал бы, как выбраться из каталажки. Он грезил, как освободится, объявит, кто он такой. Как приедут чины из его «сурьёзного ведомства», как понесет Скорняков-Писарев заслуженную кару…
Мысли о Филькиной предприимчивости пробудили в нем жажду действовать самостоятельно: неужто он хуже собственного слуги – способа спастись не отыщет?
Однажды он попросил Аврамова и отца Варлаама, чтобы они помогли добраться до небольшого оконца, расположенного у самого потолка каземата.
Взобравшись на плечи Аврамова, Дементьев дотянулся до него. Увидел заметенный снегом пустынный двор, часть крепостной стены. Пусто кругом. Лишь крест-накрест проложенные тропинки говорили о том, что жизнь в острожке не угасла. Должно быть, он довольно долго озирал двор, потому что Аврамов закряхтел, давая понять, что пора бы и честь знать.
Дементьев готов был соскочить вниз, да задержался: увидел молодую женщину в короткой меховой шубейке и темной шали, пересекающую двор наискосок. Её задумчивое лицо показалось ему очень красивым и печальным. Аврамов снова требовательно закряхтел. Дементьев отстранился от оконца и хриплым шёпотом взмолился:
– Михайла Петрович, дражайший, ну ещё минуточку …
Он снова выглянул в оконце, но незнакомка уже скрылась из виду.
«Надо было окликнуть её! Человек с таким лицом не может быть злым. Она наверняка помогла бы передать весточку о моем заточении…» – запоздало корил себя он.
Несколько следующих дней Дементьев снова пытался увидеть её, но незнакомка, с которой он, непонятно почему, связал надежду на освобождение, больше не появлялась.
Отец Варлаам назидательно сказал:
– Это тебе, сыне, явился в женском образе Ангел-хранитель. Сей знак очень добрый! Не иначе как услышал Бог твои молитвы…
– Отчего же тогда она больше не приходит? – Дементьева внезапно охватила ипохондрия. «Dead blank» – смертная тоска, как выражался знаток аглицкого Аврамов.
– Верь, и по вере тебе воздастся! За невинного сам Бог заступник! – утешал отец Варлаам, но тоскливые мысли Дементьева от этих слов не рассеялись.
…Пришел декабрь с ветровеями и стужей. Дни скукожились еще более, уступая свое место безлунным ночам. Волчьи песнопения стали продолжительнее и тоскливей. Оголодавшее зверье, казалось, взяло острожек в осаду.
На Анну-зимнюю Дементьев наконец снова увидел ее. Женщина проходила совсем близко от узилища. Случай нельзя было упускать, и Дементьев вскричал во всю мочь:
– Помогите Христа ради!
Женщина остановилась, озираясь.
Дементьев возопил сызнова:
– Я здесь! Помогите, сударыня, Богом прошу!
«Должно быть, вид у меня ужасен», – подумал он, но теперь не до галантности:
– Не пугайтесь меня, – глядя ей в глаза, сказал он с убеждением, какого от себя не ожидал. – Я – офицер флота, моя фамилия Дементьев. За что арестован, ума не приложу. Третий месяц уж томлюсь тут… Прошу вас, сообщите командору Берингу или кому ещё из экспедиции, что я здесь… Сделайте Божье дело…
Женщина растерянно кивнула и удалилась.
Наступила ночь. За ней пришёл новый день, потом ещё ночь, и ещё день, а ничего не происходило. Дементьев уже совсем отчаялся: «Она никому не рассказала обо мне. Да и для чего ей рассказывать? Кто я для нее?..»
На третью ночь за стенами острога внезапно загремели ружейные выстрелы, громыхнула пушка. Раздалось раскатистое «ура», послышался глухой топот пробегающих по двору людей. Раздались шаги в узилище. Загремела тяжелая дверь, и человек с факелом возник на пороге, выкликая его имя.
Дементьев шагнул навстречу, вглядываясь в него.
– Господин Чириков, Алексей Ильич? – неуверенно спросил он.
– А кто же еще! – обрадовался капитан, протягивая ему руку. – Ах ты, Боже мой, Авраам Михайлович, ну и заросли вы, ровно старообрядец! Ежели бы не ваш голос, не признал бы вовек. Ну, пойдемте, пойдемте на волю! Теперь всё позади, мой друг!
Он потянул Дементьева к выходу. Тот удержал его:
– Я тут не один, господин капитан! Со мной батюшка и господин Аврамов… Что с ними будет?
Чириков широко улыбнулся:
– Нынче воля для всех! Пойдемте, господа!
Они вышли во двор. Дементьев полной грудью вдохнул студеный воздух и закашлялся. Чириков накинул ему на плечи свой офицерский плащ, оставшись в форменном кафтане. От него шёл пар, невысокая и даже хрупкая на вид фигура дышала неукротимой энергией.
Во дворе острога, освященном факелами, было многолюдно. Сновали морские служители и гренадеры. У частокола толпились казаки и солдаты из острожка. Перед ними грудой лежали пищали, самопалы, мушкеты, бердыши и сабли.
Из темноты к Дементьеву бросился человек и заблажил:
– Батюшка, родненький барин, Авраам Михайлович! Живой!
– Филька, ты как здесь?! Груз бросил, сбежал, сучий потрох? – совсем не зло воскликнул Дементьев. Он был рад видеть Фильку. И тот почувствовал это, щерился во весь рот.
– Наопако[45], ваше благородие! Вместе с господином Чириковым прибыл намедни в Охотск, – бойко отрапортовал Филька, переводя сияющий взгляд с хозяина на Чирикова и обратно. – Весь груз в целости и сохранности доставил!
Одет денщик был в парусинник – матросский рабочий кафтан, за спиной у него болтался мушкет, сбоку на бандалере – флотской перевязи – висела доходящая до пят кривая казацкая сабля: Аника-воин, да и только.
Чириков похвалил его:
– Исправный слуга, Авраам Михайлович! И на перевале не оплошал, всю поклажу сберег, и здесь первым на штурм кинулся. Я, грит, под ворота петарду суну! Костьми лягу, лишь бы мово барина ослободить… – по-доброму улыбаясь, передразнил Фильку.
Филька от похвалы такого большого начальника и вовсе осмелел, затараторил:
– Я, ваше благородие, вам и место уже в казарме обустроил, ровно в нашей санкт-питербурхской квартере… Отдельное, за занавеской…
– Да погоди ты со своей занавеской! Остынь! – оборвал холопа Дементьев и спросил у Чирикова: – Как же вы меня отыскали, Алексей Ильич?
Чириков весело стал рассказывать:
– Тут история весьма загадочная. Токмо прибыли мы в Охотск, передают мне записку, женской рукой составленную, в коей о вас сказано. Да так толково сказано, что видно, писала письмецо вовсе не простолюдинка. Откуда в здешней глуши взяться даме, умеющей столь изысканно изъясняться, ума не приложу! Откройтесь, кто сия поборница справедливости?
– Самому хотелось бы узнать… – смутился Дементьев. Вроде и не сказал неправду, а покраснел. Благо, что во тьме не видно.
– Ничего, узнаем, – утешил Чириков и продолжал: – Так вот, получил я записку от сей неизвестной благодетельницы и тут же отправился за подмогой к капитану Шпанбергу. И что вы думаете? Он мне отказал. Дескать, у самого людей не осталось – все у Скорнякова-Писарева в яме сидят.
Чириков помрачнел, словно заново переживая неприятный разговор. Махнул рукой, отсекая воспоминания, и уже благодушно сделал вывод:
– Ну да ладно, сами как-то управились. С помощью Божьей.
До Дементьева дошло, что он ещё не поблагодарил своего спасителя.
– Сердечно признателен вам, Алексей Ильич, что не оставили меня в несчастии. По гроб жизни вам обязан. За здравие век молиться буду, – прочувствованно произнес он.
– Полноте, сударь мой, лучше судьбу благодарите, что наш бывший наставник и нынешний охотский командир на ратном поприще оказался не таким удальцом, как на словах. После третьего залпа белый вымпел на башне выкинул и ворота приказал открыть…
– А где он сам?
– Дал деру! Сбежал, аки швед под Полтавой! А ведь когда-то Григорий Григорьевич пресловутого шведа бивал. Посмелей был, помоложе. Думаю, что направился Скорняков-Писарев прямиком в Якутск. Жаловаться станет воеводе, а то и государыне-матушке… Это уж как водится!
– Что же будет с нами, Алексей Ильич?
– Ревизоры разберутся! – Чириков приобнял Дементьева за плечи. – Ябеды – не главное. О главном-то я вам, Авраам Михайлович, сказать не успел: Аниан мы всё-таки обрели!
– Как? Когда? – изумился Дементьев.
– Да оказывается, еще в прошлую экспедицию! Перед самым убытием из Якутска академик Миллер нас всех порадовал – отыскал в воеводской избе сказки атамана Сеньки Дежнёва, что из Лены до самого Ледяного мыса на кочах прошёл и сей мыс обогнул. Поверить трудно: почти сто лет назад! И все это в летописи прописано. Так что сомнений более нет: то место, где проходили мы на «Святом Гаврииле», и есть искомый Аниан!
– Выходит, напраслину тогда на вас в Адмиралтействе возводили?
– Выходит, так, – Чириков помолчал и добавил со значением: – Но и это уже не суть важно, Авраам Михайлович. Перед нами ныне иная цель – Америка!
Часть вторая
НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
Глава первая
Шкурки соболя были великолепны: отливали золотом, искрились на свету, ровно адаманты. А еще – десяток добрых морских бобров, столько же шкур красной лисицы да несколько сиводущатых…[46]
Перебирая эту знатную рухлядь, ясачный сборщик молодой казак Алешка Сорокоумов сделал над собой усилие, чтобы виду не подать, что мех хорош.
Он напустил на себя важный вид, вытащил одну шкурку из кипы, встряхнул несколько раз, осмотрел со всех сторон и с прищуром спросил у набольшего камчадала, что принес ясак:
– Зачем хвост у соболя отрезал, Федька?
Еловский тойон Федька Харчин закрутил головой, мол, не понимаю, чего начальника хочет.
Сорокоумов начал яриться: все понимает бесов сын, но мозги пудрит. Он кликнул толмача, чтобы расталдычил тойону вопрос. Камчадал залопотал по-своему. Харчин что-то ему ответствовал, тыча пальцем то в шкурку, то в землю, то в сторону реки.
Сорокоумов нетерпеливо наблюдал за переговорами, прикидывая в уме, как бы еще сдернуть с неуступчивого тойона бобров да соболей, но уже не в государеву казну, а в собственную мошну.
Наконец Харчин умолк, и толмач, с трудом подбирая слова, перевел:
– Тойона сказал, нада хвоста глина мешать. Глина крепкий горшок делать. Шкурка без хвоста хорошо. Горшок без хвоста совсем плохо.
Сорокоумов сообразил, что волос соболя пошел на изготовление глиняной посуды, для придания ей прочности, но сделал вид, что ничего не понял. Более того, счел, что лучшего момента для получения нового ясака не найти. Он вдруг кинул бесхвостую шкурку себе под ноги и стал топтать ее с остервененьем. Камчадалы растерянно наблюдали за ним. А Сорокоумов высоко по-бабьи заорал, выпучив зенки и разбрызгивая слюну:
– Шкурку бесхвостую, Федька, ты себе в зад заткни! Шкурка такая всё одно што лист подорожника для подтирки!
Подустав драть глотку и сучить ногами, Сорокоумов внезапно остановился, перевел дух и уже без крика приказал толмачу:
– Скажи тойону, што ён мне вместо этой, бесхвостой, ишшо десять соболей должон, а не отдаст к завтрему, я его в яму посажу! А детей его в аманаты заберу, а женку в наложницы…
Тойон на требование начальника ничего не ответил, только слёзы ручейками потекли по лицу. Он повернулся и понуро побрёл прочь.
– Смотри, толмач, чтоб Федька топиться не надумал! – брезгливо скривился Сорокоумов. – Знаю я ваш плаксивый народишко. Чуть што не по вам, зараз рыдаете, аки бабы… А то ишшо руки на себя наложить норовите… Нехристи… Прости мя, Господи!
Он подтолкнул толмача в спину:
– Ступай за им! Смотри, ежли утопнет, сам тады за Федьку мне соболей должон будешь!
Толмач низко поклонился и бросился догонять тойона. Когда они скрылись из виду, Сорокоумов поднял шкурку с земли, стряхнул пыль, ласково погладил серебристый мех, залюбовался: экая красотища. Каждая такая – целое состояние!
Он бережно упаковал шкурку в кипу. Перенёс рухлядь в ясачную избу, уложил на полати. Ещё раз провел рукой по соболям, осклабился, представил, как разбогатеет, как вернётся на матерую землю, заведёт свой дом, хозяйство. Наконец-то сосватает соседскую Устьку, отец которой богатей Козьма Митрофанов никак не хочет родниться с ним, голодранцем. А тады… Устька, уже по закону, дозволит ему делать то, что прежде, страшась отцовского гнева, разрешила токмо однажды, перед самой разлукой, украдкой, на сеновале… Он и сейчас помнит ее белые, точно спелые репы, тяжелые груди с розовыми набухшими сосками, нежные, трепетные под рукой, точно мех соболий. Губы у Устьки прохладные, а дыхание порывистое, горячее, будто только что выскочила она из парной… Все тело ее молодое, манящее, пахнущее сеном…
От сладких воспоминаний у Сорокоумова аж в глазах потемнело, во рту пересохло. Он с трудом сглотнул, прошёл к столу. Плеснул в глиняную кружку казёнки из сулеи, одним махом выпил. Крякнул. Поискал глазами, чем зажевать. Ничего не нашёл. Шумно занюхал рукавом кафтана. Поскрёб грудь грязной пятерней: ах, Устька, Устька! Наполнил кружку, теперь уже до краев, и в три глотка опорожнил. Икнул. Прислушался к себе: не добавить ли? Решил, что хватит: и так захорошело…
Не раздеваясь, не сняв сапог, Сорокоумов бухнулся на лавку и проспал беспробудно до самого вечера, не чуя беды…
Когда круглое, оперённое красным, как бубен шамана, солнце закатилось за Ключевскую сопку, к ясачной избе, осторожно ступая, подошло несколько ительменов, вооружённых копьями и луками. Вел их Федька Харчин.
Беспечно дрыхнувший Сорокоумов не услышал, как тонко вякнула пронзённая копьем собака во дворе, как ительмены подперли дверь избы кольями и стали стаскивать к порогу и к стенам валежник. Двое из воинов с луками наизготовку встали у окон, впрочем, таких узких, что вряд ли через них можно было бы выбраться наружу.
Когда приготовления были закончены, Харчин кресалом выбил огонь в пучок сухого мха, сунутый под хворост. Мох занялся, и вскоре острые языки пламени охватили дверь и стены избы.
Может быть, Сорокоумов и задохнулся бы в дыму, если бы по соседству не заметили пожар. Звук колокола разбудил Сорокоумова.
Очумелый, он не сразу сообразил, что к чему. По полу избы стелился густой, удушливый дым. Снаружи трещало, будто валежник под пятой вставшего после спячки косолапого. Сорокоумов закашлялся. Вскочил и заметался по избе, как нечистый под кропилом. Сначала бросился к двери, торкнулся в неё со всего маху. Только плечо зашиб, а дверь – ни в какую… Кинулся к окошку, но едва высунул в него голову, как совсем рядом впилась в наличник стрела с костяным наконечником. Тотчас звенькнула, отскочив от косяка, вторая. Отпрянув, Сорокоумов заметил чуть поодаль нескольких ительменов, беспристрастно взирающих на пожар. Он разглядел среди них тойона Харчина.
– Заживо меня спалить порешил! Ах ты, курва рыбохвостая, ядрить тя! – в сердцах выругался Сорокоумов и тут же снова закашлялся от едкого дыма.
Огонь был уже в избе, ярился, обступал казака со всех сторон.
Ужас навалился на него, как медведь на зазевавшегося охотника: «Ужели конец! Маманя! – в голос готов был возопить он, и запоздало стал мелко-мелко креститься: – Ма…ма… матушка, Пресвятая Богородица! Спаси и помилуй! Век за тя…»
Икона Заступницы была уже не видна – красный угол объят пламенем. Но молитва неожиданно возымела действие. Сорокоумов внезапно обрёл способность думать. Он уже осмысленней огляделся, ища выход. Наткнулся взглядом на кадку с водой. Кинулся к ней, вылил на себя. Вода была теплой, но ему полегчало.
Сорокоумов вспомнил, что где-то есть потайной лаз на чердак. Одним махом влез на полати, встал сапожищами прямо на бесценную рухлядь: до шкурок ли, когда живот спасать надо! Дыму на полатях было ещё больше, чем внизу. Вывернув мокрую рубаху на голову, он, кашляя, принялся судорожно шарить по потолку. Нащупав крышку, толкнул ее, уцепился за край лаза, подтянулся и одним рывком взобрался наверх.
Огонь пробился и на чердак, и дыму здесь оказалось не меньше, чем в избе.
Сорокоумов на четвереньках подобрался к чердачному окну, вдохнул воздух, бросил быстрый взгляд на двор. В свете пламени, на подступах к избе, он увидел два распластанных тела: лиц не разглядеть… Да и не важно теперь, кто это: казаки или ясашные! Несчастные кинулись тушить пожар, да были убиты. Понял Сорокоумов: попадись он в руки инородцев, и его ждет такая же участь! …
Он торопливо перебрался к задней части чердака, выбил ногой деревянную заслонку и вылез на дымящуюся тесовую крышу. Перекрестившись, прыгнул вниз. Неловко приземлился, но не чувствуя боли, тут же вскочил и, опасливо озираясь на горящую избу, побежал к ближнему лесу.
Ветер выл и стонал. Летний балаган раскачивался, словно утлая лодка на бурунах Большой реки. Ивовые сваи натужно скрипели. Казалось, зыбкое строение не выдержит бурю и вот-вот развалится. Но, непрестанно качаясь, балаган оставался невредимым. Только яростно метались языки костерка в нем, разбрасывая в разные стороны снопы искр.
Подоткнув под себя полы длинной ярко-желтой кухлянки, расшитой белыми волосами с шеи оленя и красными лоскутами кожи нерпы, над огнем склонилась шаманка Афака.
Её длинные седые пряди, заплетённые в десяток косичек, были собраны в одну толстую косу и уложены на темени в виде колпака. Волосы блестели от рыбьего жира и кишели насекомыми. Когда Афака встряхивала головой, крупные, напившиеся крови вши срывались в костёр, сгорали, потрескивая и вспыхивая искорками. Она только что проглотила несколько кусочков свежего мухомора, непривычно рано для месяца кукушки[47] выросшего в ближнем овраге, и теперь дёргалась из стороны в сторону, повторяя движения языков пламени. На тёмных сморщенных ладонях Афака перекатывала горячие, мерцающие синим угли, время от времени дула на них, словно хозяин гор – гамул в жерло вулкана, довольно жмурилась, когда всполохи на углях становились ярче. Когда же они угасали, лицо её искажала гримаса ужаса.
В эти мгновения с губ шаманки срывались резкие звуки. Она бормотала что-то непонятное. Сидящие вокруг очага тойоны затаивали дыхание и напрягали слух, пытаясь угадать, о чем духи говорят с нею.
Движения Афаки с каждым мгновением становились всё быстрее и быстрее, как будто невидимый бубен задавал ей ритм. Её широкоскулое, изрезанное оврагами морщин лицо покрылось потом. Афака резко бросила угли в огонь, воздела худые, жилистые руки к крыше и пронзительно засмеялась. Резко оборвала смех и столь же внезапно исторгла дикий вопль, напоминающий крик раненой болотной выпи. Она скрючилась, распрямилась, упала на спину, вытянулась, как струна, и задрожала всем телом. Жёлто-коричневая пена выступила на губах.
Тойоны напряжённо ждали. Неожиданно Афака заговорила, но не своим низким и скрипучим голосом, а каким-то незнакомым, молодым и звонким:
– Биллукай[48] бросил кита с горы. Далгоаси[49] дал милчен[50] людям Кутки[51]. Милчен заберет к себе милченгата![52]
Афака умолкла. В балагане воцарилась тишина. Лишь свистел ветер за тонкими стенами да скрипели опорные столбы.
Первым заговорил старейший из тойонов Ивар Азидам. Выплюнул жвачку из толчёной ивовой коры и сушеной кетовой икры и сказал:
– Братья, вы слышали слова духов?
– Да, мы слышали слова духов… Мудрые слова… Непонятные слова… – вразнобой отозвались старшины.
– Огонь сделал Огненных людей сильными, – стал толковать услышанное Ивар Азидам. – Он же заберет их силу к себе. Дым унесет Огненных людей к их повелителю. Дети Кутки станут жить, как жили их предки, которые не знали Огненных людей. Нам не нужен повелитель Огненных людей и их бог, живущий за облаком. Наши боги и наши предки живут под землей. Они смотрят на детей Кутки из подземного мира и зовут к себе… Мы пойдем к ним. Но сначала пусть Огненные люди сделаются дымом.
Многие из тойонов согласно кивали, внимая ему. Но, как только Ивар Азидам замолчал, заговорил Федька Харчин:
– Мы слышали слова духов, которые передала Афака. Люди Кутки внимают этим словам. Но твои слова, почтенный Азидам, так не похожи на те, которые ты говорил, когда Огненные люди впервые пришли к нам. Ты велел отпустить пришельцев с миром и дать им соболей больше, чем они просили. Когда твои уста говорили правду?
Ивар Азидам метнул в Харчина взгляд, острый, как костяной наконечник гарпуна, но ответил мягко, будто шкурку постелил:
– Много зим прошло с тех пор, брат. Когда Огненные люди впервые пришли на берег Большой реки, их было меньше, чем пальцев на моей руке, – он выставил вперед левую руку с загнутым большим пальцем.
– Отец рассказывал мне, как это было… – склонил голову Харчин, пряча усмешку: Азидам не показывал свою правую руку, на которой прошлый мороз отгрыз три пальца, когда старейшина пьяным заснул в сугробе.
Ивар Азидам заметил усмешку, но продолжал невозмутимо:
– Их было так мало, а говорили они так смело, требуя платить ясак своему повелителю. Они сказали, что дети Кутки живут на его земле. Мы поверили им. Только могучие и умные люди так могли заставить служить себе огонь. Они привезли нам нужные вещи: иглы, котлы, железные ножи. А соболей в наших лесах было так много, что не стоило из-за нескольких шкурок делать пришлых людей своими врагами. Я решил отпустить их. Мои люди дали им шкур, сколько они могли унести, проводили за реку и сказали больше никогда не возвращаться…
– Но они вернулись! – сказал Харчин с укором.
И тут, перебивая друг друга, заговорили остальные тойоны:
– Казаки отняли у меня дочь!
– Моя вторая жена ушла к Огненным людям и забыла про меня!
– Злой казак забрал у меня сына и сделал его рабом!
– А моего старшего проиграли в кости! Раздели, обмазали рыбьим жиром и бросили голодным псам!
– Огненные люди обманывают нас. Они берут каждый раз по два ясака! Сначала дают табак или иголку в долг, потом забирают всё, что есть. А когда нечего больше взять, бьют палками, как сивучей!
Тойоны вскочили со своих мест, размахивали руками, посылая проклятья казакам.
Их возгласы перекрыл голос Афаки.
Все мигом поутихли и обернулись к ней.
– Дети Кутки сами виноваты в своих бедах, – гневно сказала она, встав во весь рост и сверху вниз глядя на присевших тойонов. – Мужчины перестали быть мужчинами. Они стали рабами своих жен. Ради их прихотей забыли о своих предках. Перестали приносить жертвы духам. Потеряли свою силу. Женщины не любят слабых. Они выбирают новых мужей среди Огненных людей, которые сильнее детей Кутки…
Тойоны опустили глаза и закивали:
– Ты права, мудрая Афака. Мы давно не приносили жертву нашим духам…
– Наши предки жили иначе. Мы потеряли былую силу…
– Так принесите жертву и докажите вашим женам, что вы – мужчины. Пошлите гонцов к нашим сородичам. Пусть все придут к жертвенному огню! Пусть этот огонь запылает ещё до того, как новая луна родится на небе! Огонь заберёт к себе Огненных людей.
…Через половину луны к еловским ительменам присоединились крестовские, каменные и ключевские соплеменники. Военным тойоном выбрали Харчина.
На рассвете ительмены на больших долбленых лодках – батах выступили из Ключей. Продвигаясь вверх по реке Камчатке, к концу летнего месяца Аехтемскакоатч[53] подошли к Нижнему Камчатскому острогу.
Когда стемнело, Харчин направил нескольких соплеменников ко двору иеромонаха Иосифа, стоящему вне острожка, а сам с остальными воинами притаился в лесу.
Вскоре дом Иосифа заполыхал. В острожке ударили в набат. Казаки, не подозревая об опасности, выбежали из крепости без оружия и бросились тушить пожар. Тут по сигналу Харчина на них и набросились ительмены.






