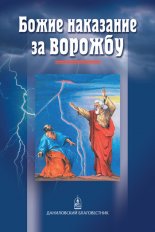Я, Мона Лиза Калогридис Джинн
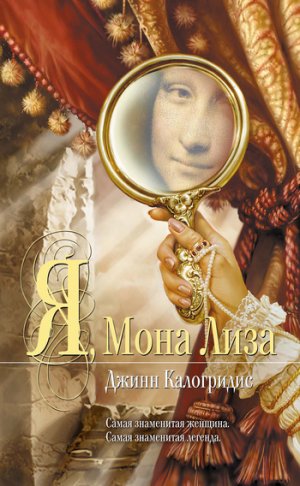
Так я промучилась несколько минут, прежде чем, наконец, увидела Джулиано: он появился из лоджии и пересек двор, направляясь к своей карете. Я распахнула окно и окликнула его.
Он обернулся и посмотрел на меня. Говорить что-то было бесполезно — я бы все равно не услышала, но мне хватило и одного взгляда, чтобы все понять.
Джулиано был расстроен. И все же он протянул ко мне руку, а потом прижал ее к сердцу.
И тогда я совершила невообразимый, неслыханный поступок: подхватив руками юбки, бросилась сломя голову вниз по лестнице, вознамерившись остановить Джулиано, уехать в его карете вместе с ним, покинуть дом, где родилась.
Возможно, мне бы это удалось, но тут из зала, где принимают гостей, вышел отец. Он сразу понял, куда я направляюсь. Встал перед дверью и преградил мне дорогу.
Я подняла обе руки, чтобы ударить его, а может быть, оттолкнуть в сторону. Он схватил мои запястья.
— Лиза, ты сошла с ума? — Он был искренне поражен.
— Пусти меня! — в отчаянии прокричала я, услышав, что карета Джулиано уже катит к воротам.
— Откуда ты знаешь, зачем он приехал? — Его изумление переросло в гнев. — Откуда? Почему вдруг ты решила, что это вовсе не деловой визит? И когда ты успела так им увлечься? Выходит, ты лгала мне, что-то скрывала! Ты хотя бы представляешь, как это опасно?
— А как ты мог отвергнуть его, видя, что мы любим друг друга? Ты ведь любил маму — что бы ты почувствовал, если бы тебе отказали в ее руке? Если бы ее отец отверг твое предложение? Ты не думаешь о моем счастье!
Он не повысил тона, как я, а, наоборот, заговорил тихо:
— Ты не права. Я как раз только и думаю о твоем счастье — потому и отказал ему. — Но тут терпение его покинуло, и он взорвался: — Разве ты не слышишь на улицах, как растет недовольство людей? Семейство Медичи вызвало гнев Бога и флорентийцев. Для меня отдать им родную дочь все равно, что навлечь на нее беду. Приход французского короля, несущего в руке меч Божий, — это лишь вопрос времени. Что тогда будет с Пьеро и его братьями? Ты дважды в день посещаешь со мной мессу. Как же так вышло, что ты не услышала всего, что говорит Савонарола?
— Фра Джироламо ничего не знает, — категорично отрезала я. — Джулиано хороший человек и родился в достойной семье. Когда-нибудь я выйду за него!
И тут отец ударил меня по щеке. Все произошло так быстро, что я даже не заметила, как он поднял руку, но уже в следующую секунду схватилась за горящую щеку.
— Да простит меня Господь, — сказал он, удивившись тому, что сделал, не меньше меня. — Да простит меня Господь, но ты меня вынудила. Как ты можешь заговаривать о браке с одним из Медичи? Неужели ты не слышала, как отзывается о них проповедник? Неужели ты не слышала, что говорят о них люди?
— Слышала, конечно, — ответила я дерзко, — и мне все равно, что подумаешь ты, или фра Джироламо, или вообще кто-нибудь.
— Ты меня пугаешь. — Он потряс головой. — Я боюсь за тебя. По-настоящему боюсь. Сколько мне еще повторять? Ты идешь по опасному пути, Лиза. Как спастись, знает один фра Джироламо. Спасение обретешь только в церкви. — Он прерывисто вздохнул, лицо его выдавало душевные муки. — Я буду за тебя молиться, дитя мое. Что еще я могу сделать?
— Помолись за нас обоих, — злобно бросила я, затем повернулась с важным видом и быстро поднялась по лестнице к себе.
XXXVII
Дзалумме не удалось услышать весь разговор между отцом и Джулиано, но она узнала достаточно: отец отверг предложенные ему земли и десять тысяч флоринов. Когда Джулиано поинтересовался, какое предложение будет принято и чем он может доказать искренность своих намерений, отец ответил:
— Знаете, мессер Джулиано, я ведь последователь фра Джироламо.
— Знаю, — кивнул Джулиано.
— Тогда вы понимаете причины отказа, и почему я никогда не изменю своего мнения по этому вопросу. — С этими словами отец поднялся и объявил, что разговор окончен.
— Но, — призналась мне Дзалумма, — я видела глаза мессера Джулиано, видела, как он стиснул зубы. Он совсем как его дядя. Он ни за что не сдастся, ни за что.
Всю весну и лето во мне жила надежда. Я была уверена, что снова получу от Джулиано весточку.
Эта уверенность была такой сильной, что, когда троюродные братья Пьеро, жаждущие получить награду от Франции, состряпали заговор против правителя Флоренции, я сказала себе, что это самое худшее, что только может случиться. Когда Пьеро, решивший избежать ошибки отца, жестоко расправившегося с семейством Пацци, заточил заговорщиков под домашний арест, чтобы утихомирились все клеветники, я испытала огромное облегчение. Ему удалось избежать кризиса — значит, люди теперь перестанут критиковать каждый шаг Пьеро.
Но Флоренция отличалась пугающим непостоянством. В конце концов, именно этот город когда-то изгнал и Петрарку и Данте, а затем объявил их своими величайшими сыновьями. Пьеро заклеймили как никчемного слабака.
В компании отца и графа Пико, который с каждым днем таял как свеча, я слушала пасхальную проповедь Савонаролы. В ней он заявил, что передал слова Всевышнего, как мог, и что эта проповедь будет последней, пока Господь вновь не призовет его подняться на кафедру. Мне понадобилась вся моя решимость, чтобы удержать радостную улыбку.
— Спешите укрыться в ковчеге Господа, — вещал проповедник. — Ной приглашает вас сегодня, двери открыты нараспашку, но наступит час, когда они закроются, и многие пожалеют, что сразу не вошли.
Я не собиралась ни входить куда-то, ни сожалеть. Я ликовала, что наконец-то избавилась от безумных заявлений фра Джироламо. По-прежнему дважды в день я посещала мессу в сопровождении Дзалуммы и отца, но, к счастью, без елейного Пико. Мы ходили в церковь Санто-Спирито, где была похоронена моя мать, где воспоминания о ней дарили мне покой, где Всевышний был справедливым и любящим божеством, более заинтересованным в спасении душ и утешении болящих, чем в наказании грешников.
Мне не нужен был Бог, чтобы мучиться, мое собственное сердце доставляло мучения. Однажды вечером после ужина, запершись у себя в комнате, я взяла в руку перо матери и написала одну-единственную строку. Подписав послание, я тщательно сложила бумагу и запечатала красным воском. После этого протянула письмо Дзалумме.
Она стояла, сложив руки на груди. Вид у нее был устрашающий. Непослушные черные локоны, обрамлявшие пышным ореолом лицо, отбрасывали при свете свечи зловещую тень.
— Теперь все гораздо сложнее, — сказала она. — Твой отец глаз с меня не спускает.
— Значит, во дворец Медичи может пойти кто-то другой. Мне все равно, как ты передашь письмо. Просто передай.
— Сначала ты должна сказать мне, что в нем. Будь на ее месте другая рабыня, а не Дзалумма, которая так заботливо ухаживала за моей мамой во время ее болезни и стояла рядом со мною у ее смертного одра, я бы сразу напомнила ей, что она проявляет непростительно опасную для рабыни дерзость. Но я лишь покорно вздохнула и произнесла те несколько слов, из-за которых не спала уже много ночей.
— Дай только знак — и я приду к тебе.
Это было не просто скандально, это было чудовищно. Без отцовского согласия не мог состояться ни один настоящий брак. Я рисковала заслужить неодобрение не только всего общества, но и самого Джулиано.
Я сидела и настороженно ждала отповеди.
Ее не последовало. Дзалумма долго смотрела на меня, а потом тихо, но весьма решительно заявила:
— Само собой разумеется, я пойду с тобой.
Потом она взяла письмо и сунула его за пазуху. Я потянулась и пожала ее руку. Мы не улыбались, слишком серьезным делом оказался наш заговор. Если отец впоследствии откажется признать мой совершившийся брак, то я буду считаться просто любовницей.
«Моя дорогая Лиза!
Твое письмо так тронуло меня, что я заплакал. То, что ты ради меня готова пойти на риск вызвать у окружающих неодобрение, заставляет меня стремиться стать мужчиной, достойным тебя.
Но я не могу позволить тебе прийти ко мне сейчас.
Не думай ни одной секунды, что я когда-нибудь откажусь от тебя или нашей любви. Все мои мысли только о тебе. Но ты должна сознавать, что даже простое письмо ко мне ставит тебя под угрозу. И это волнует меня больше, чем разлука, которую мы вы нуждены терпеть.
Ты, несомненно, знаешь о попытке наших братьев Лоренцо и Джованни свергнуть Пьеро. С тех пор наше положение совсем ухудшилось. Не далее как сегодня Пьеро получил письмо от наших послов в Лионе. Карл выслал их, и сейчас они возвращаются в Тоскану. Наши банкиры также изгнаны.
Тебе, наверное, хочется спросить, не угасла ли моя любовь. Никогда! Но мне невыносимо видеть, как ты рискуешь собой. Наберись терпения, любимая. Пусть пройдет время, пусть уляжется конфликт с королем Карлом. Дай мне также время придумать, как уговорить твоего отца. Я не могу просить тебя прийти ко мне при таком несчастливом стечении обстоятельств, хотя в то же время меня глубоко тронула твоя готовность так поступить. Ты сильная женщина. Мой отец очень бы гордился такой невесткой.
Как только я буду, уверен в своей безопасности, я тотчас же пришлю за тобой.
А до тех пор остаюсь твоим верным
Джулиано».
Я не ответила на его письмо, не могла ответить. Что толку было писать о моей боли, разочаровании и даже гневе на него за то, что он тут же не позвал меня к себе? И вообще, какое отношение имела политика к нашей любви?
Конец лета прошел ужасно. Дни стояли душные. По реке Арно плыли стаи мертвых рыб, сверкая серебристой чешуей на солнце, запах гнили пропитал весь город. Это запах смерти, заявляли верующие, смерти, марширующей на юг через Альпы. Несмотря на молчание проповедника, все больше и больше горожан, даже представителей знати, проникались его учением и отказывались от красивых нарядов. По улицам ходили люди, одетые только в черное или темно-серое, синее или коричневое, и нигде нельзя было встретить других красок — ни ярких оттенков голубого, зеленого и красного, ни жизнерадостного оранжевого, ни насыщенного алого.
«Ступайте в ковчег… Cito! Cito!»
Страх охватил все общество. Растерявшись без Савонаролы, который рассказывал, что думает Господь, люди испуганно перешептывались о знаках и знамениях: о том, что над Ареццо в небе проплыли облака в виде всадников, занесших над головами мечи; о монахине в Санта-Мария Новелла, которую во время мессы посетило видение — огненно-красный бык бодал церковные стены; об ужасной буре, случившейся в Пулье, когда черноту разрывали ослепительные молнии, осветившие не одно, а сразу три солнца, зависшие в небе.
Мой отец, видимо, забыл и о предложении Джулиано, и о том, что пора меня сосватать за кого-нибудь из «плакс». Он был удручен и расстроен больше обычного. По словам Дзалуммы, Медичи отказались покупать у него шерсть, разорвав деловые отношения, установившиеся во времена Козимо де Медичи и моего прадеда. Торговля шла плохо: «плаксы» познатнее все еще покупали шерстяные ткани, но отец больше не мог продать ткань ярких расцветок, да и неяркие ткани оказалось сбывать гораздо труднее, ведь люди неохотно тратили деньги на обновление гардероба в такое неспокойное время.
Но отца беспокоило что-то другое, о чем я никак не могла догадаться, как ни старалась. Ранним утром он отправлялся на мессу в Санто-Спирито, откуда сразу ехал к себе в лавку и дома появлялся только вечером. Я не сомневалась, что дневную службу он посещает в Дуомо или Сан-Марко, где, скорее всего, встречается со своим другом Пико. Однако он ни разу об этом не заговорил, а возвращаясь домой поздно, ужинал с мессером Джованни, уже не требуя от меня, чтобы я исполняла за столом роль хозяйки.
В августе король Карл собрал свои войска и пересек Альпы; Кир-завоеватель начал свой безжалостный поход на Тоскану. «Что намерен делать Пьеро де Медичи, чтобы помочь нам?» — хотели знать люди. Отец неодобрительно хмыкал. «Он занят лишь развлечениями и женщинами. Подобно Нерону, музицирует, когда Рим охвачен пожаром».
В сентябре возросла массовая истерия: городок восточного побережья, Рапалло, к югу от Турина и Милана, пострадал от наемников, которые пришли вместе с французами. Эти солдаты, не шли ни в какое сравнение с нашими итальянскими кондотьерами, которые хоть и грабили, и вытаптывали поля, но никого не убивали. Нет, этих наемников набрали из свирепых швейцарцев, которым мало было награбленного: они жаждали крови. И кровь лилась рекой, они расправлялись со всеми подряд, не оставляя ни одной живой души. Протыкали копьями младенцев, сосущих материнскую грудь, сдирали заживо кожу с женщин на сносях. Отрубали головы, руки и ноги. Рапалло превратился в мрачное кладбище с горами гниющих на солнце непогребенных тел.
А мы все во Флоренции с ума сходили от ужаса. Даже отец, прежде так стремившийся встретить конец света, был напуган. Народ искал утешения, но не у Пьеро де Медичи и не у флорентийских приоров, а у одного-единственного человека, который теперь держал в ладони сердце города, — у настоятеля Сан-Марко, Савонаролы. Столь громок был людской ропот, что фра Джироламо нарушил возложенный на самого себя обет молчания и согласился прочитать проповедь в День святого Матфея в огромном Дуомо.
Зная, сколь велики будут толпы, мы подъехали к Соборной площади на рассвете, когда солнце едва появилось над горизонтом, не успев рассеять мглу. Небо затянуло красноватыми облаками, обещавшими пролиться дождем.
Церковные ступени, сад, сама площадь были наводнены столь огромным количеством народа, что наш возница даже не смог въехать на площадь. Дзалумма, отец и я были вынуждены выйти из кареты и пробираться к собору пешком.
Здесь уже никто не думал о христианском милосердии. Отец, отличавшийся физической силой, решительно, даже грубо расталкивал всех в толпе, давая возможность нам с Дзалуммой идти за ним следом.
До церкви мы добирались чуть ли не целый час. Но как только отца узнали, с нами стали обращаться почтительно: остаток пути мы проделали с монахами-доминиканцами, проводившими нас до самой кафедры. Несмотря на огромное число собравшихся, скамьи из церкви не вынесли и держали для нас свободные места.
Там нас и поджидал граф Джованни Пико. Его вид меня потряс. Последние несколько месяцев он являлся в наш дом почти каждый вечер, но я ни разу не спускалась вниз, чтобы хотя бы взглянуть на него. Теперь я увидела, как он сильно постарел и исхудал. Тяжело опираясь на трость, он попытался подняться при нашем появлении, но из-за сильной дрожи в руках и ногах не смог этого сделать и оставил все попытки. Отец опустился на скамью рядом с ним, и они тотчас начали что-то тихо обсуждать. Глядя на них, я заметила за их спинами знакомую фигуру — это был Микеланджело, одетый во все черное, что безошибочно указывало на его теперешнюю принадлежность к «плаксам». Заметив меня, он опустил голову, словно смутился.
Не могу сказать, как долго мы ждали начала мессы; знаю только, что прошло много времени, пока я молилась за Джулиано. За его жизнь я боялась гораздо больше, чем за собственную.
Наконец запели гимн. Запахло ладаном. Прихожане, хор и даже священник — все, казалось, оцепенели. Мы совершили обычный ритуал равнодушно, машинально бормотали ответы, не слыша их, не вдумываясь в их смысл. Присутствующие были сосредоточены на одном — на появлении пророка.
Даже я, грешница, скептик, поклонница Медичи и языческого искусства, не смогла сопротивляться охватившему всех мучительному ожиданию. Когда проповедник наконец поднялся по ступеням на кафедру, я, как и Пико, и мой отец, как Дзалумма и каждый прихожанин в соборе, включая священника, перестала дышать. Молчание в ту минуту было поразительным — ведь больше тысячи душ теснилось в соборе, а еще несколько тысяч стояли на ступенях и на площади снаружи, но единственным звуком в ту секунду, когда Савонарола оглядывал собравшихся, был далекий раскат грома.
После нескольких месяцев затворничества и поста фра Джироламо выглядел мертвенно-бледным, его скулы пугающе выступали на лице. В этот день его широко распахнутые глаза не светились уверенностью и праведностью — в них читалась только взволнованность и печаль; его выпиравшая нижняя губа дрожала, словно он с трудом сдерживал слезы. Плечи его поникли, он в отчаянии вцепился в края аналоя, будто был не в силах удерживать огромный груз.
То, что он собирался произнести, было для него непосильным бременем. Он запустил костлявые пальцы в нечесаную черную шевелюру, крепко дернул себя за волосы и застонал.
Наступила долгая пронзительная тишина. В прошлый раз проповедник рассказал нам историю Ноя и призвал войти в Божий ковчег, чтобы скрыться от надвигающегося потопа. Что теперь он скажет?
Наконец он открыл рот и душераздирающе завизжал:
— Ессе ego adducam aquas super terram! Смотрите, я низвергаю водные потоки на землю![14]
Под церковными сводами разнеслось эхо криков. Сидевшие вокруг нас мужчины и женщины начали терять сознание, соскальзывая на пол. Дзалумма потянулась к моей руке и крепко ее сжала, нарочно причинив мне боль, чтобы я пришла в себя. Она хотела сказать: «Не поддавайся этому безумию».
А справа отец и Пико начали рыдать: отец — беззвучно, Пико — громко всхлипывая. Они были не одиноки, вскоре весь собор наполнился воем с жалобными взываниями к Всевышнему.
Даже пророк больше не смог сдерживаться. Он закрыл безобразное лицо руками и разрыдался, горестно вздрагивая всем телом.
Прошло несколько минут, прежде чем фра Джироламо и его прихожане смогли взять себя в руки. Что Савонарола говорил затем, я не помню. Знаю только, что впервые ко мне пришло сознание того, что прежняя Флоренция, какой я ее помнила, может исчезнуть, а вместе с ней и Джулиано.
XXXVIII
Той ночью, когда я, в конце концов, сумела заснуть, мне приснилось, будто я стою в базилике Сан-Марко, возле алтаря, где похоронен Козимо. Вокруг меня толпятся люди, им до безумия хочется послушать пророка, они прижимаются ко мне разгоряченными, потными телами — все сильнее и сильнее — так, что я уже не могу дышать.
Среди всей этой сутолоки я вдруг начинаю сознавать, что огромная туша, привалившаяся ко мне слева, — не кто иной, как фра Доменико. Я пытаюсь отстраниться с отвращением и ненавистью, но безликие тела еще сильнее принимаются толкаться, и я уже не могу шевельнуть ни рукой ни ногой.
— Отпустите его! — кричу я, сама не ожидая этого от себя и не понимая собственных слов. Их смысл доходит до меня только позже, когда я замечаю своего Джулиано, перекинутого через широкую спину монаха, его голова болтается где-то у колен Доменико, лица я не вижу.
Терзаемая ужасом, теряя силы под напором толпы, я вновь кричу, обращаясь к фра Доменико:
— Отпустите его!
Но монах-здоровяк, кажется, глух и нем. Он смотрит прямо перед собой, на кафедру проповедника, а Джулиано, все еще вися вниз головой, поднимает ко мне лицо с горящими щеками.
— Все повторяется, Лиза, разве ты не видишь? — Он ободряюще улыбается. — Все повторяется.
Я очнулась в холодном поту, под причитания Дзалуммы, стоявшей надо мной. Видимо, я кричала во сне.
С этой минуты я почувствовала себя как Савл в Дамаске: чешуя спала с моих глаз[15], и я больше не могла притворяться, что ничего не вижу. Положение Джулиано и его семьи было в высшей степени шатким.
Флоренция находилась на краю пропасти, и я с нетерпением ожидала, когда же начнутся перемены к лучшему, понимая, что их вообще может не быть.
Как только чуть рассвело, я написала еще одно письмо, тоже состоящее из одной-единственной строки.
«Назначь место и время — если только ты от меня не отказался. В любом случае я скоро к тебе приду».
На этот раз я даже Дзалумме не открыла его содержание.
Прошла неделя. Отец, с удовольствием сообщавший мне о всех промахах Пьеро де Медичи, принес свежую новость: в наш город прибыл один из посланников Карла и потребовал от синьории, чтобы та позволила французскому королю свободно проехать через Флоренцию. Ответ ожидался немедленно, так как король уже был на подходе.
Но синьории нечего было сказать — ее члены были обязаны вначале получить положительный или отрицательный ответ от Пьеро, а тот, под напором противоречивых советов, не сумел сразу ответить.
Возмущенный посланник уехал ни с чем. Не прошло и дня, как из Франции изгнали всех флорентийских купцов. Сразу закрылись все лавки на виа Маджио, торговавшие только французскими товарами.
— Людям нечем кормить свои семьи, — заявил отец.
И в самом деле, с тех пор как дела отца пошли плохо, мы были вынуждены жить на скудном рационе, отказавшись от мяса. Его рабочие — стригали, чесальщики и ворсильщики, прядильщики и красильщики — уже голодали.
И во всем был виноват Пьеро де Медичи. Опасаясь восстания, он удвоил количество стражников, которые несли караул у здания правительства, Дворца синьории, а также защищали его собственный дом.
Я терпеливо выслушивала сетования отца, недовольства домашних слуг и оставалась равнодушной.
Даже Дзалумма однажды, внимательно взглянув на меня, сказала:
— Сейчас такое время, что небезопасно считаться другом Медичи.
Мне было все равно. У меня созрел план, и в скором времени он должен был осуществиться.
XXXIX
В конце октября Пьеро, перестав, наконец, слушать своих советников, отправился на три дня на север в сопровождении всего нескольких друзей. Он держал путь в крепость Сарцану, где остановился Карл со своей армией. Вдохновленный примером покойного Лоренцо, который однажды в одиночку отправился к королю Фердинанду и только своим обаянием сумел отвратить войну от Неаполя, Пьеро надеялся, что его храбрый поступок подобным образом спасет Флоренцию от судьбы Рапалло.
С отъездом Пьеро синьория почувствовала свободу, и начала высказываться против правителя Флоренции еще более открыто. На север за Пьеро последовали семеро лазутчиков, с поручением догнать его и следить за каждым шагом. Им также были даны инструкции сообщить королю Карлу, что Флоренция готова приветствовать французов, что бы там ни говорил Пьеро.
К четвертому ноября каждый житель знал, что Пьеро без особых уговоров передал Карлу крепости Сарцану, Пьетро-Санта и Сарцанелла. Отец пришел в ярость.
— Сотня лет! — бушевал он, ударив кулаком по столу так, что зазвенели тарелки. — Сотня лет нам понадобилась, чтобы завоевать те земли, которые он потерял за один день!
Синьория гневалась не меньше. За тем же ужином я узнала, что Пьеро должен поручить небольшой группе посланников встретить Карла в Пизе. Пьеро среди них не будет, зато будет фра Джироламо Савонарола.
От таких новостей у меня закружилась голова, но я была тверда в своем решении и не изменила плана.
Восьмого ноября я выехала из дома одна, не взяв с собой Дзалумму под выдуманным предлогом ее нездоровья. Отец, как все добропорядочные флорентийцы, по субботам с утра посещал городские бани.
Возница отвез меня на другой берег Арно по древнему Понте Веккио. Некоторые лавки были закрыты из-за французских запретов, зато другие гордо выставили свои товары, несмотря на неминуемое вторжение. На мосту было полно всадников, пеших и карет вроде моей.
Наконец мы приехали на рынок, по четырем сторонам которого стояли церкви, — на рыночной площади было не так людно, как обычно, но все же жизнь бурлила. Оранжевый кирпичный купол Брунеллески завис в небе рядом с башней Дворца синьории. По площади кружили домохозяйки со служанками и мужчины, явившиеся сюда побриться. На мне было простое темное платье, на шее — топаз. А за лифом я припрятала на счастье золотые медальоны. Я несла с собой корзину, которую Дзалумма всегда вешала на руку; в этот день я выстлала дно тканью.
Я шла среди брадобреев с их блестящими бритвами и чанами, полными пиявок, аптекарей, торговавших порошками и мазями, зеленщиков, нараспев предлагавших свежий товар, булочников с их корзинами теплого ароматного хлеба…
А впереди уже виднелась мясная лавка, над дверью которой висели вниз головой ощипанные куры и освежеванные кроличьи тушки.
Ни разу это знакомое место не казалось мне таким странным.
Прежде чем выйти из кареты, я сказала вознице, что собираюсь зайти к мяснику, хотя мы уже несколько недель не заглядывали в его лавку, и велела ждать меня возле прилавков с зеленью. Возница остановил лошадей и даже не взглянул в мою сторону, когда я выбралась из кареты и направилась к мясной лавке, которая, так уж случилось, была не видна с его места.
Как все просто оказалось — так быстро, так легко и так страшно. Мясник был хорошим человеком, богобоязненным, но времена выдались трудные, и у него тоже была своя цена, пусть даже он и заподозрил источник, откуда ему достался кошелек золотых флоринов.
Когда я подошла, он о чем-то весело беседовал с молодой женщиной, которую я часто встречала на рынке, хотя мы и не были официально знакомы. Ее милое лицо залилось румянцем, когда она поднесла ладошку ко рту, пытаясь скрыть отсутствие переднего зуба.
Заметив меня, мясник перестал улыбаться и быстро завернул в тряпицу толстый бычий хвост.
— Приятного аппетита, монна Беатриче. Пусть это мясо пойдет на пользу вашему мужу. Храни вас Господь! — Он повернулся к другой покупательнице. — Монна Чечелия, простите, но у меня сейчас срочное дело. Вас обслужит Раффаэле…
Его сын отложил в сторону тесак и вышел вперед, чтобы обслужить покупательницу, а мясник тем временем произнес гораздо громче, чем следовало бы:
— Монна Лиза, в лавке у меня хранится несколько кусков превосходного жаркого. Вы можете выбрать. Прошу вас…
Он повел меня за тряпичную занавеску, запятнанную коричневыми отпечатками рук, в глубину лавки. К счастью, там было темно, поэтому я не могла разглядеть развешанные туши, но слышала кудахтанье кур в клетках, а запах крови и помета был настолько силен, что пришлось заткнуть нос.
До выхода было несколько шагов. Оказавшись на солнце, я увидела, что подол моих юбок пропитался кровью, она вытекала по теплым плитам из лавки. Но я не успела, как следует расстроиться, сразу увидев неподалеку поджидавшую карету — черную, без каких-либо гербов на дверцах. Но я все равно узнала возницу, который приветливо улыбался мне.
Несколько шагов, отделявших меня от кареты, показались бесконечно долгими. Я почему-то была уверена, что обязательно поскользнусь и упаду. Тем не менее, я благополучно добралась до экипажа. Дверца раскрылась, и благодаря чуду, волшебству я оказалась внутри, рядом с Джулиано, швырнув корзинку под ноги.
Возница прикрикнул на лошадей, колеса заскрипели, и мы с грохотом поехали на хорошей скорости, уносясь от мясника, от ожидавшей меня кареты, от моего отца и родного дома.
Джулиано был великолепен, идеален, как на картине. На нем была праздничная безрукавка из алого бархата, вышитая золотой нитью, у горла поблескивал огромный рубин. Мой любимый смотрел на меня во все глаза, словно на какое-то экзотическое, невероятное создание, хотя в ту минуту волосы у меня ниспадали на плечи под прозрачной черной вуалью и на мне было простое темное платье с выпачканным кровью подолом.
Я заговорила, захлебываясь словами, голос мой дрожал.
— У меня, конечно, есть платье. Как только все будет кончено, я пошлю за своей служанкой. Она сейчас как раз собирает мои вещи…
И все это время я думала: «Лиза, ты сошла с ума. Сейчас появится отец и положит этому конец. Пьеро возвратится домой и вышвырнет тебя из дворца».
Я могла бы и дальше трещать как сорока, но Джулиано обнял меня и поцеловал.
Меня захватило неведомое чувство, внутри разлилось тепло. Топаз, впервые подвергшийся испытанию, оказался бесполезным. Я ответила на поцелуй с не меньшим пылом, и к тому времени, когда мы прибыли во дворец, наши прически и наряды были в беспорядке.
XL
Будь моя жизнь такой же, как у остальных девушек, о моем браке договорился бы посредник, скорее всего, сам Лоренцо. Отец заплатил бы, по крайней мере, пять тысяч флоринов, о чем была бы сделана запись в городском реестре, иначе союз не считался бы законным.
После объявления помолвки мой жених устроил бы завтрак, на котором в присутствии родственников и друзей преподнес бы мне кольцо.
В день свадьбы на мне было бы ослепительное платье, сшитое, как требовал того обычай, по рисунку самого Джулиано. Я бы проехала на белом коне в сопровождении пеших родственниц по мосту Санта-Тринита, оттуда на виа Ларга до самого дворца Медичи. Перед моим новым жилищем прямо на улице растянули бы гирлянду цветов, через которую я не осмелилась бы переступить до тех пор, пока мой будущий муж самолично ее не разорвет.
Оттуда мы бы двинулись в церковь. После церемонии я бы вернулась пешком в отцовский дом и провела ночь одна. Только на следующий день, после роскошного пиршества, брак считался бы состоявшимся.
Но у меня не было посредника. Лоренцо умер, а я так и не узнала, кто, по его мнению, подходит мне в мужья. Была только наша с Джулиано обоюдная решимость и желание.
Что касается приданого, то Лоренцо, а не мой отец заплатил его давным-давно, хотя Джулиано благодаря своим связям сделал так, что запись в реестре гласила, будто сумма поступила от Антонио ди ГерарДини. Я не сомневалась, что, когда отец узнает об обмане, он тут же велит вычеркнуть запись из реестра.
Фасон платья я придумала сама, это в нем я посетила три года назад дворец Медичи: платье с юбками из синего бархата с зеленым отливом и атласным узором плюща и лифом из той же ткани со светло-зелеными вставками из дамаста. С тех пор я подросла, и мы с Дзалуммой тайком перешивали платье, лихорадочно удлиняя юбку, рукава и расширяя лиф, который должен был облегать уже не девичий, а женский торс.
И на белом коне я никуда не поехала, и не сопровождали меня никакие родственницы — рядом не было даже Дзалуммы, которая лучше всех знала, как меня успокоить. В гостевой спальне мне помогла переодеться домашняя прислуга Джулиано, которую звали Лаура, добрая женщина года на два старше меня. Я стояла под портретом молодой Клариче де Медичи, изображенной с кислым лицом, в переднике и темном платье, по сравнению с которым мое платье смотрелось по-королевски. Я настояла на том, чтобы оставить золотые медальоны Лоренцо у самого сердца.
Пока служанка продергивала сквозь прорези рукава рубашки, стараясь одинаково расправить их, я внимательно изучала строгое лицо Клариче.
— Это были ее покои?
Лаура бросила взгляд на портрет.
— Да, мадонна. Теперь здесь располагается мадонна Альфонсина. Она уехала на несколько дней на виллу Поджио а Кайано. Подозреваю, мессер Джулиано не станет делиться с ней новостью до ее приезда.
У меня все внутри затрепетало, я хорошо представляла ее реакцию.
— А другие?
— Мессер Пьеро уехал в Сарцану, это вы знаете… — Я кивнула, и она продолжила: — Тут вам не о чем беспокоиться, он полон сочувствия. Есть еще его святейшество, кардинал Джованни. Он уехал на мессу, а потом по делам. Он ни о чем не догадывается, и, как мне кажется, мессер Джулиано не намерен посвящать его в свои дела, если только не возникнет необходимости.
Она взяла в руки чудесный гребень, принадлежавший, как я решила, моей будущей невестке.
— Просто расчешем?
Я кивнула. Если бы в то утро я попыталась соорудить какую-нибудь сложную прическу, отец или кто-нибудь из слуг наверняка обратил бы на это внимание. Поэтому я причесалась, как обычно, распустив волосы по плечам, как подобало незамужней девушке. Теперь Лаура просто закрепила у меня на голове парчовую шапочку, которую я привезла с собой. В качестве последнего штриха я надела мамино ожерелье из мелкого жемчуга с большой аквамариновой подвеской.
Было трудно, притрагиваясь к нему, не думать о маме, о том, как по-глупому она вышла замуж, какую несчастливую жизнь прожила и как умерла.
— Не грустите! — Лаура ласково коснулась моего локтя. — Мадонна, вы выходите замуж за благороднейшего человека, обладающего лучшим умом во всей Тоскане. Сейчас трудные времена, но, поскольку рядом с вами будет мессер Джулиано, вам нечего бояться. Возьмите. — Она протянула мне изумительное зеркало в тяжелой резной оправе, усыпанной бриллиантами. — Вот, что увидит ваш муж, когда вы пойдете к нему. Более прекрасного зрелища не найти.
Я вернула ей зеркало, едва в него взглянув. То, что я увидела, не доставило мне удовольствия. Наоборот, меня посетила нелепая мысль, что цвета моего платья никак не сочетаются с костюмом Джулиано, алым с золотом.
Решив, что с моим нарядом покончено, я шагнула к двери. Лаура тотчас меня остановила:
— Еще не все!
Подойдя к шкафу, она вынула длинную вуаль — белоснежную, прозрачную, с вышитыми золотой нитью единорогами и волшебными садами. Эту вуаль она почтительно водрузила мне на голову, закрыв лицо. Окружающий мир сразу стал мутным и блестящим.
— Ее надевала мадонна Клариче, когда выходила за мессера Лоренцо, — сказала служанка, — и Альфонсина, когда выходила за Пьеро. Джулиано заранее побеспокоился, чтобы священник вновь освятил ее, специально для вас. — Она улыбнулась. — Вот теперь вы готовы.
Лаура повела меня на первый этаж, в личную часовню Медичи. Я ожидала увидеть знакомое лицо у дверей, но коридор оказался пуст. От волнения я почувствовала себя плохо и в панике повернулась к служанке.
— Моя рабыня… Дзалумма… — пролепетала я. — Она давно должна была приехать с моими вещами. Джулиано собирался послать за ней экипаж.
— Мне узнать, есть ли новости о ней, мадонна?
— Да, прошу вас, — ответила я.
Я уже приняла решение и не собиралась от него отступать. Но отсутствие Дзалуммы сильно встревожило меня. Я рассчитывала, что она будет прислуживать мне на свадьбе, точно так же, как прислуживала моей матери, когда та выходила замуж.
Лаура ушла выяснять, что случилось с моей служанкой. Когда она вернулась через несколько минут, по ее лицу я поняла, что меня ждут не самые приятные новости.
— Пока ничего не известно, мадонна. Экипаж еще не вернулся.
Я сжала пальцами виски.
— Больше ждать я не могу.
— Тогда позвольте мне занять ее место, — сказала Лаура, стараясь меня успокоить. — Во всем доме никто так по-доброму не относится ко мне, как мессер Джулиано. Для меня было бы большой честью прислуживать его невесте.
Я набрала в легкие воздуха и кивнула. Ситуация требовала, чтобы свадьба состоялась как можно быстрее, пока все не раскрылось.
Лаура открыла дверь в часовню, и я увидела Джулиано, ожидавшего вместе со священником у алтаря. Рядом с ними стоял скульптор Микеланджело — это явилось для меня сюрпризом, так как ходили слухи, что он рассорился с Пьеро и уехал еще месяц назад в Венецию. Его присутствие вызвало во мне трепет. Мало того что Пико принимали в доме Медичи как дорогого гостя, так тут еще один избранный Савонаролы, прямо на моей собственной свадьбе.
Но стоило мне взглянуть на моего будущего мужа, как все неприятные чувства улетучились. Джулиано поднял на меня глаза, и я прочла в них радость, желание и трепет. Даже у священника, державшего небольшой томик, дрожали руки. Увидев, что оба скованы ужасом, я перестала бояться и совершенно спокойно приблизилась к алтарю. Лаура несла за мной шлейф, а я тем временем позволила себе полюбоваться великолепием часовни. Над алтарем была написана фреска, изображавшая младенца Христа с Мадонной в окружении ангелов — очень тонкая работа. На стене слева находилась фреска, выполненная более яркими красками и в грубоватой манере — процессия волхвов, направлявшихся к младенцу.
Ближайший ко мне волхв, молодой человек, одетый по флорентийской моде, сидел на белом коне, укрытом красной с золотом попоной. За ним следовали другие всадники с узнаваемыми лицами: старик Пьеро де Медичи и два его юных сына — Лоренцо, такой же некрасивый, как в жизни, хотя и был изображен в пору юности, и красавчик Джулиано. Лоренцо устремил взгляд на святого младенца, а его брат смотрел со стены куда-то вдаль с несвойственным ему серьезным выражением лица.
В углу я узнала весьма похожий образ Джованни Пико, что отнюдь не принесло мне утешения.
Хотя время приближалось к полудню, внутри часовни стоял мрак. Горели свечи, отбрасывая блики на золотые настенные узоры в виде листьев, высвечивая поразительные краски: розовый и коралловый, бирюзовый и зеленый, какими были выписаны крылья у ангелов и птиц, ослепительно белые и синие цвета небес, темную зелень холмов и деревьев.
— Остановитесь, мадонна!
Служанка позади меня замерла. Я отвлеклась от фресок и смущенно огляделась. Но только когда священник жестом показал на пол, я взглянула себе под ноги и увидела пересекавшую пол гирлянду из высушенных роз и диких цветов.
Джулиано опустился на колено и рывком разорвал гирлянду.
Этим он меня окончательно победил. Поднявшись, Джулиано взял меня за руку и подвел к алтарю. Несмотря на волнение и молодость, он отлично держался и повернулся к Микеланджело с уверенностью человека, привыкшего повелевать.
— Кольцо, — произнес он.
Пусть он не сумел добиться пышной свадьбы в огромном соборе, заполненном людьми, не было у меня ни нового платья, ни отцовского благословения, зато он дал мне то, что смог.
Микеланджело передал Джулиано что-то на ладони. Эти двое заговорщиков общались с той легкостью, какая существует только между близкими друзьями, почти братьями, которые некогда были преданы одному и тому же делу и хранили одни и те же тайны. Это открытие тоже меня взволновало.
Джулиано надел мне на палец кольцо — тоненький золотой обруч, как требовало того городское предписание. Кольцо оказалось велико, поэтому, чтобы я его не потеряла, жениху пришлось держать мои пальцы в своих, после чего он прошептал мне на ухо:
— Ручки у тебя еще тоньше, чем я думал. Ничего, мы его переделаем.
Он кивнул священнику, и церемония началась.
Я мало что запомнила — только то, что Джулиано отвечал священнику громким голосом, а мне пришлось прокашляться и повторить слова клятвы, чтобы быть услышанной. Потом мы опустились на колени перед деревянным алтарем, где когда-то молились Козимо, Пьеро, Лоренцо и старший Джулиано. И я тоже помолилась, но попросила не о счастье для себя и мужа, а о благополучии Джулиано и всего семейства Медичи.
Затем церемония закончилась. Я стала замужней женщиной — при странных обстоятельствах, в глазах Господа по крайней мере, если не в глазах моего отца и всей Флоренции.
XLI
Наша небольшая свадебная процессия перешла в покои Лоренцо, ту самую комнату, где три года тому назад Великолепный позволил мне дотронуться до чаши Клеопатры. Этот бриллиант коллекции древностей теперь исчез, как, впрочем, и золотые статуэтки, и витрины с монетами и драгоценными камнями. Остался один только шкаф с инталиями и камеями, да картины по-прежнему висели на стенах, и вино нам наливали в инкрустированные золотом бокалы из полудрагоценных камней.
В углу комнаты двое музыкантов играли на лютнях; на столе, убранном цветами, стояли блюда с фигами, сыром, миндалем и роскошной выпечкой. Лаура поднесла мне тарелку, но я не могла проглотить ни крошки, зато впервые в жизни выпила неразбавленного вина.
Я снова попросила Лауру выяснить, не появилась ли Дзалумма. Служанка ушла, и я осталась на весьма скромном празднике, где нас и было-то всего трое — мы с мужем да Микеланджело; священник ушел раньше.
Когда Джулиано толкнул Микеланджело в бок, тот неловко поднял бокал, из которого так и не успел отпить, и сказал:
— За жениха и невесту. Пусть Господь дарует вам сотню здоровых сыновей.
Скульптор смущенно улыбнулся, взглянув на меня, едва пригубил вино и отставил бокал. Я тоже сделала большой глоток. Терпкое вино теплом разлилось по жилам.
— Покидаю счастливую пару, — произнес Микеланджело и с поклоном удалился, явно торопясь избавиться от светских обязанностей.
Как только он ушел, я повернулась к Джулиано.
— Я его боюсь.
— Кого? Микелетто? Да ты шутишь! — Мой юный муж улыбался. Он успел совладать со своими нервами и теперь очень старался показаться спокойным. — Нас воспитывали как братьев!
— Именно это меня и беспокоит, — сказала я. — Он опасен для тебя. Ты ведь знаешь, отец заставляет меня… заставлял… посещать проповеди фра Джироламо. И почти на каждой я видела скульптора. Он один из «плакс».
Джулиано потупился, став на секунду задумчивым.
— Один из «плакс»…— повторил он. — Позволь тебя кое о чем спросить: если бы тебе угрожали «плаксы», как бы ты постаралась защититься от них?
— Вызвала бы стражу, — ответила я. Выпив больше обычного, я почувствовала, что не способна ясно мыслить.
У Джулиано дрогнули губы.