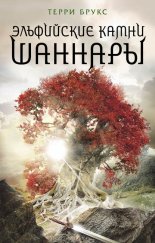Серп демонов и молот ведьм Шибаев Владимир

– Это она ваша, тетя эта? – паренек осторожно указал пальцем на сеновал.
– Знакомая, – поперхнулся газетчик. – Хорошая знакомая.
– Хорошая… – согласился мальчик. – Дядя Алексей… ее бережете?
– Стараюсь…
– И бережите, – посоветовал паренек, – как меня черная коза не отдает никому отнять. Рогами грозит. Кто в сене спит, тот сам сено. Высшая травка и первоцвет. Кто звездочку в ладонь поймает… с неба летит… тот не выпускай, – показал парень детскую ладонь со сгрызенными черными ногтями. – Но не жми сильно, – и свернул кулачок в мягкий кулек, – мотылька.
Тут вдруг увидел Сидоров: замелькали, перемежаясь в ритмическом взмахе, две светлые точки. Подросли в двух прыгающих по дороге светлых котят и оказались кедами. Подошел к отдыхающим на лавке и остановился возле них местный сезонный человек Епитимий в спортивных черно-синих брюках и черной куртке поверху.
– Что-то сердце беспокоилось, – сообщил он. – Дай, думаю, подойду к людям. Вечер… ночь добрая.
Веня радостно вскочил и, подойдя к учителю, погладил тому плечо под курткой.
– Давай, братец, спать, – нежно указал Епитимий. – Завтра ни свет ни заря вскочишь, картоху окапывать. Занятия сегодня отменяем.
– Ладно, пойду, – кивнул паренек, улыбаясь. – Уж до того мы беседовали с заезжим человеком! Теперь усну хорошо.
– Иди, Веня, хороших снов.
И паренек ушел, временами двигаясь странно – пятясь и поднимая в прощании ладонь.
Епитимий осторожно присел на скамью.
– Последнее тепло по округе разбегается, – сказал. – Еще неделя и лужи по зорьке в ледку стоять будут… Я рад, что у вас… обошлось хорошо. Так и надобно. А что, спутница ваша спокойно отдыхает?
– Да, – ткнул Сидоров пальцем. – Думаю, спит без задних ног.
– Это очень хорошо, – проникновенно, волнуясь и удивляя газетчика, подтвердил сезонный человек. – В такую пору хорошо засыпается.
– Вы, Епитимий, скажите, – поинтересовался Алексей, – зачем вы стройку снизу ведете, и замуровываете, и выводите наверх. Взяли бы, подремонтировали звонницу, навесили колокольчиков и по утрам пробуждали деревню перезвоном. И Вам веселее.
– Нельзя. Я строю по канону. Стены, алтарь, свечи, просфора. Я человек канонический, да и Вы, может быть? Но вот все меня в сторону сносит. Книгу раздобыл редкую, раньше часто почитывал. Сяду в ночи, свечу запалю и страницы листаю. Редкое издание, собрание всех евангелий, с литографиями, где все прописи и поновления. Всех. И тех, что отринуты церковными владыками и наказаны иерархами в забытье. А чем они провинились? Та же молва и легенды второго-четвертого веков. Раскрою какое малоизвестное сочинение, представленное огрызками и обломками, заполненное тенями процарапанных буквиц, и силюсь прочесть словеса, что в дыры и прорехи спустились. И вот что забавно. От электрической лампы никогда не вижу, а от свечки – от той, да. Пламя ее колеблется и ведет тени, подбрасывает мысленные заплаты на утерянные места. И вдруг слово и читается. Чудо, да и только.
– Так вы тогда чернокнижник?
– Можно и так сказать. Древние тексты, особенно коптские, из разрушенных старых сектантских монастырей, – все истлели, все черные да коричневые, как пережженный кирпич. И в них, потерянных в каноне, такая иногда жгучая правда и мечта. Много там разного. Может быть, и по-современному разумного. А может, и вечного.
– Ну, к примеру?
– Вот сказали Вы про меня тяжелые слова. Что я понизу копошусь, возле земли, и не ту делаю работу. Тогда расскажу историю. В эти книги-то я теперь меньше заглядываю. Очень она смущает сердце и сеет беспокойство. А мне нельзя, у меня сезонной работы много. Лютой зимой ведь кирпич не таскаю, не кладу, не та надежность. Но все равно, если не скучно, слушайте про пустую работу из моей книги.
Блуждали Учитель с учениками по земле Галилее. Веяли слово и сеяли веру, пожинали сомнения и сушили ропот. Встречали они ночь там, где сломлены уже были посохи и ноги сами стали сухими корнями, вросшими в пыль дорог. Приветливые кусты мирта, терна и дерева ситтим освещали им звезды в другую ночь, пустую чистую комнату мёл, приготовляя иногда, бедняк, сраженный стрелой истинной страсти, и бросал этим людям сбереженные для детей и жены кошмы, чтобы сон напоил трещины в их губах и ссадины на плечах умаслил рассвет. А богатые годами и умудренные тесниной дней приносили им на ночлег воду в двух кувшинах, медном и серебряном. Но кто и вовсе прогонит, острых собак на поводу выведя. И в пустой зале коротали ночь, размотав на подстилку рулон сохлых трав. И питаясь тихой беседой.
Тут повадился один ученик, Иуда этот, камнем дверь подпирать, за Учителя и себя тревожась. Время это было бешеное и глухое, как любое время, разбойные и многие лихие люди тоже оседлали силу слова, ходят, людей баламутят, загадки сеют в слабые души, те, что и Господу угадать не под силу. А за пазухой – острый нож. И стал этот ученик в виду ночи отыскивать во дворе или рядом крупный камень, тянет, всякое поминая, и дверь изнутри заваливает, когда все угомонятся и головы опустят. Другие подсмеиваются, а ему ничего. Говорит: придут всякие с другого края, для которых засовы что прах, с черными глазами и трясущимися руками, в разорванной после воплей хламиде, с поцарапанной после споров грудью, и увидят – камень большой дверь держит, значит – люди внутри простые и спокойные, и уйдут.
Однажды сделал это Иуда в доме одного погонщика из Хамаата, как раз нищая обитель их приютила, и на всех – две лепешки. Подошел Петрус, насмеялся, говорит: «Брат, дверь наружу открывается, и камень твой – скорпиону не помеха, и вся твоя возня – пустое». И толкнул ногой.
Посмотрел Учитель и тоже подошел. Открыл дверь настежь, поправил камень, преклонившись, в середину и сказал Петрусу:
– Напрасно ты, брат, человека клянешь. Он камень не из колючих кустов, надрываясь, принес и не от диких людей заложил ночное пристанище наших снов и слов. Этот камень он с души снимает, от страха в лихие времена освобождая тело и сердце. И ты не терзайся – придут нечистые люди с косыми лицами, поглядят – дом открыт и, если ты чист, входи. Но поперек камень, значит простые сильные люди, кремни и из иорданского гранита, нашли здесь свою ночь. И уйдут.
Но, может статься, в дальних кустах у дороги ожидая рассвет, подумают – и я ведь кремень, а не мертвый на знойных дорогах зверь, койот или птица гриф, и я не буду от других свою душу прятать, будто нож. И, как камень, положенный в мир Господом нашим, лягу сторожить чей-то сон. Может и так.
Епитимий глубоко вздохнул и добавил:
– Я канонический человек, не могу из дозволенных пут выбраться. И боюсь книгу эту теперь читать. А что за человек, который боится книгу. Потому и не ученик. Просто подмастерье, сезонный человек… Простите, что ваше время не берегу. Спасибо, Алексей, за беседу, – поднялся он. – Что-то уставать стал.
Пойду потихоньку, подремлю. Сон у меня чуткий, а вы машину так посередке бросили, что деревенским ребятам – праздник. Посторожу хоть заодно, все польза… Знаете, вы туда больше не ходите. Туда нельзя, – добавил.
Епитимий пожал на прощанье, слабо прикоснувшись, ладонь газетчика и, повернувшись, зашагал в обратный путь. Сидоров окликнул его:
– Епитимий! – Тот обернулся. – А вы вообще-то кто?
– Я? – откликнулся сезонный строитель. – Вообще-то я… Военный химик, – и поплелся восвояси, промеряя неуклюжую дорожную колею двумя светящимися, прыгающими точками своей обувки.
На чердачном сеновале было темно и тихо. Сидоров, не зажигая света, послушал с минуту тонкое дыхание спящей женщины, услышал еще, как мышь зашуршала в скирде в углу, и залез в эту осыпающуюся пахучую груду, словно хорек или крот, стерегущий мышь. И мгновенно забыл все.
Под легким, приятно шуршащим дождичком литератор Н. занимался с литературой. Он укрепил над собой зонт модной, слету привлекающей даже самок насекомых расцветки – американского штандарта, перемешанного с новозеландским, исламским и индейским вымпелами – и тихо спал, стоя и посапывая стихи.
Теперь замыслил он эпос – «Поэма без Г.» – толково сколоченную многоходовку с продолжением за наши дни, где несколько поколений героев-механизаторов, зачиная с секретарем сельрайкома на Кубанщине Гуева, покоряло все подряд, купаясь вольным стилем в борьбе и станичном разностороннем сексе. Тихо шептал Н. сиреневыми трепетными губами сквозь пропускавшие осенний свет веки начало сказа: «Тот дядя, сам он честно правил… но толком выдумать не мог, и никого не стал заставить…» Рифма сыпалась, как засохшие на лету мухи, идеи роились трутнями в колоде башки, вязкая чепуха залепляла извилины: «.. и тут же он слегка промок… и слег… ни черта выдумать не смог». «Смог» через «гэ» или «кэ», – прикинул Н. лингвистически среди зефирного сна, помня, что «смог» – экологическая дрянь, а «смок» – дождевая гипербола.
Его иногда спрашивали: где ты обучился этому искусству – стоя спать. Н. уклончиво и важно отвечал – на вахте. Если приставали – на какой такой вахте! – то сквозь зубы, как сексот, пояснял – на воинской, дипломатической, партийной, а то и просто – на вахте совести. Правда солдатом, а тем более сержантом или прапором, он никогда не служил, имея в резерве плоскостопие, как у тюленя.
Сновидеться днем в положении «вольно – во фрунт», крепко упершись подошвами в грунт, Н. научился у писательских в третьем колене братьев Кранкеншкап на задах старого Дома литераторов у помойки, куда братьев пока еще пускали и где находили они среди ненужного многие идеи для своих «политических ребусов» и «социологических кроссвордов» в газетке «Пионер
Прикамья». Дед их, просто Кранкеншвах, был известнейшим погонщиком еще Бабеля и Гофмансталя, а вроде бы мать, в псевдодевичестве Нахамска-Отсыпяньска, числилась во всех органах синхронисткой с языков саами, колымского и языка мертвых майя. А братья, появившиеся для всех отцов, как неудачно раскупоренное шампанское, неожиданно, загремели, справедливо отказавшись признавать любые школьные программы, в стройбат и там научились сну на ногах и на том, что считали головой.
Часто теперь они собирались у помойки литераторов, ворошили старое и распивали бутылочку фальшивого армянского чифиря, мутной удмуртской водки «Слеза Чингиза» и, вконец оседающие, добавляли по баночке очищенного в наждачном фильтре тасола. И закусывая, чем Дом послал. Там и научили Кранкен-Отсыпяньские литератора Н. нескольким гадостям, в том числе сну из произвольного положения. Оказалось: чепуховая наука, только захоти. Н. как раз притащился в бывший храм литераторов в надежде поквитаться с кем-нибудь из братьев по стилу, декламируя вслух первую сложившуюся строку эпоса, и шибануть рюмочку чего-нибудь творческого. Он здесь давно не был, и оказалось, что весь Дом со служивыми людьми вкупе лет пять или десять назад уже отдан на откуп лихим новым хозявам в счет предоставленной в обмен интеллектуально-мозголомной собственности: сюжету сериалки криминальных братаний, третей версии Гимна Гименея и верстки книги тогдашнего главного лица писательской шатии под условным грифом «Дринк нах, или Мон кампфус за литератор». Литсходки теперь редко, реже, чем показательные выступления енотов в цирке усопшего дедушки, произрастали в Литдоме, но Н. чрезвычайно повезло.
Именно в тот день состоялось чествование третьего тома классика теперешних словосложенцев и рассказопевцев господина Заменяева, автора громогласных бестселлеров-путеводителей по городским раздевалкам, сопелкам, потелкам и «Дому престарелых дам “с обслуживанием”», а также автобиографического романа-комикса в картинках «Я – уя». Огромная процессия апологетов классика клубилась в Доме, на руках тащили томно таращащегося автора, голых лит-редакторш, кто посвежее, и просто обожательниц на халяву поиграть ляжками, а также венки с вплетенными в лавр лентами со шляп и черными чулками без подвязок. А вслед пучилась толпа любителей пососать клубной клубнички.
Н. сунулся в писательскую щель и замер, глядя влажными от зависти глазами на судороги чужой славы. Была у него еще и многолетняя задняя мысль осуществить на себе акт символического слияния с древней женщиной Клио – или Мельпоменой? – черт их там этих муз разберет, кто заведует составлением творческих актов, – и акт экстаза нефизического введения в ареопаг: мечтал он тихим тушканом просклизнуть в Дом в известную кофейню и наглым жирным росчерком грязной гелиевой ручки оставить свой автограф, не очень во избежание похожий, на стене писательского плача, рядком с вечными строками иных призванных в горние выси «литератюр».
Этим самым стремительным тушканом и бросился Н. в полуголую толпу, коротко размахивая для розыгрыша «своего» ловко стянутыми в предбаннике синими сатиновыми трусами, не так давно стиранными, но был быдлой в виде двух бугаев мгновенно вычислен, опознан, как опечатка жизни, схвачен за майку и через задний писательский проход в раскачку отправлен в творческий полет к зловонным мусоросборникам, возле которых и встретил практикующих постоянный стоячий столбняк братьев.
Однако сон, навеянный и переданный в его карму посредством пассов грязными стаканами, был чуток, как болезнь Кройцфельда. Стоило теперь не очень и огромной капле дождя стукнуть его по носу или захлестнуть в ухо, Н. тут же судорожно просыпался, раздирал диафрагмы век и в сотый раз читал стелющийся над базаром плакат «Ярмарка книжки нанофикшн дню знания нацпроектом наука». Потом тихою рукою поправлял на столике не шибко продающиеся сегодня свои брошюрки «Стать наноакадемиком за девять месяцев и один день» и вновь засыпал.
Впрочем, не прошло и пары приятных кадров сна, как вдруг ни с того ни с сего рухнула целая стена дождя, плача высших облачных сил. Потоки хлынули на его редкие для таких омовений брови, по впалым невыскобленным щекам потянулась грязь, и потекли противной протечкой капли между ключиц к отхожим местам. Н. встрепенулся и начал курой хлопать руками по куртке, вылупив налившиеся влагой очи. Мерзкая рожа дальнего знакомого, хамского заказчика плохо оплачиваемой чуши господина Моргатого, ухмылялась H., а сам Моргатый держался за цветастый зонт и дергал его, силясь слить остатки дождей на многострадальную главу литератора.
– Где ж твоя, рожа, обещанность второй обоймы «Остаться в Ж.»? – прищурился, лыбясь, Моргатый. – Не сдам в полученный срок – меня в антракте разорвут на антрекоты, а уж тебя – на фаршмак, с финансовой неустойкой.
– Господин хороший Богдатый! – подхалимски совершенствуя фамилию урода, заявил Н. – У меня оно в готовности, а вот Вами платимость – не плочено ни сантима, ни дуката. И за прошлые куплеты «О приди, сладких выборов сон!», и за картинку-интермеццо «Да по области по нашей, по району добрый молодец Акуньченко…» или уж не помню… Аврушченко метет! Надо бы подкормить нацпроект «культура слова», а то скоро за другие, кроме мата, слова начнут в милицию таскать. Фунтик гривен не помешает, чтоб марку держать.
– Ты! Ты… – задохнулся в праведном возмущении неплательщик. – Я тебя, урода без определенных занятий, тунеяда, от ментовки крою, хотя мог давно уже сдать, от выселок защищаю, будто ты вербованный. Контора по тебе, контра, сохнет. Гони порцию сценарного свежака! – и протянул мосластую длань.
H., условно плюя себе в лицо, безропотно вытянул из-под раскладного столика намокшие приключения своей души и выдал извергу.
– To-та, – осклабился вымогатель, порылся в портмоне, растерянно потряс его и бросил исполнителю свою визитку. – Позвонишь, решим, – и отвалил, оставив литератора с мокрым носом и капающими ушами.
Настроение же самого Моргатого чуть шевельнулось в брюках и слегка поднялось. До заседания-конференции в нудном академическом клоповнике оставалось еще с полчаса, и командированный сюда мачо решил прошвырнуться по базару. «Ярмарка книжек, – весело-зло прикинул он. – Чтоб вас всех нафталином сдуло». Но потом понял, что поторопился – много дельного оказалось на этом базаре «нанофикшн».
Жирная чернявая баба с висящими золотыми серьгами на двух грудях торговала брошюркой под плакатом:
«Не знаиш своя новый болезнь – ходи к мне, врачеватель третя поколени высш. квалиф. НАНА и АДЯ (Б. ХУРГАДИ)».
Обещая обследоваться, Моргатый даже с ее дозволения подергал груди: та уверяла – «железные», а оказались деревяшки.
– Деревяшки, – брезгливо отвернулся мачо.
– Сама ты деревяшки, – завопила баба хургади. – И мать твои деревяшка беременный, и отец тебе – буратиновый носа сифилиткза-место штаны.
Но Моргатый, довольный скандалом, двинулся дальше. Какой-то с бородой острым клинышком ишак, с линзами в зрачках и напяленных на очки глазах разложил толстые тома «Труды наноакадемии космических коммунальных макроплатежей». Еще у него был плакатик «Есть плацкарт до Марса», «Места на луне (последние три)», и он тихо шепнул Моргатому: «Имею африканские нанопрезервативы для серийных клиентов «Восторг носорога» – полная гарантия от вуду, зомби и клофелина».
Но мачо только толкнул, будто обидевшись, и опрокинул дураку торговлю и был таков. Прихватил, правда, всего одно средство от зомби: мачо давно не воровал, и квалификация стала стираться. Были здесь и раскладные музыкальные картинки «Нанопесни о макроглавном», и «Как купить себе недорого новую Госкорпорацию», и «Антикризисная считалка», а также «Детство Димы», «Юность Дмитрия» и «в Людях». Мачо остановился возле чумного аборигена, тот предлагал новый учебник горной арифметики «Полний ПИ-здэс».
– Чего это такая, полный пиздэс? – спросил Моргатый, и правда всю арифметику в школе проморгавший. Помнил, что есть числа на деньгах и числа – когда совещания. И еще одно число знал по выговору – «шиснадцать» – это он всем своим бабам говорил на дни рождения – «тебе, цыпа, опять как шиснацать».
– Ты щто, ни знаищ? – удивился горец, взмахнув сивой буркой и обнажив горский заменитель ручки – черненый кинжал. – Пособий по ЕГЕ. Как сдать за «пять». Валшебный числа ПИ. Один знаищ? Две знаищ? Такой и ПИ – научный числа. Акадэмик, и та знаит – когда крыглый, сигда ПИ будищ. Он разний биваит. ПИ – на двое, друзья делим. ПИ – на траих. Пришел хазяин – вся ПИ себе взял, никаму ни дал. Не учил знаний. Полный ПИ, это кагда ни худой. Белый, тольстий и под все уравнени ходит. Бери учебник у Торги. Чтвертый брат писал, професир.
Но тут по шалману забегали и засвистели маломерки-мильтоны, никуда не сгодившаяся саранча областных училищ, сгоняя несанкционированную ярмарку, горец стал судорожно сгребать скарб, и Моргатый отправился на конференцию, лишь осторожно харкнув на бурку грамотея.
Его совершенно спокойно пропустили, на грудь ему злобный цепной пес зампокадрам прикрепил толстый тяжелый бейджик «Пресса», почти современный миникомпьютер, так как высвечивал фотку Моргатого анфас, а при нажатии на фейс и в профиль за тонкой решеткой кадра. Также его фамилия с ошибкой – «Эмаратый» – значилась и в списке, но подслеповатая тетка на турникете сочла эту ошибку незначительной, провела толстым черным ногтем до низа и пустила, сообщив – «Значитеся». «Эх, сменить что ли фамилию, – кумекнул Эдька. – Эмиратый. Да и имя. А отчество – аннугилировать, – выразился мачо по-научному, вспомнив, что тянется в физически ученый клоповник. – Хазбулат Эмиратый. Неплохо!»
В широкой полуовальной зале с подъемом, на манер отельных турецких амфитеатров с полуголым славянским кордебалетом вместо гладиаторов, уже роился и гудел народ – ученые и недоучки. Посередке в третьем ряду мачо разглядел скукожившегося их газетчика – гаденыша Сидорова, но не заметил его и отвернулся. Посреди залы на пустом пятачке, оставленном словно для дискуссионных танцев научных пар, топорщилась кафедра для докладов, а также стоял столик для преферанса с лежащей на нем книгой, толстенной, толщиной в жопу одной мачевой знакомой Муры. «Кто такую прочтет, – изумился мачо, – сразу в психуху».
В президиуме рассаживались ученые лица с выражениями обделавшихся перед пенсией в метро бухгалтеров, осанистый поп с метровой бородищей оглаживал сияющую рясу и еще какие-то, злые и сухие, перебрасывались злостью и бумажками. Однозвучно завопил колокольчик в руках одного из последних, однозначно созывая внимание.
– Господа! – протяжно и тяжеловесно возвестил звонарь. – Мне, заместителю директора местного Научного центра мировой науки Института физики Общей земли поручено. Разрешите открываем междурегиональную собрание-конференцию «А ты внес взнос в копилку Родины?», посвященную 55-летию творческой деятельности… что? просто 55-летию? А, ну тем более… летию бывшего заслуженного член-корреспондента, ученого академии и нашего беспременного сотруженика Триклятова и его… что? условно сокращен?., как это? Два года уже с довольствия? А, ну… тем более его неоднозначной роли в достижении и несомненных ошибках огромного, всепожиравшего таланта современности. Хочу бы представить наших замечательных гостей нашего международного… начну по меньшинству, а вы, господа, прошу бурно приветствовать стоя или рукоплескательством. Так… начальник райотдела пожарной охраны, так… тоже приветствуйте, вот. Военком, представитель воинского доблестного контингента, добрый ангел студенчества и аспиранчества. Так, теперь беру первую строку. Почтил нас присутствием защититель законов, поборник депутат Иванов-Петров, – крикнул замдир и победно вознес обе руки к Президиуму, в котором вскочил плотный, кабанистого экстерьера тип с кровью налитыми и с сидящими посреди зрачков крупными дробинами на лося глазками и заорал:
– А у тебя фимилие есть?! А ну представься, комедию тут на людях выламываешь, как принцесса цирка…
– Я? – стушевался зам. – Я… Скатецкий… – тихо-тихо пробормотал он скороговоркой, – зам науки и прочим вопро…
– А директор где шаландается? – опять завизжал кабан, но люди из президиума его немного стали придерживать, лаская плечи поглаживаниями. – Директор сам куда скрылся, с институтской кассой? Тут, понимаешь, люди… занятые, от народного блага оторвались… притащились. А? А то всем по загривкам загранпаспорта обрежем!
– Директор наш, – начал печально-плачевный сказ Скатецкий, – выдающийся в своем роде… давно уже, два года… три?., не бывают… зарубежные турне, конгрессы-холлы, одна секретарша на двоих, не можем сладить… погряз в проеданиях грантов. Просим помощи общественности в наведении социальной справедлив. так как я и. о. – замещаю, – громко добавил он.
Но кабан временно спрятал рыло.
– Теперь чрезвычайно поприветствуем земным поклоном небесного гостя, по древлей традиции, так как в поясницу, невзирая подагру… иерарха нашего великого церкви гражданина… господина… отца и сына Архимандрита Гаврилла!
В президиуме поднялся осанистый иерарх, огладил бороду, сложил ладонь щепотью и стал успокаивать слабо беснующуюся хлопаньем в ладони научную паству:
– Отец и Сын у нас всех един, мы все дети его, живые и всякие. И судимы будут живые и мертвые по написанному в книгах, сообразно делам своим, – изрек он и добавил: – Институт Земли ваш важный, ибо произвел Господь сначала Небо и Землю.
– Кстати, о книге, – возгласил Скатецкий, тыча пальцем на огромный талмуд на столике. – Наш годовой отчет, хорош и объемом и наполнен Божьим промыслом, понимаете. Первый пункт конференции – так и значится, окропление, значит, освящение научных трудов всенощных просим произвести иерарха.
– А ну стой! – опять высунулся кабанище-депутат. – Мы тебе кропи, а ты понаписал антисоветчины, антинаучины всякой. Намутил. Не проскотишь, – выкинул Иванов-Петров. – Ты отчитайся, доложи поначалу. Чем вы очередным измазали нашу посконную народную путь-дороженьку. Дарвины с шинпанзами, колунбы заморские кулибины.
Но Скатецкий скосил в сторону.
– Я чрезвычайно извиняюсь и признаю. Сам признаю, виноват. Главного не сделал по ведению ареопага. Не представил вашему, товарищи, по-настоящему братскому, востребованно-восторженному вниманию высшую строку президиума – Главного гостя нашего сегодняшнего… и завтрашнего и так далее наступающего в стране дня – па… папрашу приветствовать Первого Заместителя Третьего Помощника Управления Администрации товарища господина Антона Антоновича… – тут Скатецкий захлебнулся елеем, закашлялся от волнения и, даже стуча, как в два тамтама, в ладони, не увидел слегка приподнявшегося в Президиуме, одетого в чопорный костюм и укрытого рогатыми огромными очками господина с лицом, достойным мадам Тюссо. – Ему и первое, главное слово!
– Мы, – отчеканил Антон Антонович, щелкая по микрофону паркеровской ручкой, – мы – нанослуги макронарода. Всех выслушаем в порядке нацпроектов, всех отправим в доступное жилье, всем повысим заботу. Наше слуг слово – последнее… после Божьего, – повернулся он к иерарху, сделал улыбку рыбы из «Челюстей» и уселся.
– Читай свои достижения, – завизжал депутат. – Только понятно чтоб самым массам, чтоб вон пожарник с военкомом, и те чтоб по косточкам заглотили. А то ишь, Вернадские с тамбовскими тут собрались, головы людям мучить.
Скатецкий четырежды сморгнул, схватил книгу, еле перетащил на пюпитр кафедры и начал трескающимся, прыгающим по октавам голосом:
– Произведено 314 поездок в регионы за достижениями. Осуществлены 2512 переводов иноземных, не чета нашим, ученых… на языки… с языков…
Зал облегченно вздохнул, зашуршал фантиками, косметичками, и кое-где даже запели матерные шлягеры мобильников.
– …выстроена макромагистраль методики освоения нанозагадок Общей земли, запущена действующая эликтрифицированная модель-макет трудов института. Внесен посильный вклад в нацпроект «Холодные и особо холодные технологии»: в подвал научного центра закуплены двенадцать новейших электронных устройств высокого холода.
Тут Скатецкий прервался и в ужасе воззрился на ворвавшегося в залу чернявого, за которым, расставив руки, крались военком и пожарный начальник.
– Этот… – крикнул внепланово пробравшийся, – этот наука ни понимаит. Зачем халадильник отключаищ через дня. Я тебе фынансируй, научний улов завез – две тонна минтай, сто кило икра красный для земли-опыт. Что надо? Еще креветк завезу – бери, сколька дают. Хади честный наука, зачем ни так, наначилавек. Твой дочка с жина ни один раз мне спасиба не дал, а что зачем этот твой мне бумага – «кандидат науки». «Доктор» хачу для своя другой старый больной жина в область, – но крикуна и не к месту затеявшего опасную творческую дискуссию как-то упихали в вестибюль, а там и в подвал «на ключ».
– Ты вот чего, заканчивай, – опять тявкнул Иванов-Петров. – Нам твоя научная громадья ясно – в пользу. Давай по существу, позицию по последнему пасквилю этого паскуды. Оценивай триклятовский фокус-покус.
– Да, конечно, – поник Скатецкий. – Господин наш когда-то великий Триклятов полностью опроверг и, как научная вдова, высек себя же. То у него Бог этот есть, то ни черта нету… извиняюсь, – сконфузился он, глядя на готового выскочить Гаврилла. – Последний его опус ошибочный, ответственно на весь божий мир заявляю. Это определили мы – я лично и его верный единственный ученик Михаил Годин, который… который еще почтит своим… будет тут. Вроде. Да-а. А что Бог есть, лично я, вместе с Мишуткой, доказал это недавно совершенно… вчера, на днях. Опытным путем. Удалось разделить нанофракции ада и рая, свободно отделить бесов этих от этих… ангелов и других легких фракциями небожителей. С опровержением теорий так называемого Триклятова. Но вот что мешает нам завершить грандиозный труд, вот что поганит чистоту экспериментов: гранты. Все эти гранты зарубежные враги чистой науки и нацпроектов, унижая наше здоровье, дают только одному этому, видите ли… Триклятову. Видите ли, они думают, такой один он везде умный. И только ему протягивают свои западные и восточные нечестные кошельки. А мы? У нас есть еще чудо ученые, вон и сегодня выступают: доктор Ойничевич с открытием, кандидат Дудушко. Нечего из нас строить под свою гармошку. Выдвигаю лозунг борьбы с засильем зарубежной лукавой подачки: каждому гражданину – по гранту. Все. Я кончил.
В зале немного похихикали и похлопали записными книжками и ресницами.
– Ты вот чего, ты нам не морочь! – вдруг сорвался, выскакивая, Иванов-Петров. – Ведь когда хочешь, можешь – я вижу насквозь твоих терниев. Не шути, пожарник закроет в два дня твою богадельню… лавочку. А ну, пожарник, скажи!
На кафедру, отпихнув Скатецкого, взобрался пожарный начальник, похожий на обрубок нажравшегося ледяной воды шланга.
– Я скажу, – прогудел он опоздавшей пожарной сиреной. – Закроем в два дни. Невзирая-на. Шланги побраны, складены ни там, ни здеся. Песок растащили по научным огородам. От пяти лопат полчеренка в сосуде стерильного спирта по пояс доживают. Еле вытянул. Еще в два дни Триклятый научную отровержению не брякнет, закроем вот те крест.
Руководящий Антон Антонович из президиума все же вернул конференцию в русло:
– Так, давайте все же шире, по-государственному. Нановопросы в русле макродискуссий. А сейчас все же продолжим достижения.
На кафедру выдвинулся, притащившись боком, вроде боязливого, уже бывшего в сетях краба, осторожный доктор завотделом Ойничевич и, поведя крабьими глазами, тихо доложил:
– Триклятов кругом не прав. Он думает, что если у него уравнение – то хода нет. А ход конем всегда есть. Пусть пишет покаяние, я не против, это ясно. Это не вызывает. Но дать бы ему индульгенцию, все таки матеро заслуженный. Я вот тоже открыл закон, а мне ничего не дают. Закон общей земли – закон темной материи. Иностранцы нам говорят и обещают – 60 % их вселенной, в чистом весе, сложено из темной материи. И куда это такая груда сложена, спросим! А я утверждаю, 40 % нашей вселенной – светлая материя, материя добра и разума. И пусть в нашу не суются со своей вселенной. Кроме грантов, ясно. Вселенную Добра и разума и, может быть, материю рая, это требует, конечно, немалых усилий средств, чтоб доказать рай. На земле. В смысле, доказать в нашем институте Земли. Я еще готовлю закон, в свете поручения депутатского корпуса, что каждый имеет право на научное самомнение, имеет, но до тех пор, пока не принято решение и он не попал. В меньшинство. Ну… В список по раю или, кто против, по аду. Значит…
Такой ахинеи не выдержал уж и депутат Иванов-Петров. Страшным разъяренным кабанищем, брызжа из глаз кровавыми слезами и поводя вставшей на пиджаке щетиной, он выкатился на авансцену, смел доктора Ойничевича, как сметают крестом ересь, и страшным вкрадчивым голосом громогласно заявил:
– Ну что, докрутились, научные извертенцы, – и помчался бегать вдоль вжавшихся зрителей. – Дарвиновых обезьянников им мало, иудины дети. А маленькая девочка, в святые метит, Фурман или Бурман в Питере, не помню – прямо, через папу, заявила. Не засрете наши светлые головки вашей дарвинистой ересью. Уберите, мол, от нас этих шинпанзей с гибонью, и так косо на прародителя пялится. Не хотим быть от обезьян саблезубых с крокодилью слезучей, хотим, мол, царицею людскою от волшебной палочки божественного огня взямшись, и так криво на папашу своего поглядывает, излишне шерстью поросшего. Вот, маленькая пигалица– борчиха за святое, и та чует. Распродали страну, христопродавцы, разграбили научную житницу кадров. Где ломоносовцы с павловцами? Раньше в космос по всем праздникам шимпанзей, чтоб здесь не мозолили, и других шавок запускали. К дню пожарника, а уж в день армии – обязательно сцепка или свара в космосе. А теперь что? Все профукали, научные поганцы. Атеисты от дьяволов. Развели триклятовых да мишек каких-то шоколадных. Не стыдно перед народишком? А сказано в писании: Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. Вот и учите пятна на солнце, под ангельским крылом. Воры. Несуны творческие, бомжи ваковские. А записано в скрижалях: упадет с неба большая звезда и другая. И отворится кладезь бездны – снимется седьмая печать и будете вы… Вы все – что на меня глядишь? – все будете по виду саранча подобно коням, и зубы, как у львов, и волосы женские! Но будет суд над великими блудниками, сидящими в звере багряном… и в таких вот конторах… и переполненном именами богохульными. Всех вас вижу, – страшно возопил депутат. – Пламя иудино. Так занимайтесь своим делом всенародными спец-проектами – реки, понимаешь, разворачивайте, Землю-матушку изучайте. Звезда чтоб на нас сверху не съехала, готовьтесь отразить. Саранчу измерьте, зубы у львов… Эколоженье, землевезение, обществослужество – вот стезя вашая. А уж психоложество и человекоблюдство… блюдение – нам оставьте. Человекам разумным.
И чтоб законы эти все подравнять! Собаке собачье, обезьяне – горилье, а человекам – что ему разум просветленный предпишет. Я как депутат за это в ответе. А если для благов народных, для счастья простого даже наночеловека, единицы-души хрестовой нужно закону подсказать – мы подскажем. И землю посередке мира вставим, и молотом с наковаленкой так постучим по вашим башкам – искры божие побегут. Вроде китайских косоглазых петард. Сказано в писании – и сбросим сатану в озеро огненное и серное – и будет он мочиться во веки веков.
– Аминь, – тихо произнес иерарх из Президиума в напряженную тишину зала.
Но тут случился некий казус. Многие слушатели от этих речей скукожились, или скукоцились, как хотите. Эдик Моргатый так и потерял вид завзятого мачо и захотел вдруг остро по малой нужде, справляемой им иногда минуту и долее. Но не все поддались околонаучной панике. Выскочила в середину полукруга невнятная особа мужеского пола, заверещала детской трещоткой:
– Свободу Триклятову! Свободу Триклятову, – и вдруг, прильнув к огромному тому годового научного баланса института, защелкнула на его обложке, выполненной фигурной медью и кожей под церковные пудовые книги, цепочку с секретом, обвитую вокруг запястья. И продолжила уже орать и прыгать, как мартышка, волоча научный талмуд. Все зашумели осиновым лесом, забегали пожарные и стукачи, послышались топот и шепот:
– Это он… это он, наш шизофреник из отдела изучения абсолютной пустоты.
Но бывалый главный пожарный, обхватив охальника поперек, уже выставил быстро добытую и не упомянутую в пожарном отчете двуручную пилу и стал метить в кисть. Хорошо военком, умница, раздобыл и подтащил кусачки со зверскими алмазными зубами, от коих цепочка и распалась, жалобно звякнув. И подскочившие из охраны тут же поволокли свободолюбца к выходным дверям, наружу, на освидетельствование или еще куда. Однако, не так прост оказался мелкий специалист по абсолютной пустоте, тот самый, кстати, сосед нашего литератора H., надоумивший этого Н. иногда приторговывать макулатурой в темных коридорах своего института. Совсем не прост. Он вдруг вывернулся в руках волокущих его стражников и выкрикнул:
– А сказано в Писании. По вере вашей да будет вам. И откроются глаза слепых, и очистятся бесноватые.
Стражы от неожиданности и инстинкта отпустили руки мелкого физика, и тот ловко юркнул вновь в середину зала и опять выкрикнул свою глупость: «Свободу физике!» Поднялся во весь свой представительский рост Архимандрит Гаврилл из Президиума и, указуя на ученишку, громово возвестил:
– Сказано в Писании. Расслабленному, прощаю тебе грехи твои. И встанешь ты, возьмешь постель свою и пойдешь сейчас в дом твой. Или казенный. Сказано: за всякое праздное слово, что скажут люди, дадут они ответ в день суда.
– По отдельной статье, – добавил Иванов-Петров.
Видя такой оборот, пожарный и военком опять взялись подбираться к изучателю пустоты, метясь схватить под локти. Но тот предусмотрительно поднял руки и возвестил отскочившим воякам и другим:
– Сказано в Писании. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. И посылаю вас как овец среди волков. Свободу!
«Свободу Триклятову!» – робко кто-то поддержал из зала похожим на дамский голосом. Иерарх покраснел лицом, воздел тоже руки, опустил очи долу, то есть на крикуна-физика:
– Сказано в Писании. Мы играли вам на свирели, а вы не плясали, мы вам пели печальные песни, а вы не рыдали. Не здоровые имеют нужду во враче, а больные. Лучше, если б повесили ему мельничный жернов на шею и потопили во глубине морской. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя!
– Дай я вырву! – вскричал депутат, отчаянно и нетерпеливо ожидая окончания пустых разговоров.
Опять нерешительно воинские служки стали подбираться к крикуну, примериваясь к пучащимся его глазам.
– А сказано в Писании, – задорно выкрутился мелкая физическая единица. – Есть скопцы, которые сделали себя скопцами ради Царствия Небесного. Фарисеи, вы слепые вожди слепых. И Отец великий поступит с вами так, если не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешения его. Свобода Триклятову!
Впрочем, Гаврилла чрезвычайно увлекла открывшаяся богословская дискуссия:
– Сказано… – жестко заявил он. – Кто возвышает себя над Отцом святым… даже в статьях, не то что в мыслях… тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники, оставили важнейшее в Законе: суд и веру! Ибо сказано: и восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить…
– Мы им врежем по чудесам, только высунуться, – протрактовал сказанное Иванов. – И по сусам.
Но маленький научный трактователь пустоты не сдался:
– Сказано в Писании. И опрокинул Иисус скамьи продающих голубей в храме. Свобода голубю Триклятову! Сказано: благословляйте проклинающих вас. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны изгоняемые за правду. Не давайте святыни псам.
– Чего ж это делается? – изумленно спросил Иванов-Петров у Антона Антоновича. – Чистая антисоветская пропаганда. – Тот развел руками.
Однако не смирился и иерарх и, вдохнув в голос бархата, сообщил:
– Сказано. Царствие небесное подобно неводу, закинутому в море и захватывающему рыб всякого рода. И этих рыб, – указал он на крикуна, – сев, хорошее собрали в сосуды, а худое – худое! – выбросили вон. Так и с вами, недруги, при кончине века.
Но возразил, тихо смирившись и опустив руки, маленький физик:
– Сказано… Враг, посеявший плевелы, есть дьявол. Возврати меч свой в его место. Всякий грех и хула простятся человекам. Я умолкаю. Ибо сказано в Писании: все, что ни попросите с верою в молитве, – получите.
Тут из разных рядов тихонько стали раздаваться смутные призывы и ропот, который, возможно, и сами ропщущие не желали, чтоб был услышан:
«И правда, что к Триклятову привязались… хороший был человек, я с ним часто в столовой обедал… да и этот Миша его – простой паренек и добрая душа… как в Писании сказано…»
– Этот у нас просто, – в ужасе зашептал на весь зал Скатецкий, – не теоретик, практик. Откуда набрался, не знаем. Из своей пустоты.
– Как Алик… из подвала, – раздались смешливые голоса с задних рядов.
– Да уведите вы этого горлопана наконец! Что, погоны надоело таскать?! – заорал во все горло депутат и стал рваться из Президиума, повалив стул и схватив за горло полупустой, жалко брякнувший затычкой графин. Тут наконец и препроводили дискутирующего пустотника пожарник и военком вон из залы, на освидетельствование, а может и дальше.
– И вообще… Вообще тут! – заорал, хватаясь за микрофон, как за орган речи, депутат. – Вы чего тут, в натуре, пялитесь! По домам хочете? Понадето на вас – кто во что, смотреть туго. Вы кого забражаете в таком виде, народу назло. Разнобой и наплювать на научную скромность. Фуфайки, футболки, пестрота, кто в бровь, кто в глаз. По какому приводу? Взялись науку тянуть, так оденься как положено, в научную видимость. А то глянь они чего! Юбки, коленки. Натягивай по-ученому, как положено. Сталевар он в робе, сельский – в сельском, для картофеля-свеклы ползать, актер ты – рядись как пугало, ладно… Вон ты, девушка со второго… да, да… второй ряд справа. Мне и отец святой локтем заметил. Ты куда здесь пришла, коленками вся, я гляжу, ерзаешь, нарочно светишь. Ты, ты, к тебе люди спрашивают. К кому ты пришла наглыми коленками светить? Врагам? Или нарочно занимаешься? Все – науку, а она с толку сбивает.
– Ты давай, парниша, не хами! – звонко крикнула с места девушка, уже, правда, в возрасте. – Я вообще-то доктор наук.
– Доктор она, ага! А мы доктора тебе позовем, психопеда. Пришла в науку крутить, одевайтесь научно-единообразно. Брюки там, застегнуто. Колени в платках держать. А вдруг хлопцы молодые с гор спустятся, увидят, возбудятся и озвереют. И будешь ты возбудитель чего? Нацненависти. Сразу срок и параша по-научному. Нечего свое оскорбление верующих чувств коленками выпучивать. И очки если, держись в платке, взглядом скоромно. А то пялятся, как упыри. Брюки, пиджак серая полоса, с внутренним карманом для удостоверяющего документа.
– Христос в хитоне ходил! – нагло крикнула докторша наук. – Колени наружу. Сам был доктор и лечил.
– Еще скажи! – озлился депутат. – Кому положено, тот пускай хоть коленями взад. А вы, давай, не грубиянь. А то из докторов быстро в санитарки… на научное прение. Расхлябились, понимаешь!
Однако, как и всякий уважающий себя руководитель, ведущий процессы и управляющий стихией, поднялся среди этого бедлама заместитель помощника Антон Антонович и – вот уж спокойный человечище! – одним взмахом руки угомонил расшумевшийся под ветром перемен лесок.
– А что? – не моргнув глазами, которыми почти никогда и не моргал, особенно при руководстве, подтрунил он. – Дискуссия? Хорошо! Обмен особых мнений на факты? Отлично! Деловая управляемость хватки и цепляемость знаний? Похвально. Продолжимте, господа. У нас еще один? Где он?
Как-то задом, совсем испуганный, выбрался к шаткой круглой ракушке кафедры кандидат, научный сотрудник Дудушко. И, будто у доктора-костоправа, повертел шеей.
– Говорите смело, – суховато подбодрил опасливого ученого Антон Антонович. – У нас дискуссия, можно говорить. И громче, как в цирке. Хоть вы и мелкий сотрудник, но чтоб общественность оценила, – а соседу Гавриллу шепнул. – Люблю, знаете, цирк, особенно воздушных гимнасток… акробатов. С медведями.
– Гимнасток, – шутливо определил батюшка и погрозил заму холеным пальцем. – Гимназисток кудрявых. Все мы грешны, – воздел очи. – Излагайте, сын мой, но без… деклараций, – громко он направил докладчика.
– Значит так, – сообщил Дудушко, глядя на обрывки цепочки, разбежавшиеся по нечищеному паркету – Тут иуды хотели нас черной и белой материей надуть, сатином и простыней. Запугать… заплутать в научную дебрю.
– Попрошу не слазить на личности! – в ожесточении вскочил ушедший в ряды слушателей докладчик Ойничевич.
– Не на личности, а на носатые хари, – сострил докладчик. – Вы уж нам хрестов понаразвешали всюду…
– Антисемит! – выкрикнул Ойничевич, возмущенно размахивая подвижными кистями обучавшегося в детстве пианину.
– Антисиниты, антиматерьи, антигерои – это нам зачем? – задался научно Дудушко. – Черное и белое. Скажи нам еще: чернозадатые москали. Мы это и так знаем.
– А молодец! – громко отредактировал выступающего депутат. – Кроет крестями враз.
– У нас, белых материй, с неграми нынче дружба, – спокойно продолжил исследователь. – Я в Африках-то в командировках был, от воды ихней хоронился, изучал ихнюю сторону этой нашей общей земли. У них и хвори похожие. И детки уроды, только живот пученый. Такая же беспризора. Все божьи твари! – вдруг звонко поддал ученый. – Я их так и обозначил в отчете. Божьи, мол, но твари. Но что мое главное открытие – скажу. Вот, господин мандрит меня не осудит…
– Архимандрит, – поправил замдиректора, глядя на насупившегося сановника.
– Ну! Ахремандрит. Я и говорю. У всех душа, у всех – у ихних женщин, у детей. А задача! – взвопил он. – Измерь душеньку, замерь и доложи мандриту, архи. Это тебе не треклятая задачка – интегралами фокусничать, оболгать распятых, раз – четвертых. А потом и первых начнем лгать? Лжи, Триклятов. А мы тебе поправим. Вот вам мое истинно открытие. Закон тяготения душ. Смотри, народ. Все веса притягиваются, по тяготению, по весомости жизни. Ты ко мне, я к тебе. Кроме некоторых. Сала пожрал, вес возрос – и тяга выше. Баба… женщина толстее… шире – притягивает активнее. К такой же или мужчине под соком. Дитя из нее выйдет, тяги нет. Всемирно известно. Ньютон, Дарвин, Каплер – иудины дети.
– Вот чешет! – восторженно зашуршал депутат в президиуме. – Как по писанию, что другой директор.
– Как по писаному, – поправил грамотей Скатецкий, косо осматриваясь на Гаврилла.
– Оказалось, – подытожил науку Дудушко, – покойник к покойнику меньше тяга. И дело не в квадратах расстояния до кладбища. Душа ушла. По весу массы. Думаю, замерь Дудушко душу, и дело в шляпе. Плюс с минусом учел, и закон ясен. Это мы еще с комсомольского секретарства знаем. Душа умучилась и тяги нет. Живой, он и к живому, и к водке, к хлебам раздаденным, и к воде, думая – винище, тянулся. А ушла жизнь, и нет веса. Теперь так. Вот ты, Триклятов, прислушайся из своего ада. Чем человек душевней – ну кто мандрит, или вон Андрон Агронович, у кого белая душа в груди поет – общий вес больше, и тяга людей с этой белой душой к дружке – совсем засасывает. А если ты изверг, иуда или искариот какой, аскарид – черное сердце в минус. Идет отталкивание процесса. Ну вот, – тихо закончил он. – Плюс с минусом… Открытие…
– А что, – осторожно спросил Антон Антонович, – на животных опыты ставили?
– А как же, – скромно подтвердил душегубство кандидат, – собаки кусачие, брошенные, мыши. Окончательно спустившиеся бывшие люди. На них сверху ставили.
– Кошек-то не трогали, думаю. Домашних пушистых зверей? – в ужасе громко шепнул в микрофон крупнослужащий.
– Ни в коем разе. До кошачьих и свинячих и пинцетом…
– То-то! – грозно поднял ладонь на защиту меньших чиновник.
– Так, – привязался теперь депутат. – А растения что? Грибы-ягоды с душой?
– Не наблюдается. Изменения веса по окончанию службы отсутствуют. Апельсин-лимон при срыве. Ананас при корчевании в Африке. Небольшой намек души наблюдали на конопле, на крупном кустарнике. Но, думаю, погрешность счета лаборанткой. Бабские дни у нее трахнулись. Чуть не загубила экскремент. Человечий фактор, он тоже… Все этот… Ойничевич подсуропил, пора его с лаборатории двигать…
– Попрошу без личностей… – вскинулся задетый за живое завлаб. – Тут вам люди, а не конопли.
– Ну иди, – тихо сказал Скатецкий, ликующий в тяжелой душе, что его не помянули.
– Продолжайте замеры, – сопроводил ученого человека Антон Антонович, держась за сердце и поглядывая на часы. – Нанометодами нацпроектов.
– А теперь я скажу, – выкинулся опять к кафедре депутат. – Послушал вашу диспутию. На весь корпус, пять этажей, три тыщи метров – один-полтора ученых. Тогда вот чего, – сообщил, обращая лицо к поднявшемуся с малым колокольцем Скатецкому. – Раз вы так, то и мы так, господин заместитель по науке. Вам известно, на чьей земле расположено вверенное вам учреждение?
– На вашей? – позеленевшими губами пролепетал ученый руководитель.
– Если бы. Да кабы. Докладываю. Раньше, недавно, в четырнадцатых веках на этой землице, подаренной матушке-церкви одним зарезанным в младенчестве князем, расположен был Марфо-Сторожевой монастырь, подворье и ямы-жилища чернецов. Вся тут эта земля – божья, – и Гаврилл согласно и глубоко закивал сединами на этот пассаж. – Так вы думайте быстрей головой, надо бы землицу вернуть в лоно. Щас мы враз возвращаем, только пикни. Пекарню вернули, разнузданных два музея нетерпимых, где эти – отродья демонов и козлоногих девок шабашат выставляются – вернули враз. Теперь директорша по дальним скитам коленями на горохе отмаливается. Бывший райком, страшно подумать, – и тот… На очереди. Задумайтесь думкой, науки. Возьмите Триклятова под жабры и пускай правду квакает, как осетр паюсную… из буфета. Где документ, что статья отменяется? Где правоустанавливающие бумажки на землю? Где стоял монастырино? Тут.
Все. Всех вас попросим со свистом – на аэрационные поля. И меряйте метан жопой – пока пузыри через жабры не попрутся. Все, караул уснул.
– Не волнуйтесь, господин депутант, – путаясь от нервов, запричитал замдиректора. – Все упорядочим. Сейчас послушаем его ученика. Этого Триклятова любимого… и единственного. Ученик-то знает. Введите задер… приглашенного аспиранта.
Разбушевавшаяся в римско-византийском стиле трагедия-чествование произвела на мачо Моргатого, как ни странно, сугубое впечатление. Эдик разволновался эдак, что выхватил у флегматичного соседа флакон валокордина и хватил из горла, вырвав зубами пластмассовую сопелку. Причина тому проста, и судите сами. Эдька мог пропустить в день через голову две или две с четвертью передвигавшихся шагом мысли. Тут, конечно, понимаете – думать, это вовсе не: соображать, схватывать, кумекать или ловко обегать мозгом препятствия. Голова настоящего мачо не произведена думать, а мозг его как орган – рудимент. Он работает выключателем сна, вдохновителем еды и генератором высокочастотного надувательства или обмана. Даже удовольствие от ресторанов или от морского испанского бриза обрабатывает у него спинная вязига. А тем более мордобой, частую, как пиковая масть, месть или пакость, ровную посадку в седле или осанку в кресле, чтоб не терлись манжеты. Это все штуки, подотчетные железам и качественным ферментам, работающим в таком мужике, как «Ролекс».
Главные органы в мачо это: пищевой тракт, где пища иногда затормаживает свой стремительный к свободе бег, чтобы сменить лошадки-мышцы и дать сокам остыть, и, конечно, мошонка – подлинное украшение истинного мачо. Там по ночам, утрам и вечерам шляется вязкое потное либидо, сладко-соленое эго и еще до чертей всяких фрейдовых примочек и прибамбасов. Возбудительный тракт пыхтит у мачо, как молот силомера на выставке достижений: есть достойные руки – и молот пашет, а потом сеет и веет.
Также этот его орган, то есть жирное ленивое содержимое толстой не бьющейся нервно черепушки, как ни удивительно, может свободно исполнять фуги поучений и даже наставлять. Наставления и рога зазевавшимся баранам. Соки из темных глубин, пробулькивая и пузырясь, поднимают пустоты башки, и автоматически раскрывается сияющая белизной зубов челюсть, извергая наборы словесных излишков в промежностях панресторанных рвот и служебных зевот.
Поглядите, только не косо, на наших настоящих мачо. Все они провели утро и полдник жизни, шастая из «Националя» в «Метрополь», из «Берлина» в «Савой», напиваясь, как комары, дармовщиной, блюя дефицитом, а потом разглядывая недоуменно свои замазанные икрой черные щеки в кривых лживых зеркалах ресторанных, сияющих розовым царским золотом клозетов. Там же они, вдохновенно красуясь, врали, крали, лапали официанток и общих подруг и друзей под взаимные увещевания «Ну ты, чувак, гений!». Теперь же, теперь все они, придумавшие, может, когда комсомольскую повестушку про пионеров, или стибрившие сценарьчик из-под задремавшего и обоссавшегося, запанибратски называемого другом знакомца, поколесившие и помаявшиеся в разных предбанниках и будуарах – вдруг все вышли с годами в учителей, законодателей нравов и наставителей чести, налились помпезной спесью и животным презрением к прочим, которых морочим, стали вдруг авторами свободы, чертежниками достоинства и куплетистами сопротивления – в какой бы валюте и куда бы она, свобода, ни складывалась. Когда подступают годы, знаете, уже не до разборок с истиной и не до увещеваний правды.
Молодой, но уже спелый и ловко повисший на кусте жизни мачо – это крепкий фрукт прерий и овощ постельных навозных полей. И не дай блох, если тянет вдруг в мозговой полости холодный ветерок мыслишек или стукнет по редким клавишам мозжечка молоточек сомнения. Такое, однако, и зацепило Эдьку Моргатого. Хватанув валокордина, с ужасом он глядел на гладиаторскую научную площадку и тяжело, как после зубодрания, жевал засевшую в нем впервые в этот день мысль.
Нет, ему не то чтобы было жаль введенного в залу бледного шатающегося недомерка, подпираемого с боков пожарным и военкомом.
Если б ему рекомендовали на это плевать, то он бы стоял и сутки харкал на спирохету, огнеборца и военно-тыловую крысу. И даже не спросил бы пить, спрайта или кваса. Прошибила его красиво высаженную на широкие плечи башку-капусту другое – какие же есть кругом сильные поджарые люди, может и словчившие раньше, чтобы выпрыгнуть из помоев. Теперь же они любого… любого, даже и крупного ученого замдиректора науки, руководящего пятью, а то и десятью промышленными холодильниками в подвале, набитыми редкой рыбой и частой икрой, даже его, или сопливого пожарника, из-за худых шлангов и сухих водоводов тушащего соплями, или резвого военкома, кормящегося с впадающих в раннюю инвалидность сопляков, да и любого журналистика-обозревателя или кандидата естественных наук, воспитанника пустоты – всякого эти полуночные звери враз разорвут, как тузик бобика, и поглядят фиолетовыми дьяволовыми глазами окрест, шаркая кровяными сочными губами. И даже дошла да Моргатого думка – неровен час, и его вызовут как-нибудь в зону амфитеатра, и эти страшные псы, потрясая брылями и мандатами, поглядят на высунутого мачо и буркнут: «Ну, Эдька, пришел и по тебя ангел изучения и изымания твоей душонки. Сымай кожу!» – и мысль эта, а скорее прицепленная к мачу зубной болью, как в метро к седалищу, липкая жвака, осталась в маче сидеть.
Но участникам конференции-чествования большого ученого некогда было рассматривать огрызки Эдькиных мыслей. Своих забот подперло. Поэтому к усаженному на академическое, хоть и боковое, место и украшенному по бокам двумя работниками спецслужб – пожарной и рекрутской, немедленно подскочил распираемый волнением Скатецкий и вопросил:
– Где отловлен?.. Откуда приглашен ведущий научный ученик великого Триклятова?
– На выходе из дачного ихнего триклятого домика ученого захва… провожден с ихнего девчонкой, от возле шиповника, – сообщил военком. – С проходом через допризывной парник.
– С который девкой, кто еще с этим путается, – уточнил тоже принимавший пожарник. – Какая-то с таким еще якшается, молодуха никчемная, но царапучая. На моей пожарке с воем враз домчали еще горященьких, – добавил специалист возгораний. – Я все…
– Чего ты! – возмутился военком. – Моими бойцами… и спортсменами стрено… приглашены в заседания.
– Так! – возвестил Скатецкий с нотой задавленной паники в голосе. – Прошу уважаемую часть ученых, президиум и публику выслушать краткий отчет лучшего аспиранта Института Земли, кандидата в защитники отечества, и его же сообщение о состоянии блестящего ума ранее ученого Триклятова. Годин Миша, выходи же к микрофону, скромный юноша, вот сюда. Сюда. Он пояснит нам причину глухого заблуждения учителя и наставлятеля по причине временной нетрудоспособности интеллекта. Или об отказе от ошибки в позорном уравнении, которое в таком виде все равно никому не нужно. Так, Миша, давайте громко и отчетливо.
Бледный паренек, видимо, получивший при транспортировке согласно приглашению несколько вмятин и трещин, в ужасе поглядел на замерший зал. Он обвел президиум, ряды научных и других сотрудников и коллег почти невидящим взглядом.
– Не стесняйтесь, юноша славный, – пропел Антон Антонович. – Дело-то государственное, на номере поставлено. Можете зачитать покаяния по конспекту, – а в Президиум пошутил: – Юноши наши недоно… И девушки нацпроектов, здоровое покаяние. Молодость задорная моя. Всем довелось по шпорам отчитываться.
Тут не выдержал ретивый депутат Иванов-Петров. Он выскочил из президиума и сунул в дрожащие руки смутно-бледного человека подметную бумагу.
– Читай по шпоре, – зыкнул он, – раз так разучился. Заморыш.
Миша провел по бумаге невидящим взглядом.
– Это все ложь, – отчетливо произнес он, поднимая неслушающейся рукой навет.
– Ну вот, – удовлетворенно зарокотал сверху, а казалось, совсем сверху, неоперный сбитый сипящий бас Гаврилла. – Господь сжалился над триклятыми. Признает этот – мол, ложь я изрек пред лицом геенны огненной, перед взором пристальным небес. Мол, попутали демоны, и все изреченное мое, что нету Бога во Вселенной на данный мгновенный момент в моих подлых Триклятова писаниях и что не простерта Его десница над каждым – все моя ошибка и дефолт знаний.
– Неправда! – выкрикнул Миша, пошатнулся и бросил улетевшую сбитым рогаткой голубем подсказку.
Архимандрит тяжелой степенной поступью выступил к кафедре, в круг общего обзора, и с минуту разлядывал съежившегося аспиранта.
– Да! – грозно возвестил он, вздымая руку. – Неправдой полнилась чаша души Триклятова, поднявшего науку на противление истине и вере. А теперь великий ученый, овеянный зарубежными грантами и нашими грамотами, – и он провел рукой круг, приглашая всех быть с миром, – осознал пропасть адову, в кою заглянул, как любомудрствующий отрок божий. И увидал котлы кипящие и заразы шипящие, увидал пламень и гадов своеволия, блуда и себясластия. И хочет сказать нам устами младенца, а главное, Ему, – простите, грешен. Неправда моя, мол. Так, отрок?!
– Вы лжецы, – тихо высказался ученик и слабо взмахнул ладонью в сторону иерарха, президиума и конференции. – И пройдохи.
И начал валиться в обморок вбок и назад. Но был подхвачен военизированными представителями общественности, облит трясущим даже поясницей Скатецким графином воды и потянут был к выходу, то ли в лазарет, то ли еще куда.
– Гордыня! – страшно возвестил Гаврилл, и черные рукава его одеяний, казалось, взлетели к небу. – Страшная, как чрево кита, гордыня, – и стремительно подошел к первым рядам сидящих на конференции, и в частности к сжавшемуся до размера собственного кала мачо.
– Братие! – сообщил он тихо и проникновенно. – Не гневите Его. Ведь сказал: «будешь сеять, а жать не будешь, будешь давить оливки – не будешь умащен елеем, выжмешь сок виноградных ягод – и вина пить не будешь, и высохнет жизнь твоя». Что! – крикнул он и закрыл глаза, стоя с поднятыми руками. – Пробирки ваши и бурлящие жижи алхимиков сильнее слова Его? Придет скоро Ангел и скажет: «вы нарушили обет, не прогнали всех врагов тайны с земли вашей. И не прогоню их от вас, и будут они петлею на шеях ваших, и боги их будут для вас сетью». Их боги – эти машины синхротроны, фазодроны, напылители тонких пленок обмана, пороговые неясные проницания чуждых молитв. И скафандры, в которых они хотят чванливо подобраться к Нему. Не ждут ли эти суда нашего, и не положил ли божков этих на наковальню Его. Жалкие тщеславцы. Сказано: и был убит зверь сидящий на коне белом в одежде, обагренной кровью, и лжепророк с ними. Что, хотите к Триклятову? Рылись, копошились уже в Божьем хозяйстве – подступились изверги к тайнам Его – и что? Стоят бескрылыми обожженными Его солнцем птицами, жалким перепелами на огне возмездия. Черную материю увидели краем своих завидущих глаз – и что? Неведомо, вопят тыкающие в Него копьями. Черной Энергии край им Создатель показал – и что это? Не знаем, – разводят кровавыми рученьками горе-ученые… даже не скажу мужи – овцы, овны бешеные, потерявшие разум, и ринутся в пропасть, в ад. Что ваши реторты, и градусники с телескопами в бесконечном Его мире? Что вы можете! Подбирать крохи рассеянного Им, как отбившиеся голуби. А он пошлет Ангела, ударит тот жезлом в скалу в пустыне – и потекла вода. Вы можете с геофизразведкой?
Ведь сказано: создал Господь человека из праха земного. Так смеет ли прах сказать: нет тебя, Отец. Отец мудрый, добрый, скажет отроку – се человек. Преклоните, мужи ученые, головы седые и лысые свои перед лицом При-держащего, смирите гордыню. Скоро придет день Суда, и молот наш разрушит Армагеддон. Сказано: и кто не записан был в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И судимы были мертвые, – крикнул Гаврилл, указывая на Моргатого и других, – по написанному в книгах, – иерарх указал почему-то на валяющийся на паркете научный отчет, – сообразно делам своим. Иначе – бросят сатану в озеро огненное и серное и будет он мучиться во веки веков. И кто скажет «Нет Бога», будет растерзан этот лев, как козленок.
– Нет, – вдруг раздался резкий, как взрыв елочной хлопушки, голос в мертвенной тишине научного форума. – Вашего бога нет, – поднялся из дальнего ряда журналистик, маленький жалкий человечек Алексей Павлович Сидоров и с бледным, искаженным страхом лицом вышел к кафедре и встал возле иерарха, готового выплеснуть на него чан проклятий и море горючей смолы. – Такого, о котором Вы рассказали, Бога – нет. Вы не знаете его. Он, если есть, на небесах – милосердный, добрый отец своей пастве, плачущий слезами отцовскими от ошибок и бед наших. И стенающий и рвущий волосы на своей многодумной голове – от ожесточений и зверств человеческих.
– Лжепророк! Сектант! Иуда, – крикнул из президиума депутат Петров и стал отчаянно выбираться, спотыкаясь о чужие колени. – Оскорбляет чувства верующих. По соответствующей статье. Стража! Статью на него, военком!
– Вашего Бога – нет, – тихо повторил Сидоров.
Выхватил из кармана пиджака полученную в свое время от Триклятова грамоту и прошествовал к президиуму. Там он поднес бумагу к глазам выпучившегося первого заместителя управления помощника.
– Так, – твердо произнес прошедший великолепную чиновью школу Антон Антонович, вскочив. – Всем неподвижно замереть на научных, кто на чем, местах. Ситуация глобально прояснилась. Этот товарищ осуществил дислокацию фиксации и предприимчивость неоцененной услуги науке и практике повседневности. А что отдельно недостатки – то пустое, абсолютно пустое.