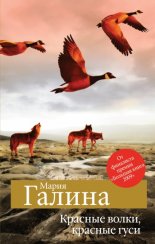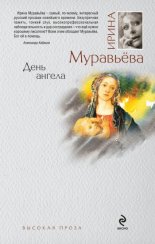Беззумный Аддам Этвуд Маргарет

Он и себе принес банку пива – чтобы показать, какой он обычный нормальный мужик.
Зеб хрюкнул, взял пиво и открутил верхушку.
– Пойду схожу в сортир, – сказал он. Оказавшись в сортире, он вылил пиво в унитаз. Пробка была вроде бы ненарушенная, но это можно подделать – вообще все, что угодно, можно подделать. Зеб не собирался ни пить, ни есть ничего из того, что побывало в руках у Чака.
Взлетать на «иглобрюхах» всегда было непросто: поднимались они на вертолетных лопастях и плавательном пузыре, но задействовать хлопающие крылья можно было только на определенной высоте, и лопасти отключить в нужный момент, не раньше и не позже, иначе топтер мог завалиться на бок и войти в штопор.
Но в этот день они взлетели без проблем. Рейс проходил как обычно – они петляли по долинам в горах Пелли, зависая там и сям на несколько минут, чтобы сбросить съедобные «бомбы» для медведей; потом отправились на высокогорные пустоши, окруженные горами Маккензи, и выполнили еще пару сбросов; пересекли старинную трассу Канол, на которой до сих пор торчали кое-где остатки телефонных столбов времен Второй мировой войны.
Топтер хорошо слушался управления. Он прекращал хлопать крыльями и зависал точно над местами сброса, люк открывался, как положено, и биомусор сыпался вниз. На последней станции кормежки два медведя – один по большей части белый, другой почти весь бурый – уже трусили к своей личной куче, завидев топтер издали; Зеб видел, как колышется на солнце их мех – словно мохнатый ковер встряхнули. Такая близость к диким зверям щекотала нервы.
Зеб развернул топтер и взял курс на юго-запад, обратно в Уайтхорс. Потом передал управление Чаку, потому что по часам была очередь Зеба отдыхать. Он лег, надул подушку, чтобы подложить под шею, и закрыл глаза, но не позволил себе задремать – Чак был уж слишком напряжен во все время полета. Это настораживало, так как заводиться ему было совершенно не с чего.
Чак сделал свой ход, когда они пролетели примерно две трети пути до первой узкой горной долины. Из-под опущенных век Зеб увидел, что Чак украдкой тянется к его бедру, а в руке зажато что-то тонкое, блестящее. Он стремительно сел и ударил Чака по трахее. Правда, недостаточно сильно – Чак ахнул, точнее даже, не ахнул, а издал трудноописуемый звук и уронил то, что держал, но тут же схватил Зеба за шею обеими руками, а Зеб его снова ударил, и, конечно, топтером все это время никто не управлял, а во время драки кто-то из них двоих, видимо, ударил рукой или ногой или локтем по пульту. Топтер сложил два из четырех крыльев, завалился на бок и рухнул вниз.
И вот поэтому Зеб сейчас сидел под деревом, пялясь на ствол. Удивительно, как четко обрисовывались кружевные края лишайника; они были светло-серые с прозеленью, а чуть более темный край образовал такой затейливый рисунок…
«Встать! – приказал Зеб сам себе. – Делай ноги отсюда!»
Но тело его не послушалось.
Припасы
Прошло много времени – во всяком случае, Зебу казалось, что прошло много времени; он словно двигался в какой-то прозрачной вязкой слизи. Он перекатился набок и с усилием встал на ноги рядом с чахлой лиственницей. Потом его стошнило. Его не мутило до этого: просто вдруг стошнило, и все.
– Многие животные так делают, – объясняет он. – В состоянии стресса. Чтобы не тратить энергию на переваривание пищи. Лишний груз.
– Тебе было холодно? – спрашивает Тоби.
У Зеба стучали зубы, он дрожал. Он снял с Чака пуховый жилет и надел поверх своего. Жилет был не сильно порван. Зеб проверил карманы, нашел мобильник Чака и камнем размолотил его в лепешку, чтобы уничтожить навигатор и всякую возможность подслушивания. Как только Зеб занес камень, телефон зазвонил; Зеб сделал титаническое усилие и не дал себе ответить на звонок, притворившись Чаком. Может быть, стоило так сделать и сказать, что Зеб мертв. Может, так он что-нибудь узнал бы. Через пару минут зазвонил его собственный телефон; он подождал, пока телефон перестанет звонить, и размолотил и его тоже.
У Чака нашлись и еще игрушки, хотя ничего особенно интересного – все это было и у самого Зеба. Складной нож, репеллент от медведей, репеллент от насекомых, сложенное одеяло из металлоткани – космические технологии для выживания – и все такое. Зебу страшно повезло – ружье на медведя, которое они всегда брали с собой на случай вынужденной посадки и нападения, вышвырнуло из кабины вместе с Чаком. Ружья на медведя были исключением из новых антиоружейных законов, потому что даже тупые бюрократы из ККБ знали: на севере, в медвежьем краю, нельзя без ружья. ККБ не любила «Медведелёт», но и не пыталась его прикрыть, хотя запросто могла бы – ей это было не сложней, чем пальцем шевельнуть. «Медведелёт» играл важную роль, даря крупицу надежды и отводя публике глаза от реального положения дел – то есть от чьих-то намерений сровнять планету бульдозером, предварительно захапав с нее все ценное. ККБ не возражала против рекламы «Медведелёта», в которой типичный чокнутый мехолюб, скаля зубы, рассказывал, до чего замечательное и благородное дело мы делаем, и пришлите-ка нам еще денег, а то все медведи, что помрут с голоду, будут у вас на совести. ККБ даже сама жертвовала «Медведелёту» деньги. Совсем давно, когда они еще строили из себя защитников общественного блага (поясняет Зеб). Как только они окончательно захватили власть, такие условности их сразу перестали волновать.
При виде ружья Зеб почти перестал дрожать. Он готов был обнять и расцеловать ружье: оно давало ему полшанса на спасение. Шприца, который собирался воткнуть в него Чак, Зеб не нашел, а жаль – ему хотелось знать, что там было. Скорее всего, что-нибудь для отключки. Сделать стоп-кадр бодрствующему мозгу и отвезти на неприятное рандеву, где мозгоскребы, нанятые кто-знает-кем, обдерут его до последнего нейрона, высосут все данные, что он когда-либо добыл хакерством, а заодно и данные о тех, кто ему за это хакерство платил, и выкинут пустую шкурку в какое-нибудь загаженное дальнее болото. Пускай слоняется с амнезией (искусственной), пока местные жители не украдут у него штаны и не разберут самого на органы для черного рынка.
А даже если бы шприц попал к нему в руки, что толку? Попробовать его на себе? Воткнуть в какого-нибудь лемминга?
– Ну все-таки, можно было бы его держать при себе на случай крайней нужды, – говорит Зеб.
– Крайней нужды? – Тоби улыбается в темноте. – А это была не она?
– Нет, настоящей нужды. Например, если бы я на кого-нибудь наткнулся там в тундре. Вот это была бы чрезвычайная ситуация. Скорее всего, это оказался бы какой-нибудь псих.
– А веревочки там не было? – спрашивает Тоби. – В карманах. Веревочка всегда пригодится. Бечевка или тонкий трос.
– Веревочка. Да, точно, теперь я вспомнил. И моток рыболовной лески с крючками, мы все носили такую с собой. Зажигалка. Мини-бинокль. Компас. Всем этим нас экипировал «Медведелёт». Бойскаутское барахло, азы выживания. Правда, я не стал брать у Чака компас, у меня уже был один. Зачем мне два компаса?
– Энергетические батончики? – спрашивает Тоби. – Полевые рационы?
– Да, один-два говенных энергобатончика с фальшивыми орехами. И пакетик леденцов от кашля. Я все это взял. И еще.
Он делает паузу.
– И еще что? Продолжай.
– Ну ладно, но я тебя предупреждаю: это гадость. Я прихватил кусок Чака. Отрезал карманным ножом. Отпилил кое-как. У Чака была складная водонепроницаемая куртка, в нее и завернул. Мы все знали, что на Бесплодных равнинах есть особо нечего – нам об этом говорили на инструктаже. Кролики, земляные белки, грибы, но у меня не было бы времени искать все это. И вообще, если питаться только кроликами, можно умереть с голоду. Они это так и называли – «кроличий голод». В них нет ни капли жира. Это как та самая диета, как ее. Которая из одних белков. Тело начинает растворять собственные мышцы. Сердце истончается.
– А какую часть Чака ты взял? – спрашивает Тоби. Она удивлена, что не чувствует брезгливости: а ведь когда-то брезгливость еще была доступной роскошью.
– Самую жирную, – отвечает Зеб. – Бескостную. Ту, которую взяла бы и ты. И любой другой здравомыслящий человек.
– А совесть тебя не мучила? Слушай, хватит похлопывать меня по попе.
– Почему? Нет, не очень мучила. Он бы сделал то же самое. А поглаживать можно? Так лучше?
– Я слишком тощая, – говорит Тоби.
– Да, немножко амортизации не помешало бы. Я принесу тебе коробку шоколада, если достану. Надо тебя откормить.
– И цветов. Давай ухаживай как положено, по полному списку. Я уверена, что для тебя это будет первый раз.
– Я могу тебя удивить. Мне случалось в жизни подносить букеты. Своеобразные.
– Давай рассказывай дальше, – говорит Тоби. Ей не хочется думать о букетах Зеба – ни о том, какого рода были эти букеты, ни о том, кому он их преподносил. – Вот ты сидишь. Вдали стоят горы, рядом лежит Чак – частью на земле перед тобой, частью у тебя в кармане. Сколько было времени?
– Часа три дня. Может, пять. Черт, а может, и восемь – в это время там еще светло. Я потерял счет времени. Была середина июля, я уже говорил? Летом в тех широтах солнце почти не заходит. Вроде как приседает за горизонт, оставляя такую красивую красную каемку. И через несколько часов опять выходит. Те места южнее Северного полярного круга, но все равно так далеко на север, что там тундра: двухсотлетние ивы как растущие вбок виноградные лозы, а все цветы цветут разом, потому что лето там длиной всего недели две. Хотя в тот момент мне было не до цветов.
Он подумал, что лучше убрать Чака с глаз долой. Снова надел на него штаны и засунул тело под крыло топтера. Поменялся с ним ботинками – тем более что у Чака ботинки были лучше, и размер более-менее подходил – и высунул одну ногу наружу, пускай издали кажется, что это Зеб там лежит. Он решил, что если погибнет, ему будет комфортней существовать – во всяком случае, на ближайшее будущее.
Когда в штаб-квартире «Медведелёта» заметят, что связь с бортом потеряна, они обязательно пошлют кого-нибудь на поиски. Скорее всего, ремонтников. Те увидят, что ремонтировать уже нечего и что никто не сидит рядом с обломками, размахивая белым платочком и посылая в небо ракеты, и улетят обратно. Таков был этический принцип организации: не тратить топливо на покойников. У Матери-Природы все пойдет в дело. О погребении позаботятся медведи, волки, росомахи, вороны и иже с ними.
Но медведелётчики – не единственные, кто прилетит посмотреть. Операцию мозгового захвата Чак проводил явно не с ведома «Медведелёта»: иначе действовал бы прямо на базе, и у него были бы помощники. И от Зеба уже осталась бы только лоботомизированная шкурка, брошенная в каком-нибудь зомби-городке, где выработаны все шахты и выкачана вся нефть – ходячий труп с фальшивым паспортом и без отпечатков пальцев. Хотя, скорее всего, они и это не потрудились бы сделать – ведь Зеба и так никто не хватится.
Значит, наниматели Чака сидят не в «Медведелёте», а где-то еще. И оттуда они звонили. Но где это? В Норман-Уэллсе, в Уайтхорсе? Где угодно, лишь бы там взлетная полоса была. Зебу следовало немедленно убраться от места крушения как можно дальше и найти убежище, прикрытое с воздуха. А в практически голой тундре это не так просто.
Впрочем, безли и гризлые это умеют, хотя они крупней человека. Но у них больше опыта.
Барак
Зеб двинулся в путь. Топтер упал на пологом склоне, понижающемся к западу; на запад Зеб и направился. Он примерно представлял себе карту этого места. Жаль, что у него не было бумажной карты – в полете они всегда держали такую на коленях на случай, если откажет электронная навигация.
Идти по тундре было тяжело. Губчатая, насыщенная влагой почва со скрытыми бочагами, скользким мхом и предательскими травяными кочками. Из торфа торчали куски старинных самолетов – там стойка, здесь лопасть пропеллера. Все, что осталось от смелых пилотов двадцатого века, водивших свои кукурузники над тундрой и застигнутых туманом или порывом ветра. Зеб увидел гриб и оставил его на месте: он мало что знал о грибах, но среди них были галлюциногенные. Только этого не хватало: чтобы ему явился грибной бог, вокруг которого порхают зеленые и фиолетовые медвежата на крохотных крылышках, склабясь крохотными розовыми пастями. День и без того выдался – чистый сюр.
Медвежье ружье было заряжено, и спрей Зеб тоже держал наготове. Если случайно наскочишь на медведя, он нападает. Спрей можно использовать, лишь когда станут видны белки глаз (налитые кровью), так что нужно все делать очень быстро – распылить спрей и тут же стрелять. Если это безли, обычно так и получается. Но гризлые подстерегают в засаде и нападают со спины.
На выходе мокрого песка Зеб нашел отпечаток – левой передней лапы, а чуть дальше свежий помет. Скорее всего, они следят за ним в эту самую минуту. Они знают, что у него при себе кровавый кусок мяса, как бы аккуратно Зеб ни упаковал свою ношу – просто чуют. И его страх тоже чуют.
Ноги у него уже промокли насквозь, несмотря на суперботинки Чака. На ноге они сидели тоже совсем не так хорошо, как рассчитывал Зеб. Он живо представлял себе, как его ступни в носках превращаются в бледные, пузырчатые от водяных мозолей лепешки. Для отвлечения – от ног, от медведей, от мертвого Чака, от всего на свете – и подачи предупредительного сигнала медведям, чтобы никто ни на кого не наскочил врасплох, он запел. Эта привычка осталась у него с так называемой юности, когда он насвистывал в темноте – в очередной темноте, в которую его запирали. В темноте, во тьме, которая была рядом всегда – даже при свете.
- Папа – сволочь, мама – блядь,
- Тихо! Тихо! Ну-ка спать!
Нет, слово «спать» сейчас совершенно не к месту, хотя он жутко устал. Нужно идти. Марш-бросок.
- Кретин, кретин, кретин, кретин,
- Не будь ты психом, не шел бы сейчас один.
Ниже по склону виднелась полоса зелени погуще – значит, там ручей. Зеб направился туда, перебираясь через холмики, мох и пятна голой гальки, которую вытолкнула из земли наружу вечная мерзлота. В тот день было не особенно холодно, а на солнце, по правде сказать, даже жарко, но на Зеба по-прежнему налетали приступы дрожи – словно мокрая собака отряхивается. Он покрепче запахнул на себе жилет Чака.
Уже почти дойдя до ручья – даже небольшой речки, с быстрым течением, – Зеб подумал: а что, если там «жучки»? В жилете. Что, если где-нибудь в подкладке зашит крохотный передатчик? Они подумают, что Чак жив и куда-то идет, но почему-то не отвечает на телефонные звонки. И пошлют за ним кого-нибудь.
Он снял жилет, вошел в ручей, прошел вброд до стремнины и засунул жилет под воду. В подкладке оказалось полно воздуха, и жилет никак не тонул. Можно было напихать камней в карманы, но Зеб сделал еще лучше: он отпустил жилет, и тот поплыл прочь. Зеб смотрел, как жилет диковинной раздутой медузой уплывает все дальше и дальше по течению, и думал: «Блин, что-то я совсем плохо соображаю в последнее время. Надо сосредоточиться».
Он зачерпнул рукой холодной воды и попил. «Не пей слишком много, отяжелеешь». И задумался, не проглотил ли он сейчас с водой бобровую мочу и не заболеет ли теперь бобровой лихорадкой. Но, конечно, тут на севере никаких бобров нет. Чем можно заразиться от волков? Бешенством – но не через выпитую воду. Не растворен ли в воде лосиный помет? С крохотными червячками, которые сразу примутся бурить ходы у Зеба в потрохах. Какие-нибудь печеночные сосальщики.
«Что ты стоишь в воде и сам с собой разговариваешь вслух? – спросил он себя. – Тут все видно как на ладони. Иди по долине ручья. Держись кустов, прячься от чужих глаз». Он мысленно подсчитывал: сколько времени должно пройти с момента, когда Чак не ответил на телефон? Часа два, наверное; сначала паника, вопросы: «что могло случиться?», потом соберут совещание, телеконференцию там или как, будут обмениваться сообщениями, крутить динамо, спихивать друг на друга ответственность и кидаться обвиняющими намеками. И всякое такое.
Здесь, в затишке, ивы росли ему по плечо. Травы, кустарник. Мухи, мошка, москиты. Говорили, что от них карибу иногда сходят с ума. И тогда бросаются в торфяную жижу заболоченных озер, дрейфуют, гребя широкими копытами-снегоступами – бег в никуда. Зеб попрыскал на себя репеллентом от насекомых, но не слишком щедро: репеллент придется экономить. Зеб шел на запад, где, насколько он помнил – во всяком случае, ему казалось, что помнил, – он должен был наткнуться на бывшую трассу Канол. От нее мало что осталось, но он летал здесь и вроде бы видел с воздуха, что на трассе еще стоят какие-то строения. Там барак, тут один-два сарая.
Он взял направление на покосившийся телеграфный столб – старинный, еще деревянный. У столба обнаружился ком колючей проволоки и скелет карибу, запутавшийся в нем рогами. Дальше – бочка из-под нефтепродуктов, потом еще две бочки, потом красный грузовик в почти идеальном состоянии, но без шин. Наверняка их забрали местные охотники, увезли на своих полноприводных машинах, давно, когда люди еще могли позволить себе топливо для поездок в такую даль за дичью. У грузовика были округлые линии, сглаженный силуэт, характерный для 1940-х, когда строилась дорога. Какому-то чиновнику во время Второй мировой пришло в голову транспортировать нефть на материк по трубопроводу, в обход подводных лодок, курсирующих вдоль побережья. На постройку дороги привезли толпу солдат с юга, в основном черных. Те никогда не сталкивались с холодами ниже нуля, пятидневными буранами и круглосуточной темнотой; бедняги, должно быть, решили, что попали в ад. Согласно местным легендам, треть из них сошла с ума. Зеб их вполне понимал – здесь легко сойти с ума даже и без буранов.
Одна нога уже болела – наверняка пузырь, но Зеб не мог себе позволить остановиться и посмотреть. Он ковылял по мятой крошащейся ленте дороги, держась поближе к кустам и все время косясь на небо, и набрел на барак. Длинное низкое здание, деревянное, без двери, но с крышей.
Скорей в полумрак. И ждать. Было очень тихо.
Листы металла, словно со свалки, обломки дерева, ржавая проволока. Вон там, наверное, стояли койки. Вспоротое, разодранное кресло. Корпус радиоприемника – округлый, словно каравай хлеба, характерный дизайн сороковых. Круглая ручка еще на месте. Ложка. Останки печки. Запах гудрона. Солнечный луч пробивается через трещину крыши, и в нем танцуют пылинки. Волокна давно ушедшего отчаяния, выгоревшей добела скорби.
Ждать было хуже, чем идти. Его тело местами пульсировало: ноги, сердце. Он дышал оглушительно громко.
Тут ему пришло в голову: а что, если на нем самом жучки? Что, если Чак постарался – так, на всякий случай: дождался, пока Зеб на что-нибудь отвлечется, и подсунул ему в задний карман мини-передатчик. Если так, то его песенка спета; они прямо сейчас слушают его дыхание. Они даже слышали, как он пел. Они его запеленгуют, пальнут мини-ракетой, и привет.
Ничего не поделаешь.
Он не знал, сколько прошло времени – наверно, около часу, – когда вдали показался низко летящий орнидрон. Да, с северо-востока; значит, из Норман-Уэллса. Орнидрон подлетел прямо к месту аварии и сделал пару заходов, передавая изображения на базу. Тот, кто сидел на базе и управлял им, видимо, принял решение. Орнидрон выстрелил в сломанное крыло, под которым лежал Чак. Залпов было несколько. Потом орнидрон взорвал все, что осталось от топтера. Зеб как будто слышал переговоры за пультом: «Ни один не выжил. Ты уверен? Не может быть. Оба? Ну наверное. В любом случае сейчас там уже точно никого не осталось. Выжженная земля».
Он затаил дыхание, но дрон не полетел по следу уплывшего жилета и не обратил внимания на допотопный барак у старинной трассы; он развернулся и улетел туда, откуда прибыл. Должно быть, они хотели попасть на место первыми и замести следы до появления ремонтников из «Медведелёта».
Ремонтники, конечно, появились – как обычно, не спеша. «Ну шевелитесь же, – думал Зеб. – Я есть хочу». Они зависли над останками топтера, наверняка восклицая «О Боже!», «Бедняги» и «У них не было ни единого шанса». Потом они тоже улетели – обратно в направлении Уайтхорса.
Спустились красные сумерки, сгустился туман, и похолодало. Зеб развел костерок, подложив металлический лист, чтобы не сжечь весь барак – костер был внутри барака, чтобы дым поднимался к потолку и рассеивался. Никаких предательских столбов дыма. Зебу удалось чуть-чуть согреться. Потом он приготовил еду. И поел.
– Вот так просто? – спрашивает Тоби. – Как-то очень быстро все получилось.
– Что?
– Ну, все-таки… Я хочу сказать, что…
– Ты хочешь сказать, что это было мясо? Вдруг решила встать в позу добродетельной вегетарианки?
– Не вредничай.
– Или ты хотела, чтобы я сперва прочитал молитву? Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты сотворил Чака таким дебилом и через него уготовал мне пищу благодаря его самопожертвованию, похвальному, хотя и совершенно непреднамеренному и проистекшему из его собственной глупости?
– Ты шутишь.
– Тогда не прикидывайся первой вертоградаршей.
– Эй! Ты, между прочим, сам из старых вертоградарей! Ты был правой рукой Адама Первого, столпом…
– В то время я еще не был никаким столпом, бля. Впрочем, это уже совсем другая история.
Йети
Конечно, это было непросто. Зеб нарезал мясо на маленькие кусочки и нанизал на кусок ржавой проволоки вместо шампура, при этом читая себе лекцию: «Это – Питание, с большой буквы Пэ! Неужели ты думаешь выбраться отсюда без Питания?» Глотать все равно было трудно. Хорошо, что Зеб умел абстрагироваться от вещей, оказавшихся у него во рту. В жизни ему часто приходилось это делать – взять хотя бы отвратительную «нямку» в «Медведелёте». Очень вероятно, что она и вправду по крайней мере частично состояла из нямки, популярной белковой добавки, поставляемой в сушеном измельченном виде.
Этот полезный навык он приобрел еще в детстве. В арсенале воспитующих наказаний преподобного было и такое: кто говорит каку, тот должен съесть каку. Зеб учился не слышать запаха, не чувствовать вкуса, не думать; совсем как три обезьянки, слепая, глухая и немая, что сидели на подзеркальнике у матери, закрывая лапами глаза, уши и рот: «Не вижу плохого», «Не слышу плохого», «Не говорю плохого». Ролевые модели, которым старательно следовала мать. «Тебя стошнило? Что это у тебя на подбородке?» – «Он сказал: «Ты пес, так жри свою блевотину». Он сунул меня головой в…» – «Ай-яй-яй, Зебулон, как нехорошо лгать! Ты прекрасно знаешь, что папочка никогда не станет так делать. Он тебя любит!»
Засунуть воспоминания в подвал, захлопнуть люк и придавить камнем. Сейчас важнее думать о том, как бы согреться. В углу валялся ломкий от старости рубероид – толку мало, но хоть что-то. Зеб расстелил его на полу – хотя бы отчасти сохранит тепло и защитит от сырости. Сухие носки помогли бы; Зеб сложил палочки шалашиком возле умирающего костра и растянул на них носки, надеясь, что те не прогорят. Потом взял несколько камней среднего размера и нагрел на углях. Обмотал застывшие ноги пуховым жилетом, достал два космических одеяла из металлизированной ткани, свое и Чака, завернулся в них и сунул нагретые камни под себя. Держать сердцевину в тепле – первая заповедь. Заботиться о ногах, чтобы они не отвалились – это всегда полезно, если надо куда-то идти. Помнить, что от рук без пальцев мало толку при выполнении мелких движений – например, ими не завяжешь шнурки.
Не рычал ли кто во тьме за стенами барака, не царапался ли в стены? Двери нет – заходи кто хочешь. Росомаха, волк, медведь. Возможно, запах дыма их отпугнул. Спал ли Зеб? Наверное. Рассвело очень быстро.
- Он проснулся с песней на устах.
- Я в подштанниках блуждал,
- Свою милку повстречал –
- Моя милка хоть куда,
- Волосата, как…[3]
Перекореженная хрипелка-кричалка с какого-то мальчишника. Впрочем, бодрит. Мгновенное братание пещерных людей. «Заткнись, – скомандовал он сам себе. – Ты хочешь умереть с похабщиной на устах?» «Какая разница – все равно никто не слышит», – парировал он.
Носки не то чтобы высохли, но стали суше. Вот болван – надо было забрать носки у Чака, содрать их с ног, белесых, как рыбье брюхо; этих ног уже и на свете нет, а в памяти они застряли. Зеб надел носки, сложил космические одеяла и запихал в карманы – стоило вытащить эти дурацкие одеяла из чехла, и обратно они уже ни за что не лезли. Он подобрал остатки пикника и полезные скаутские прибамбасы и осторожно выглянул в дверной проем.
Кругом лежал туман. Серый, словно эмфиземный кашель. И хорошо – в таком тумане летучие соглядатаи особо не полетают. Хотя для самого Зеба не так уж хорошо – он теперь не будет видеть, куда идет. Впрочем, ему достаточно было следовать по дороге, вымощенной желтым кирпичом, минус кирпичи и минус Изумрудный город.
Возможных направлений было только два: на северо-восток в Норман-Уэллс по разрушенной дороге, заваленной валунами с ледника; или на юго-запад в Уайтхорс по холодным, туманным долинам меж горами. Оба пункта назначения лежали очень далеко, и если бы Зеб держал пари, он на себя точно не поставил бы. Но путь на Уайтхорс на Юконской стороне вливался в настоящую дорогу, по которой ездили моторизованные средства передвижения. Там больше шансов, что его кто-нибудь подвезет. Вообще шансов на что-нибудь. Или на что-нибудь совсем другое.
Он двинулся в туман, стараясь держаться усыпанной галькой низины. Будь он героем фильма, он бы сейчас растворился в белизне, и по ней пошли бы титры. Но с этим торопиться некуда – он еще живой. «Лови момент», – сказал он сам себе.
- Люблю бродить по булкам шлюх и песни распевать,
- Хотя они тупые, их век бы не видать.
- Ёба-на, ёба-на, охохо, ахаха…
«Ты отвратительно несерьезно относишься к своему положению!» – возмутился он.
«Ой, заткнись, я это всю жизнь слышу», – ответил он.
Разговаривать с самим собой – плохой признак. Вслух – еще хуже. Впрочем, он пока не галлюцинирует; хотя откуда ему это знать?
Солнце растопило туман часов в одиннадцать; небо стало ярко-синим; подул ветер. С высоты за Зебом следили два ворона, время от времени пикируя, чтобы посмотреть на него поближе нахальными глазами. Они ждали, когда кто-нибудь начнет его есть и они смогут тоже урвать кусочек: вороны не слишком ловки и не могут нанести жертве первый удар, поэтому предпочитают охотиться вместе с охотниками. Он съел энергобатончик. Он дошел до ручья с разрушенным мостом и был вынужден решать, что лучше: изувеченные босые ноги или мокрые ботинки. Он выбрал ботинки, но сперва снял носки. Вода была очень х… холодная. «Вот х… холодная вода», – сказал Зеб, и это была чистая правда.
Тут ему снова пришлось решать, что лучше – опять надеть носки и намочить их, или идти дальше в ботинках на босу ногу, растравляя мозоль, которая у него уже была. Сами ботинки стремительно становились почти бесполезными.
– В общем, ты улавливаешь картину, – говорит он. – Я шел вперед и вперед. День напролет, под ветром и солнцем.
– И как далеко ты ушел? – спрашивает Тоби.
– А как это измерить? Там мили не считаются. Недостаточно далеко, это все, что я могу сказать. И у меня кончились припасы.
Ночь он провел, притулившись меж двух валунов и дрожа как осиновый лист, несмотря на два космических одеяла и костер из сухого тальника и карликовой березы, найденной у ручья.
К тому времени, как на небе зарозовел следующий закат, у Зеба уже не осталось никакой еды. Он перестал бояться медведей; наоборот, ему не терпелось встретить медведя, желательно пожирнее, и вонзить в него зубы. Ему снились мелкие шарики жира, кружащие в воздухе, как снежинки, или, точнее, градины; во сне они садились на тело Зеба, проникая во все щелочки и уголки, подпитывая. Мозг на сто процентов состоит из холестерина, и Зеб нуждался в подпитке, жаждал ее. Он мысленным взором видел собственные внутренности: ребра, а между ними пустота, полость, усаженная зубами. Если в такой жиропад высунуть язык, то воздух будет на вкус как куриный бульон.
В сумерках он увидел карибу. Зеб смотрел на карибу, а карибу – на Зеба. Слишком далеко, чтобы стрелять. Слишком быстро бегают, нет смысла гнаться. Они скользят по болотной топи, словно на лыжах.
Следующий день выдался солнечным и почти жарким; дальние предметы казались зыбкими по краям, как мираж. Был ли Зеб все еще голоден? Трудно сказать. Он чувствовал, как слова испаряются из него и сгорают на солнце. Скоро он останется бессловесным, а сможет ли он тогда думать? Нет и да, да и нет. Он сольется со всем остальным, со всем, что заполняет пространство, через которое он движется, и уже не будет стеклянной панели языка, чтобы отделить Зеба от не-Зеба. Не-Зеб просачивался в Зеба, обходя защитные сооружения, обтекая края, разъедая форму, врастая корешками в голову – как волосы растут, только наоборот. Скоро он зарастет совсем, сровняется со мхом. Ему нужно двигаться, не останавливаться, хранить свои очертания, определять себя через волну, которую гонит он сам, через след, оставляемый им в воздухе. Бодрствовать, быть начеку, прислушиваться к… к чему? К тому, что может напасть на него, остановить, сделать его мертвым.
У следующих развалин моста из низких кустов, окаймляющих речку, из воздуха сгустился медведь. Не было, и вдруг стал, и встал на задние лапы, застигнутый врасплох, предлагающий себя. Был ли рык, рев, вонь? Наверняка, но Зеб не помнит. Должно быть, он брызнул медведю в глаза спреем и застрелил в упор, но фотографических свидетельств не сохранилось.
Следующее, что он помнит, – как разделывал медвежью тушу, кромсая смешным ножичком. Руки по запястье в крови, а потом счастье, клад: мясо, мех. Два ворона держались на расстоянии, раскатывая «Р» и ожидая своей очереди; куски для него, потом ошметки для них.
«Не увлекайся», – сказал он сам себе, жуя и вспоминая, как опасно обожраться на пустой желудок, особенно такой жирной, сверхконцентрированной пищей. «Ешь понемножку». Голос доносился приглушенно, словно Зеб сам себе звонил по телефону из-под земли. Какой вкус был у этого мяса? Какая разница. Зеб съел сердце медведя – заговорит ли он теперь по-медвежьи?
Посмотрим на Зеба назавтра, или через день, или когда там он прошел полпути незнамо куда – хотя он по-прежнему верит, что шел куда-то. У него новая обувь – обмотки из медвежьей шкуры, мехом внутрь, перевязанные полосками кожи, как на комиксах про пещерных людей. У него меховой плащ, меховая шапка, и все это по совместительству работает как спальный мешок, хотя оно тяжелое и вонючее. Зеб тащит груз мяса и большой шмат сала. Будь у него время, он перетопил бы сало и размазал по телу, а так он просто закидывает его в себя кусками, словно заправляясь горючим. Это и есть горючее, и Зеб его расходует; он чувствует, как оно сгорает внутри и идет теплом по жилам.
«Прощай, забота», – распевает он. Вороны по-прежнему следуют за ним как тени. Теперь их четыре; он для них словно Гаммельнский крысолов. «Как ко мне на подоконник прилетела птица счастья», – поет он воронам. Его мать обожала подобный бодрый ритмичный ретромусор. И еще жизнерадостные религиозные гимны.
И вдруг вдали появился велосипедист. Он ехал навстречу Зебу по лежащему впереди относительно гладкому куску дороги. Какой-нибудь любитель приключений и горного туризма, сторчавшийся на эндорфинах. Такие время от времени появлялись в Уайтхорсе – пополняли запасы прибамбасов в магазинах для рыболовов и охотников и следовали дальше, в холмы, желая испытать себя на старинной трассе Канол. Они обычно доезжали до барака. Потом ехали обратно. Возвращались худей, жилистей и безумней, чем были. Иные рассказывали, как их похитили инопланетяне, иные – про говорящих лис, иные – про человеческие голоса, звучащие над тундрой в ночи. Или получеловеческие. Которые их куда-то манили.
Нет, велосипедистов двое. Один сильно отстал. Должно быть, размолвка влюбленных, предполагает Зеб. В нормальной ситуации они держались бы вместе.
Горные велосипеды – чрезвычайно полезная вещь. А уж седельные сумки и то, что в них может оказаться, – тем более.
Зеб прячется в кустах у ручья и ждет, чтобы первый велосипедист проехал мимо. Женщина, блондинка, бедра как у богини или орехокола из нержавеющей стали, облитые глянцевым эластиком велосипедного костюма. Глаза под обтекаемым шлемом сощурены навстречу ветру, узкие бровки над модными очками-консервами, защитой от ветра и солнца, убийственно хмурятся. Вот она уже удаляется, трюх-трюх по буграм, задница тугая, как силиконовая титька, а вот и ее парень едет, нарочно приотстал, мрачный, углы рта опущены. Он ее чем-то разозлил, и она его за это наказывает. Его гнетет несчастье, в котором Зеб может помочь.
– Арррр! – орет Зеб. Или что-то вроде.
– Арррр? – смеясь, повторяет Тоби.
– Ну, в общем, ты поняла.
Короче говоря: он, замотанный в шкуру, с рыком выскакивает из кустов на парня. Жертва испускает сдавленный вопль и с лязгом валится набок. Даже не нужно бить беднягу по голове, он сам вырубился. Просто забрать велосипед с седельными сумками и скрыться вдали.
Когда Зеб наконец оборачивается, он видит, что девушка остановилась. Сердито сжатый рот, наверное, открылся буквой «О», означающей потрясение. Теперь она пожалеет, что отругала своего несчастного хахаля. Обладательница монументальных бедер примчится назад, встанет на колени и будет нежно ухаживать за ним, качать и баюкать, промокать царапины и проливать слезы. Парень придет в себя, заглянет, придурок этакий, в ее глаза, не защищенные очками, и она все простит (в чем бы это «все» ни заключалось). Потом они вызовут спасателей по ее мобильнику.
Что они скажут? Догадаться нетрудно.
Скрывшись из виду (съехав под горку и свернув в сторону), он открывает седельные сумки. Сокровище: набор энергобатончиков, какая-то квазисырная паста, ветровка, мини-печка с баллончиком горючего, пара сухих носков и запасные ботинки с толстыми подошвами – они малы, но можно вырезать дырку для пальцев. И мобильник. И самое лучшее – удостоверение личности: это ему очень даже пригодится. Он разбивает мобильник на мелкие кусочки и прячет под камнем, а потом тащится вбок от дороги, по тундре, с велосипедом и всем добром.
Ему повезло – на пути попадается вскрытая пальза: наверное, злобный гризлый взрыл ее, охотясь на увертливых земляных белок. Зеб вместе с велосипедом зарывается во влажную черную землю, оставив наблюдательный зазор меж комьев. После длительного мокрого ожидания появляется топтер. Он зависает над местом, где, должно быть, обнимаются сейчас юные велосипедисты, дрожа и благословляя свою счастливую звезду. Из топтера опускается лестница, по ней через некоторое время взбираются влюбленные, и топтер уносит их в низком, неспешном полете, хлоп-хлоп, трюх-трюх. Зато теперь им будет о чем рассказать.
И они рассказывают. Уже оказавшись в Уайтхорсе, сбросив по дороге медвежьи шкуры и утопив их в ручье, сменив одежду на новую (дар Фортуны), удачно проголосовав на трассе, освежив внешность и переменив прическу, доработав кое-что в удостоверении личности велосипедиста и заправившись наличными через вызубренный на память «черный ход», Зеб прочитал все, что писали об этой истории.
Значит, йети существуют на самом деле! Они просто перекочевали в Бесплодные равнины в горах Маккензи. Нет, это не мог быть медведь – медведи не умеют ездить на горных велосипедах. И вообще эта тварь была семи футов росту, с глазами совсем как у человека, ужасно пахла и обладала почти человеческим разумом. Велосипедисты даже публикуют фотографию, снятую на мобильник девушки: бурое пятно, обведенное красным овалом (чтобы выделить на фоне всех остальных бурых пятен).
Не прошло и недели, как охотники за йети со всего мира скучковались и организовали экспедицию на место открытия. Они прочесывают район, где обнаружен йети, на предмет отпечатков ног, пучков шерсти и кучек помета. Глава экспедиции заявляет, что скоро у них будут решающие образцы ДНК, и тогда скептики будут посрамлены, и все увидят, какие они косные, растленные, ходячие окаменелости, отрицатели правды.
Очень скоро.
История Зеба, Спасибо и Спокойной Ночи
Спасибо, что принесли мне эту рыбу.
«Спасибо» значит… «Спасибо» значит, что вы сделали мне что-то хорошее. Или что-то такое, про что вы думали, что оно хорошее. Вы дали мне рыбу и этим сделали мне хорошее. Поэтому я теперь рада. И больше всего я рада потому, что вы хотели, чтобы я была рада. Вот что значит «спасибо».
Нет, не нужно давать мне еще одну рыбу. Я и без того уже достаточно рада.
Вы разве не хотите услышать про Зеба?
Тогда вам надо слушать.
После того как Зеб вернулся обратно с больших и высоких гор, на вершине которых лежал снег, после того, как он снял шкуру с медведя и надел ее на себя, он сказал медведю «спасибо». Духу медведя.
Потому что медведь его не съел и позволил ему съесть себя. И потому, что медведь дал Зебу свою шкуру с мехом, чтобы Зеб мог ее надеть.
«Дух» – это та часть вас, которая не умирает, когда умирает тело.
«Умирает»… это то, что делает рыба, когда ее ловят, а потом жарят.
Нет, умирают не только рыбы. Люди тоже умирают.
Да. Все.
Да, вы тоже. Когда-нибудь. Но не сейчас. Еще очень не скоро.
Я не знаю, почему. Так сделал Коростель.
Потому что…
Потому что, если бы никто никогда не умирал, а все только рожали все больше и больше детей, мир скоро переполнился бы, и в нем совсем не было бы места.
Нет, вас не будут жарить на огне, когда вы умрете.
Потому что вы не рыбы.
Нет, медведь тоже не был рыбой. И он умер как медведь. Не как рыба. Поэтому его не жарили на огне.
Да, может быть, Зеб сказал «спасибо» и Орикс тоже. Помимо того, что он сказал «спасибо» медведю.
Потому что Орикс позволила Зебу съесть одного из ее Детей. Она знает, что некоторые из ее Детей едят других; потому что они так устроены. Те, у которых острые зубы. И Орикс понимала, что Зеб тоже может съесть кого-нибудь из ее Детей, потому что он был очень голодный.
Я не знаю, сказал ли Зеб «спасибо» Коростелю. Может быть, вы спросите его сами, когда в следующий раз увидите. Но вообще Коростель не занимается медведями. Медведями занимается Орикс.
Зеб надел шкуру медведя, чтобы не замерзнуть.
Потому что ему было очень холодно. Потому что в тех местах гораздо холоднее. Из-за того, что там кругом очень большие горы со снегом наверху.
«Снег» – это вода, которая замерзла и превратилась в маленькие кусочки. Они называются снежинками. «Замерзла» значит, что вода стала твердая, как камень.
Нет, снежинки не имеют никакого отношения к Джимми-Снежнычеловеку. Я не знаю, почему часть его имени похожа на снежинку.
Я хватаюсь за голову руками, потому что у меня началась головная боль. Это значит, что у меня болит внутри головы.
Спасибо. Я уверена, что если вы надо мной помурлыкаете, это поможет. И еще мне поможет, если вы не будете задавать столько вопросов.
Да, возможно, что у Аманды тоже болит голова. Или что-нибудь другое болит. Может быть, вы над ней помурлыкаете.
Думаю, на сегодня уже хватит истории Зеба. Смотрите, луна восходит. Вам пора в кровать.
Я знаю, что вы не спите в кроватях. А я сплю в кровати. Поэтому мне пора в кровать. Спокойной ночи.
«Спокойной ночи» значит – я надеюсь, что вы будете спать хорошо, и утром проснетесь целыми и невредимыми, и с вами ничего плохого не случится за ночь.
Ну, например… Нет, я не знаю, что плохого с вами может случиться.
Спокойной ночи.
Шрамы
Шрамы
Она старалась это не афишировать – каждую ночь, рассказав историю Детям Коростеля, исчезала тайком, одна, и встречалась с Зебом так, чтобы никто не видел. Но ей никого не удается обмануть – по крайней мере, никого из людей.
Конечно, им смешно. Во всяком случае, молодым – Американской Лисице, Голубянке, Крозу и Шекки, Колибри. Наверное, даже Рен. Даже Аманде. Любая тень романтических чувств у «хронологически превосходящих граждан» – законная добыча шутников. Для молодежи любовные страдания несовместимы с морщинами, а сочетание того и другого вызывает смех. Наступает момент, когда пышное и сочное становится черствым и жестким, кишащее жизнью море обращается в бесплодный песок. По мнению зрителей, у Тоби этот момент уже наступил и прошел. Она готовит настои трав, собирает грибы, прикладывает опарышей к ранам, ходит за пчелами и сводит бородавки. Это все – занятия для умудренной жизнью старухи. Вот пускай она и занимается своим делом.
А Зеб для них, наверно, скорее загадочен, чем смешон. С точки зрения социобиологии он должен делать то, что лучше всего получается у альфа-самцов: прыгать на аппетитных молодок, принадлежащих ему по праву, брюхатить их, передавать свои гены через самок, способных к деторождению. В отличие от нее, Тоби. Так почему он зря тратит свою драгоценную сперму, удивляются они. Вместо того чтобы мудро инвестировать ее – например, в яичники, охотно предоставленные Американской Лисицей. Сама Американская Лисица почти наверняка придерживается именно такого мнения, судя по языку тела: она хлопает ресницами, выпячивает груди, откидывает назад копну волос растопыренной пятерней, демонстрирует подмышки. Сигналы не менее ясны, чем синяя задница у Детей Коростеля. Бабуины в течке.
«Прекрати!» – командует себе Тоби. Вот так все и начинается среди выброшенных на необитаемый остров, жертв кораблекрушения, жителей города в осаде: ревность, раздоры, брешь в стене защиты групповых интересов. А потом враг, убийца тенью проскальзывает в дверь, которую мы забыли запереть, потому что нас отвлекли наши черные двойники. Мы в это время нянчили свои мелкие ненависти, взращивали затаенные обиды, орали друг на друга и били посуду.
Замкнутые группы в кольце врагов подвержены такому нагноению: склонны к мести и вражде. Вертоградари в свое время устраивали сеансы глубинного самоосознания – именно для того, чтобы с этим бороться.
С тех самых пор, как Зеб и Тоби стали любовниками, Тоби начали сниться сны, в которых Зеб исчезает. Он и вправду исчезает, когда она спит, потому что на ее односпальном ложе – прямоугольном выступе, торчащем из пола в комнатке-чулане, – недостаточно места для двоих. Так что Зеб каждый раз посреди ночи удаляется крадучись, будто в древней комедии, действие которой происходит в английской загородной усадьбе – и ощупью в темноте возвращается к себе в закуток.
Но в снах он исчезает по-настоящему: уходит далеко, и никто не знает, куда. А Тоби стоит у забора, окружающего саманный дом, – смотрит на дорогу, уже заросшую лианами кудзу, засыпанную обломками разрушенных домов и разбитых машин. Слышится тихое блеянье – или это плач? «Он не вернется, – говорит акварельный голос. – Он больше никогда не вернется».
Голос женский. Кто это? Рен? Аманда? Сама Тоби? Сценарий слащаво-сентиментален, как открытка в пастельных тонах – бодрствующую Тоби он раздражал бы, но во сне она теряет способность иронизировать. Она так плачет, что одежда промокает от слез, фосфоресцирующих слез, мерцающих, как сине-зеленое газовое пламя в том, что становится темнотой – может, Тоби в пещере? Но тут к ней приходит большое животное, похожее на кошку, и начинает ее утешать. Оно трется о ее ногу, мурлыча, как ветер.
Она просыпается и обнаруживает рядом с собой мальчика из Детей Коростеля. Он приподнял край отсыревшей простыни, которой обмотана Тоби, и осторожно гладит ее ногу. От него пахнет апельсинами и чем-то еще. Цитрусовый освежитель воздуха. Они все так пахнут, но молодые – сильнее.
– Что ты делаешь? – спрашивает она, изо всех сил стараясь говорить спокойно. «У меня жутко грязные ногти на ногах», – думает она. Обломанные и грязные. Маникюрные ножницы; добавить в список для восторгания. Кожа у Тоби грубая по сравнению с идеальной кожей руки мальчика. Это он светится изнутри, или у него кожа настолько тонко проработана, что отражает свет?
– О Тоби, у тебя внизу ноги, – говорит мальчик. – Как у нас.
– Да, – соглашается она. – Ноги.
– А у тебя есть груди, о Тоби?
– Да, и они тоже, – она улыбается.
– У тебя две? Две груди?
– Да, – отвечает она, воздерживаясь от соблазна добавить «пока что». Интересно, а чего он ждал – одну грудь, три, а может, четыре или шесть, как у собак? Видел ли он когда-нибудь собаку вблизи?
– О Тоби, а у тебя между ног выйдет ребенок? Потом, когда ты станешь синей?
О чем он спрашивает? О том, могут ли рожать люди вроде нее – не Дети Коростеля? Или о том, может ли рожать она сама?
– Если бы я была моложе, тогда у меня мог бы выйти ребенок. Но не сейчас.
На самом деле возраст тут не главное. Если бы вся ее жизнь до сих пор была другой. Если бы ей тогда не нужны были деньги. Если бы она жила в другой вселенной.
– О Тоби, какая у тебя болезнь? – спрашивает мальчик. – У тебя что-нибудь болит?
Он протягивает ослепительно прекрасные руки, чтобы ее обнять. Не слезы ли это у него в странных зеленых глазах?
– Все в порядке, – отвечает она. – У меня больше уже ничего не болит.
Она продавала яйцеклетки, чтобы заплатить за квартиру – давно, когда еще жила в плебсвилле, еще до того, как попала к вертоградарям. Ей занесли инфекцию. И все ее будущие дети разом перестали существовать. Но ведь она похоронила эту печаль много лет назад. А если и нет, то должна была похоронить. Принимая во внимание общую картину – положение дел с тем, что когда-то называлось человеческой расой, – подобные чувства следует отправить на помойку как бессмысленные.
Она собирается добавить: «У меня внутри шрамы», но вовремя останавливается. «Что такое шрамы, о Тоби?» – это будет следующий вопрос. Тогда придется объяснять, что такое шрамы. «Шрам – это как письмена у тебя на теле. Он напоминает о чем-то таком, что случилось с тобой раньше: например, о том, как у тебя был порез и из него шла кровь. Что такое письмена, о Тоби? Письмена – это метки на куске бумаги… на камне… на плоской поверхности, как песок пляжа, и каждая метка означает звук, а звуки сливаются вместе и означают слово, а слова, соединенные вместе, означают… А как делать эти письмена, о Тоби? Их делают с помощью клавиатуры… нет, когда-то их делали ручкой или карандашом, а карандаш – это… Или палкой. О Тоби, я не понимаю. Ты делаешь метку палкой у себя на коже, чтобы разрезать кожу, и тогда получается шрам, и этот шрам превращается в голос? Он говорит и что-то рассказывает? О Тоби, а можно нам услышать, что говорит шрам? Покажи нам, как делать эти говорящие шрамы!»
Нет, лучше вообще не упоминать о шрамах. А то, чего доброго, Дети Коростеля начнут резать себя на кусочки, пытаясь выпустить наружу голоса.
– Как тебя зовут? – спрашивает она у мальчика.
– Меня зовут Черная Борода, – серьезно отвечает мальчик. Черная Борода, знаменитый пират-убийца? Это милое дитя? У которого к тому же никогда не будет бороды, ведь Коростель ликвидировал всю растительность на теле сотворенного им вида. У многих Детей Коростеля странные имена. Зеб говорит, что их придумывал сам Коростель, у которого было своеобразное чувство юмора. Хотя почему бы Детям Коростеля не носить странные имена, если они сами странные?
– Я рада познакомиться с тобой, о Черная Борода, – говорит Тоби.
– А вы едите свой помет, о Тоби? – спрашивает мальчик. – Как мы? Чтобы листья лучше переваривались?
Это еще что за новости? Съедобные какашки? Об этом Тоби никто не предупреждал!
– Тебе пора вернуться к своей матери, о Черная Борода, – говорит Тоби. – Она, должно быть, беспокоится о тебе.
– Нет, о Тоби. Она знает, что я с тобой. Она говорит, что ты хорошая и добрая, – он улыбается, показывая идеальные зубки. Обаяшка. Они все невероятно привлекательны – как отфотошопленные люди на рекламе косметики. – Ты хорошая, как Коростель. Ты добрая, как Орикс. А у тебя есть крылья, о Тоби?
Он вытягивает шею, пытаясь заглянуть ей за спину. Может быть, когда он ее только что обнимал, он просто хотел украдкой пощупать ей спину – нет ли там выступов, покрытых перьями.
– Нет, – отвечает Тоби. – У меня нет крыльев.
– Когда я вырасту большой, я с тобой спарюсь, – самоотверженно говорит Черная Борода. – Даже если ты… даже если ты будешь совсем чуть-чуть синей. И тогда у тебя будет ребенок! Он вырастет у тебя в костяной пещере! И ты будешь рада!
Совсем чуть-чуть синей. Значит, он ощущает разницу в возрасте, хотя слова «старый» в словаре Детей Коростеля нет.
– Благодарю тебя, о Черная Борода, – говорит Тоби. – А теперь беги. Меня ждет завтрак. И еще я должна пойти посмотреть на Джимми… Джимми-Снежнычеловека, чтобы узнать, не уменьшилась ли его болезнь.
Она садится на кровати и решительно ставит обе ступни на пол, намекая мальчику, что ему пора уходить.
Впрочем, он не воспринимает намека.
– Что такое завтрак, о Тоби? – спрашивает он. Она и забыла, у них не бывает приемов пищи как таковых. Они пасутся непрерывно, как все травоядные.
Он разглядывает ее бинокль, тычет пальцем в стопку простыней. Гладит винтовку, стоящую в углу. Точно так же вел бы себя и человеческий ребенок: бесцельно вертел что-нибудь в руках или ковырял с любопытством.
– Это твой завтрак?