На золотом крыльце сидели... (сборник) Толстая Татьяна
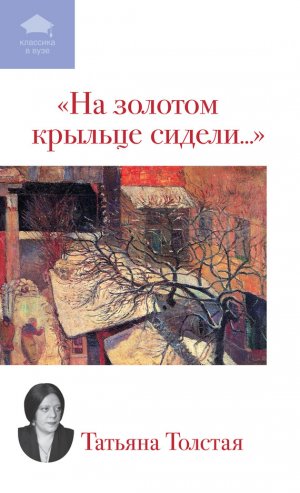
– Покажи. Ах, птица-то. Это птица Сирин, птица смерти. Ты ее бойся: задушит. Слышал вечером, как в лесу кто-то жалуется, кукует? Это она и есть. Это птица ночная. А есть птица Финист. Она часто ко мне летала, а потом я с ней поссорилась. А то есть еще птица Алконост. Та утром встает, на заре, вся розовая, прозрачная, насквозь светится, с искорками. Она гнездо вьет на водяных лилиях. Несет одно яйцо, очень редкое. Ты знаешь, зачем люди лилии рвут? Они яйцо ищут. Кто найдет, на всю жизнь затоскует. А все равно ищут, все равно хочется. Да у меня оно есть – подарить?
Тамила качнулась на черном гнутом кресле, пошла куда-то в глубь дома. Бисерная подушечка свалилась с сиденья. Петя подобрал – она была прохладная. Тамила вернулась – на ладони каталось, позвякивая об изнанку колец, маленькое, стеклянное какое-то, розовое волшебное яичко, туго набитое золотыми искрами.
– Не боишься? Держи! Ну, приходи в гости. – Она засмеялась и упала в гнутое кресло, закачала сладкий, душистый воздух.
Петя не знал, как это – затосковать на всю жизнь, и яичко взял.
Точно, он на ней женится. Раньше он собирался жениться на маме, но раз уж он обещал Тамиле… Маму он тоже с собой обязательно возьмет; можно, в конце концов, и Ленечку… а дядю Борю – ни за что. Маму он очень, очень любит, но таких странных, чудесных историй, как у Тамилы, от нее никогда не услышишь. Поешь да умойся – вот и весь разговор. И что купили – луку или там рыбу.
А про птицу Алконост она слыхом не слыхала. И лучше не говорить. А яичко положить в спичечный коробок и никому не показывать.
Петя лежал в кровати и думал, как он будет жить с Тамилой в большой комнате с китайскими розами. Он будет сидеть на ступеньках веранды и стругать палочки для парусника, и назовет его Летучий Голландец. Тамила будет качаться в кресле, пить панацею и рассказывать. А потом они сядут на Летучий Голландец, флаг с драконом – на верхушке мачты, Тамила в черном халате на палубе, – солнце, брызги в лицо, – поедут на поиски пропавшей, соскользнувшей в зеленые зыбкие океанские толщи Атлантиды.
Он раньше жил себе – просто: стругал палочки, копался в песке, читал книжки с приключениями; лежа в кровати, слушал, как ноют, беспокоятся за окном ночные деревья, и думал, что чудеса – на далеких островах, в попугайных джунглях, или в маленькой, суживающейся книзу Южной Америке, с пластмассовыми индейцами и резиновыми крокодилами. А мир, оказывается, весь пропитан таинственным, грустным, волшебным, шумящим в ветвях, колеблющимся в темной воде. По вечерам они с мамой гуляют над озером: солнце садится за зубчатый лес, пахнет черникой, еловой смолой, высоко над землей золотятся красные шишки. Вода в озере кажется холодной, а попробуешь рукой – так даже горячая. По высокому берегу ходит большая седая дама в сливочном платье; ходит медленно, опираясь на трость, улыбается ласково, а глаза у нее темные и взгляд пустой. Много лет назад ее маленькая дочка утонула в озере, а мать ждет ее домой: пора ложиться спать, а дочки все нет и нет. Седая дама останавливается и спрашивает: «Который час?» – и, услышав ответ, качает головой: «Подумайте-ка!» А когда пойдешь назад, она опять остановится и спросит: «Который час?»
Пете жалко даму, с тех пор как он знает ее секрет. Но Тамила говорит, что маленькие девочки не тонут, просто не могут утонуть. У детей есть жабры; попадут под воду – и превращаются в рыбок, правда не сразу. Плавает девочка серебряной рыбкой, высунет головку, хочет позвать мать, а голоса-то нет…
А тут, неподалеку, есть заколоченная дача. Никто в нее не приезжает, крылечко подгнило, ставни наглухо забиты, заросли дорожки. В этой даче было совершено злодейство, и после уж никто там жить не может. Хозяева пробовали уговорить жильцов и даже большие деньги предлагали – только живите; нет, никто не едет. Одни все-таки решились, но и трех дней не прожили: огни сами гаснут, и вода в чайнике кипеть не хочет, не сохнет мокрое белье, сами по себе тупеют ножи, и дети всю ночь не могут закрыть глаза, а сидят белыми столбиками в постельках.
А вон в ту сторону – видишь?.. – ходить нельзя, там темный еловый лес, сумрак, гладко подметенные дорожки, белые поляны с цветами дурмана. Там-то, среди ветвей, и живет птица Сирин, птица смерти, большая, как тетерев. Петин больной дедушка боится птицы Сирин – сядет к нему на грудь и задушит. У нее на каждой ноге по шесть пальцев, кожистые, холодные, мускулистые, а лицо как у спящей девочки. Куу-гу! Куу-гу! – кричит вечерами птица Сирин, копошится в еловой чаще. Не пускайте ее к дедушке, закройте плотнее окна, двери, зажгите лампу, давайте читать вслух! Но дедушка боится, смотрит в тревоге в окно, дышит тяжело, перебирает одеяло руками. Куу-гу! Куу-гу! Что тебе от нас надо, птица? Не трогай нашего дедушку! Дедушка, не смотри так в окно, что ты там видишь? Это лапы елей машут в темноте, это просто ветер волнуется, не может уснуть. Дедушка, вот же мы все тут! Лампа горит, и скатерть белая, и я вырезал кораблик, а Ленечка нарисовал петушка! Дедушка?!
– Идите, идите, дети, – мама гонит из дедушкиной комнаты, нахмурилась, слезы на глазах. Черные кислородные подушки лежат в углу на стуле – отгонять птицу Сирин. Всю ночь она летает над домом, царапается в окна, а под утро, найдя щелочку, забирается, тяжелая, на подоконник, на кровать, ходит пешком по одеялу – ищет дедушку. Мама хватает черную страшную подушку, кричит, машет, гонит птицу Сирин… прогнала.
Петя рассказывает Тамиле про птицу: может быть, она знает какое-нибудь снадобье, петушиное слово против птицы Сирин? Но Тамила печально качает головой: нет; было, но все осталось там, на стеклянной горе. Дала бы она дедушке охранное кольцо с жабой – да ведь сама тут же рассыплется черным порошком… И пьет из черной бутылки.
Странная она! Хочется думать про нее, про то, что она говорит, слушать, какие ей сны снятся; хочется сидеть на ступеньках ее веранды – ступеньках дома, где все можно: есть хлеб с вареньем немытыми руками, сутулиться, грызть ногти, ходить ботинками – если вздумается – прямо по клумбам, и никто не закричит, не укажет, не призовет к порядку, чистоте и здравому смыслу. Можно взять ножницы и вырезать из любой книжки понравившуюся картинку – Тамиле все равно, она и сама может вырвать картинку и вырезать, только у нее выходит криво. Можно говорить все, что в голову придет, и не бояться насмешек: Тамила грустно качает головой, понимая; а если и засмеется – как будто заплачет. Попросишь – она и в карты сыграет: в дурачка, в пьяницу, но играет она плохо, путает карты и проигрывает.
И все разумное, скучное, привычное – все остается по ту сторону заросшей цветущим кустарником ограды.
Ах, не хочется уходить! Дома надо молчать и про Тамилу (вырасту, поженимся, тогда и узнаете), и про Сирин, и про искристое яйцо птицы Алконост, владелец которого затоскует на всю жизнь…
Петя вспомнил про яйцо, достал из спичечного коробка, сунул под подушку и поплыл на Летучем Голландце по черным ночным водам.
Утром дядя Боря с опухшим лицом курил натощак на крыльце. Черная борода вызывающе торчала, глаза брезгливо прищурились. Увидев племянника, он опять засвистел вчерашнее, противное… И засмеялся. Зубы – редко видимые из-за бороды – были как у волка. Черные брови поползли вверх.
– Салют юному романтику! – бодро крикнул дядя. – Давай-ка, Петр, седлай велосипед – и в лавку! Матери нужен хлеб, а мне возьмешь две пачки «Казбека». Тебе отпу-устят, отпу-устят! Нинку я знаю, она детям до шестнадцати чего хочешь отпустит!..
Дядя Боря открыл рот и захохотал. Петя взял рубль и вывел из сарая запотевшего «Орленка». На рубле маленькими буковками – непонятные, оставшиеся от атлантов слова: бир сум. Бир сом. Бир манат. А пониже – угроза: «подделка государственных казначейских билетов преследуется по закону», – слова скучные, взрослые. Трезвое утро вымело волшебных вечерних птиц, ушла на дно рыбка-девочка, спят под толщей желтого песка золотые трехглазые статуи Атлантиды. Дядя Боря разогнал громким, оскорбительным смехом хрупкие тайны, вышвырнул сказочный сор, но только не навсегда, дядя Боря, только на время! Солнце начнет склоняться к западу, воздух пожелтеет, лягут косые лучи, и очнется, завозится таинственный мир, плеснет хвостом серебристая немая утопленница, закопошится в еловом лесу серая, тяжелая птица Сирин, и, может быть, где-то в безлюдной заводи уже спрятала в водяную лилию розовое огнистое яичко утренняя птица Алконост, чтобы кто-то затосковал о несбыточном… Бир сум, бир сом, бир манат!
Толстоносая Нинка безропотно дала «Казбек», велела передать дяде Боре привет – противный привет противному человеку, – и Петя покатил назад, звеня звоночком, подскакивая на узловатых корнях, похожих на огромные дедушкины руки. Осторожно объехал дохлую ворону – птицу кто-то раздавил колесом, глаз закрыт белой пленкой, черные свалявшиеся крылья покрыты пеплом, клюв застыл в горестной птичьей улыбке.
За завтраком мама сидела с озабоченным лицом – дедушка опять ничего не ел. Дядя Боря насвистывал, разбивая ложечкой яйцо и посматривая на детей, – к чему бы прицепиться. Ленечка пролил молоко, и дядя Боря обрадовался – вот и повод поговорить. Но Ленечка совершенно равнодушен к дядиному занудству: он еще маленький, и душа у него запечатана, как куриное яйцо: все с нее скатывается. Если он, не дай бог, свалится в воду, то не утонет, а станет рыбкой – лобастым, полосатеньким окунем. Ленечка допил и, не дослушав, побежал к песочнице: песок подсох на утреннем солнце, и башни, должно быть, осыпались. Петя вспомнил.
– Мама, а та девочка давно утонула?
– Какая девочка? – встрепенулась мама.
– Ну, ты знаешь. Дочка той старушки, которая все спрашивает: который час?
– Да у нее не было никакой дочки. Глупости какие. У нее два взрослых сына. Кто тебе сказал?
Петя промолчал. Мама посмотрела на дядю Борю, тот обрадовался и захохотал.
– Пьяные бредни нашей лохматой приятельницы! А?! Девочка, а?!
– Какой приятельницы?
– А, так… Ни рыба ни мясо.
Петя вышел на крыльцо. Дядя Боря хотел все испачкать. Хотел зажарить и схрупать волчьими зубами серебряную девочку-рыбку. Ничего у тебя не выйдет, дядя Боря! У меня под подушкой сияет огнями яйцо утренней прозрачной птицы Алконост.
Дядя Боря распахнул окно и крикнул в росистый сад:
– Пить надо меньше!
Петя постоял у ограды, поковырял ногтем ветхое серое дерево перекладины. День только начинался.
Вечером дедушка опять ничего не ел. Петя посидел на краю смятой постели, погладил сморщенную дедушкину руку. Дедушка, повернув голову, смотрел в окно. Там поднялся ветер, закачались верхушки деревьев, мама сняла сушившееся белье – оно захлопало, как белые паруса Летучего Голландца. Зазвенело стекло. Темный сад вздымался и опадал, как океан. Ветер согнал с ветвей птицу Сирин, и она, взмахивая отсыревшими крыльями, прилетела к дому и принюхивалась, поводя треугольным личиком с закрытыми глазами: нет ли щели? Мама отослала Петю и легла спать в дедушкиной комнате.
Ночью была гроза. Бушевали деревья. Ленечка просыпался и плакал. Утро пришло серое, грустное, ветреное. Дождем прибило Сирин к земле, и дедушка сел в постели, и его поили бульоном. Петя поболтался на пороге, порадовался дедушке, посмотрел в окно – как поникли под дождем цветы, как сразу запахло осенью. Затопили печку; прикрывшись капюшонами, носили из сарая дрова. На улице делать нечего. Ленечка сел рисовать карандашами, дядя Боря ходил, заложив руки за спину, и насвистывал.
День прошел скучно: ждали обеда, потом ждали ужина. Дедушка съел крутое яйцо. Ночью опять пошел дождь.
Ночью Петя бродил по подземным переходам, по лестницам, по коридорам метро, не мог найти выхода, пересаживался с поезда на поезд: поезда неслись по отвесным лестницам, двери – нараспашку; проезжали по чужим комнатам, заставленным мебелью; Пете непременно нужно было выйти, выбраться наружу, там, наверху, Ленечке и дедушке грозила опасность: забыли закрыть дверь, она так и стояла, разинутая, а птица Сирин пешком поднималась по скрипучим ступенькам, закрыв глаза; Пете мешал школьный портфель, но он тоже был очень нужен. Как выйти? Где здесь выход? Как выбраться наверх? «Нужен билет». Конечно, чтобы выйти, нужен билет! Вон касса. Дайте билет! Казначейский? Да, да, пожалуйста, казначейский! «Подделка казначейских билетов преследуется по закону». Вон они, билеты: длинные, черные листы бумаги. Погодите, в них же дырки! Это преследуется по закону! Дайте другие! Я не хочу! Портфель раскрывается, из него вываливаются длинные черные билеты, все в дырках. Собрать, скорее, скорее, меня преследуют, сейчас поймают! Они расползаются по полу, Петя собирает, запихивает как попало; толпа раздается, кого-то ведут… Не уйти с дороги, сколько билетов, о, вот оно, страшное: под руки ведут огромное, ревущее как сирена, задравшее вверх багровую, распухшую морду, это ни-рыба-ни-мясо, это конец!!!
Петя вскочил с бьющимся сердцем; еще не рассвело. Ленечка мирно спит. Добрался босиком до дедушкиной комнаты, толкнул дверь – тишина. Горит ночник. В углу чернеют кислородные подушки. Дедушка лежит с открытыми глазами, руки стиснули одеяло. Подошел, холодея и догадываясь, тронул дедушкину руку, отпрянул. Мама!
Нет. Мама закричит, испугается. Может быть, еще можно исправить. Может быть, Тамила?
Петя бросился к выходу – дверь была распахнута. Сунул голые ноги в резиновые сапоги, на голову – капюшон, загрохотал по ступенькам. Дождь кончился, но с деревьев капало. Небо серело. Добежал разъезжающимися по глине, подгибающимися ногами. Толкнул дверь веранды. Тяжело пахнуло холодным, застоявшимся пеплом. Петя задел на ходу какой-то столик: зазвенело и покатилось. Нагнулся, ощупью нашарил и помертвел: кольцо с серебряной жабой, охранное Тамилино кольцо, валялось на полу. В комнате завозились, Петя распахнул дверь. На кровати в полутьме силуэты двоих: Тамилины черные спутанные волосы разбросаны по подушке, черный халат на табуретке; повернулась и замычала. Дядя Боря вскочил в постели, борода вверх, волосы всклокочены. Набрасывая одеяло на Тамилину ногу, прикрывая свои, быстро завозился, закричал, вглядываясь в темноту:
– А?! Кто, что?! Это кто?! А?!
Петя заплакал, крикнул, дрожа в страшной тоске:
– Дедушка умер! Дедушка умер! Де-ду-шка умер!!!
Дядя Боря отбросил одеяло, выплюнул ужасные, извивающиеся, нечеловеческие слова; Петя затрясся в рыдании, ослеп, выбежал, – ботами по мокрым клумбам; душа сварилась как яичный белок, клочьями повисала на несущихся навстречу деревьях; кислое горе бурлило во рту; добежал до озера, бросился под мокрое, сочащееся дождем дерево; визжа, колотя ногами, тряся головой, выгонял из себя страшные дяди-Борины слова, страшные дяди-Борины ноги.
Привык, затих, полежал. Сверху капали капли. Мертвое озеро, мертвый лес; птицы свалились с деревьев и лежат кверху лапами; мертвый, пустой мир пропитан серой, глухой, сочащейся тоской. Все – ложь.
Он почувствовал в кулаке твердое и разжал руку. Распластанная серебряная охранная жаба выпучила глаза.
Спичечный коробок, мерцающий вечной тоской, лежал в кармане.
Птица Сирин задушила дедушку.
Никто не уберегся от судьбы. Все – правда, мальчик. Все так и есть.
Он еще полежал, вытер лицо и побрел к дому.
Сомнамбула в тумане
Земную жизнь пройдя до середины, Денисов задумался. Задумался он о жизни, о ее смысле, о бренности своего земного, наполовину уже использованного существования, о страхах ночных, о гадах земных, о красивой Лоре и некоторых других женщинах, о том, что лето нынче сырое, о далеких странах, в существование которых ему, впрочем, не очень-то верилось.
Особенное сомнение вызывало существование Австралии. В Новую Гвинею, в ее мясистую, с писком ломающуюся зелень, в душные болота и черных крокодилов он еще готов был поверить: странное место, но пусть. Допускал он также цветные мелкие Филиппины, голубоватую пробку Антарктиды допускал, – она висела прямо над его головой, рискуя отвалиться и засыпать колотыми кубиками айсбергов. Валяясь на диване с твердыми допотопными валиками, с просевшими пружинами, покуривая, поглядывал Денисов на карту полушарий и не одобрял расположения континентов. Ну, наверху еще ничего, разумно: тут суша, тут водичка, ничего. Парочку морей бы еще в Сибирь. Африку можно бы ниже. Индия пусть. Но внизу плохо все устроено: материки сужаются и сходят на нет, острова рассыпаны без толку, впадины какие-то… А уж Австралия совсем ни к селу ни к городу: всякому ясно, что тут по логике должна быть вода, так нате вам! Денисов пускал дым в Австралию, разглядывал потолок в разводах сырости: выше этажом жил капитан дальнего плавания, белый, золотой и прекрасный, как мечта, летучий, как дым, нереальный, как синие южные моря; раз или два в год он материализовался, являлся домой, принимал ванну и заливал квартиру Денисова со всем, что в ней находилось, а в ней ничего не находилось, кроме дивана и Денисова. Ну, еще на кухне холодильник стоял. Денисов, как человек деликатный, не решался спросить: в чем дело? – тем более что не далее как на следующее утро после катаклизма великолепный капитан звонил в дверь, вручал конверт с парой сотен – на ремонт – и твердой походкой уходил прочь: в новое плавание.
Раздраженно размышлял Денисов об Австралии, рассеянно – о Лоре, невесте. Все уже было, в общем-то, решено, и не сегодня-завтра он собирался стать ее четвертым мужем, не потому что, как говорится, от нее светло, а потому что с ней не надо света. При свете она говорила без умолку и что попало.
Очень многие женщины, говорила Лора, мечтают иметь хвост. Сам подумай: во-первых, как это красиво – толстый пушистый хвост, можно полосатый, скажем, черный с белым, мне это пошло бы, и вообще, на Пушкинской я видела такую шубку, которая к такому хвосту в самый раз. Короткая, рукавчик широкий, шалевый воротник. Можно с черной юбочкой, вроде той, что Катерина Иванна сшила Рузанне, но Рузанна хочет продать, так представляешь – если бы был хвост, шубу можно вообще без воротника: обмотала шею – и тепло. Потом, если, допустим, в театр: простое открытое платье, и сверху – собственный мех. Шикарно! Во-вторых, очень удобно: в метро можно держаться хвостом за поручни, станет жарко – обмахиваться, а если кто пристанет – хвостом его по шее! Ты хочешь, чтобы у меня был хвост?.. Ну как это: все равно?
Эх, красавица, мне бы твои заботы, тосковал Денисов.
Но Денисов знал, что он и сам не подарочек – с прокуренным своим пиджаком, с тяжелыми мыслями, с ночным сердцебиением, с предрассветным страхом – умереть и быть забытым, стереться из людской памяти, бесследно рассеяться в воздухе.
До половины пройдена земная жизнь, впереди вторая половина, худшая. Вот так прошелестит Денисов по земле и уйдет, и никто-то его не помянет! Каждый день помирают Петровы и Ивановы, их простые фамилии высекают на мраморе. Почему бы и Денисову не задержаться на какой-нибудь доске, почему не украсить своим профилем Орехово-Борисово? «В этом доме проживаю я…» Вот он женится на Лоре и помрет – она же не решится обратиться туда, где это решают, увековечивать, нет ли… «Товарищи, увековечьте моего четвертого мужа, а? Ну, това-арищи…» – «Хо-хо-хо…» Ну в самом деле, кто он такой? Ничего не сочинил, не пропел, не выстрелил. Ничего нового не открыл и именем своим не назвал. Да ведь и то сказать, все уже открыто, перечислено и поименовано, все, и живое и мертвое, от тараканов до комет, от сырной плесени до спиральных рукавов заумных туманностей. Вон какой-нибудь вирус – дрянь, дешевка, от него и курица не чихнет, так нет, уже пойман, назван, усыновлен парочкой ученых немцев – смотри сегодняшнюю газету. Призадумаешься – как они его делят на двоих? Небось разыскали его, завалящее такое дрянцо, в немытом стакане и обмерли от счастья – и ну толкаться, кричать: «Мое!» – «Нет, мое!» Разбили очки, порвали подтяжки, отмутузили друг друга, запыхались, присели со стаканом на диван, обнялись: «Давай, брат, пополам!» – «Давай, что уж с тобой поделаешь…»
Люди самоутверждаются, цепляются, не хотят уходить – это так естественно! Скажем, записывают концерт. Замер зал, буйствует рояль, мелькают клавиши, словно взбесившаяся пастила, – бегом, бегом, все на одном месте, все круче; свивается сладостный смерч, сердце не выдержит, оторвется, трепещет на последней нитке, и вдруг: кхэ. Кхэ-ррр-кхм. Кху-кху-кху. Кашлянул кто-то. И хорошо так, крепенько кашлянул. И уж всё теперь. Концерт с сочным гриппозным клеймом родился, размножился миллионами черных солнышек, разбежался во все мыслимые стороны. Светила погаснут, и обледенеет земля, и планета морозным комком вечно будет нестись неисповедимыми звездными путями, а кашель ловкача не сотрется, не пропадет, навеки высеченный на алмазных скрижалях бессмертной музыки – ведь музыка бессмертна, не так ли? – ржавым гвоздем, вбитым в вечность, утвердил себя находчивый человек, масляной краской расписался на куполе, плеснул серной кислотой в божественные черты.
Н-да.
Пробовал Денисов изобретать – не изобреталось, пробовал сочинять стихи – не сочинялось, начал было труд о невозможности существования Австралии: сварил себе крепкого кофе и засел на всю ночь к столу. Работал хорошо, с подъемом, а под утро перечел – и порвал, и плакал без слез, и лег спать в носках. Вскоре после этого он и повстречал Лору, и был пригрет и выслушан, и многажды утешен как у себя в Орехове-Борисове, где на них, конечно, пролился золотым дождем капитан, опять отдраивший кингстоны, так и в ее безалаберной квартирке, где всю ночь в коридоре что-то шуршало.
– Что это, – тревожился Денисов, – не мыши ли?
– Нет, нет, спи, Денисов, это другое. Потом скажу. Спи!
Что делать, он спал, видел во сне гадости, проснувшись, обдумывал увиденное и вновь забывался, а утром пил кофе на кухне вместе с благоухающей Лорой и ее вдовым папой, отставным зоологом, кротчайшим голубоглазым старичком, немного странненьким – а кто не странненький? Папина борода была белее соли, глаза – ясней весны; тихий, скорый на светлые слезы, любитель карамелек, изюма, булочек с вареньем, ничем не был он похож на Лору, шумную, взволнованную, всю черно-золотую. «Понимаешь, Денисов, папа у меня чудный, просто голубь мира, но у меня с ним проблемы, потом расскажу. Он такой чуткий, интеллигентный, знающий, ему бы еще работать и работать, а он на пенсии – недоброжелатели подсидели. Он там у себя в институте делал доклад о родстве птиц с рептилиями или там с крокодилами – ну ты меня понял, да? – бегают и кусают; а у них ученый секретарь был по фамилии Птицын, так он принял на свой счет. Они вообще в этой зоологии постоянно бдят и высматривают идеологическую гниль, потому что еще не решили, человек это что – обезьяна или только так кажется. Вот папунчика и поперли, сидит теперь дома, плачет, кушает и популяризует. Он пишет эти, знаешь, заметки фенолога для журналов, в общем, ты меня понял. Про времена года, про жаб, зачем петух кукарекает и в связи с чем слон такой симпатичный. Он хорошо пишет, не шаляй-валяй, а как образованный человек плюс лирика. Я ему говорю: пуськин, ты у меня Тургенев, – он плачет. Ты, Денисов, люби его, он заслуживает».
Опустив голову, грустный, покорный, выслушивал белый папа Лорины монологи, промакивал платком уголки глаз, уходил мелкими шажками в кабинет. «Ч-ш-ш-ш, – говорила Лора шепотом, – тише… Пошел популяризовать». В кабинете тишина, запустение, рассыхаются полки, пылятся энциклопедии, справочники, пожелтевшие журналы, пачки с оттисками чьих-то статей – все ненужное, слежавшееся, остывшее. В уголку некрополя, как одинокая могилка, папин стол, стопка бумаги, экземпляры детского журнала: папа пишет для детей, папа втискивает свои многолетние знания в неразвитые пионерские головки, папа приноравливается, садится на корточки, становится на четвереньки, – в кабинете возня, восклицания, всхлипы, треск разрываемой бумаги, Лора выметает клочки, ничего, сейчас успокоится, сейчас все получится! Сегодня у папы волк, папа борется с волком, гнет его, ломает, втискивает в подобающие рамки. Денисов рассеянно просматривает выметенное и порванное:
«Волк. Канис люпус. Пищевой рацион.
Пищевой рацион волка разнообразен.
Волк имеет разнообразный пищевой рацион: грызуны, домашний скот.
Разнообразен пищевой рацион серого: тут тебе и грызуны, и домашний скот.
До чего же разнообразен пищевой рацион волчка – серого бочка: тут тебе и заиньки, и кудрявые овечки…»
Ничего, ничего, папуленька, радость моя, пиши; все пройдет! Все будет хорошо! Это Денисова разрушают сомнения, червивые мысли, чугунные сны. Это Денисов страдает, словно от изжоги, целует Лору в темечко, уезжает к себе домой, заваливается на диван, под карту с полушариями, носками – к Огненной Земле, головой – под Филиппины, ставит пепельницу себе на грудь, окуривает холодные горы Антарктиды – ведь кто-то сидит же там сейчас, ковыряется в снежку во имя большой науки, – вот вам дымку, ребята, погрейтесь; отрицает Австралию, ошибку природы, слабо мечтает о капитане: пора бы протечь, деньги-то все прожиты, – и снова о славе, о памяти, о бессмертии…
Он видел сон. Купил он будто хлеба – как обычно, батон, круглый, бубликов десяток. И несет куда-то. В каком-то он будто бы доме. Может быть, учреждение – коридоры, лестницы. Вдруг трое – мужчина, женщина, старик, только что спокойно с ним разговаривавшие, – кто что-то объясняет, кто советы дает, как пройти, – увидели хлеб и как-то дернулись, словно бы бросились мгновенно и тут же сдержались. И женщина говорит: «Простите, это у вас хлеб?» – «Да вот купил…» – «А вы не дадите нам?..» Он смотрит и вдруг видит: да это блокадники. Они голодные. Глаза у них очень странные. И он сразу понимает: ага, они блокадники, значит, и я блокадник. Значит, есть нечего. И разом наваливается жадность. Только что хлеб этот был пустяк, ерунда, ну купил и купил – и вдруг сразу жалко стало. И он говорит: «Ну-у, я не знаю. Мне самому надо. Не знаю, не знаю». А они молчат и смотрят прямо в глаза. И женщина дрожит. Тогда он берет один бублик, тот, где мака поменьше, разламывает на части и раздает, но один кусок от этого бублика все-таки берет себе, придерживает. Руку как-то странно изгибает – наяву так не согнешь – и придерживает. Неизвестно зачем, ну просто… чтобы не всё уж так-то сразу… И тут же уходит от них, от этих людей, от рук их протянутых, и вдруг он уже у себя дома и понимает: какая же, к черту, блокада? Никакой блокады. Да мы же вообще в Москве живем, за семьсот километров – с чего это вдруг? Вон и холодильник полон, и сам я сыт, и за окнами люди довольные идут, улыбаются… И сразу совестно, и в сердце нехорошая тошнота, и батон этот пухлый тяготит, и девять бубликов этих как звенья распавшейся цепи, и думает он: ну вот, зря пожадничал! Что это я? Свинья какая… И кидается назад: где эти, голодные-то? А их уже нет нигде, всё, проехали, милый друг, упустил, ищи-свищи, все двери заперты, время приоткрылось и захлопнулось, иди себе дальше, живи, живи, можно! Да пустите же!.. Откройте! Так все быстро, я даже ужаснуться не успел, я был не готов! Но я же был просто не готов! Он стучит в дверь, колотит ногами, пинает каблуком, дверь распахивается, там столовая, кафе какое-то, выходят спокойные едоки, утирают сытые рты, на тарелках – макароны, котлеты расковыренные… Тенью прошли те трое, заблудившиеся во времени, растворились, рассыпались, нет их, нет, не будет никогда, голое дерево качает ветвями, отражаясь в воде, низкое небо, горящая полоса заката, прощай.
Прощай! И он всплывает на своей постели, на диване, он всплыл, он скомкал простыню ногами, он ничего не понимает: что за глупость, в самом деле, зачем? И ему бы немедленно заснуть опять, и все бы прошло, и забылось к утру, и стерлось, как стираются слова на песке, на морском шумящем берегу, – так нет же, пораженный увиденным, он зачем-то встал, отправился на кухню и, бессмысленно глядя перед собой, съел бутерброд с котлетой.
А был темный июльский рассвет, самое его начало, и птицы еще не пели, и по улице никто не проходил, и для теней, привидений, суккубов и фантомов самое было подходящее времечко.
Как они сказали-то? «Дайте нам» – так, что ли? Чем больше он о них думал, тем яснее видел детали. Как живые, честное слово. Нет, хуже, чем живые. У старика, например, появилась и упорствовала, настойчиво воплощаясь, шея, густо-коричневая, морщинистая шея, темная, словно кожа копченого сига. Ворот белесой, выцветшей из синего, рубахи. И пуговица костяная, наполовину обломанная. Лицо условное – старик, и все, – но шея, ворот, пуговица так и стояли перед глазами. Женщина, видоизменяясь, пульсируя так и сяк, сложилась в худую усталую блондинку. На тетю Риту покойную чем-то похожа.
А мужчина был толстый.
Нет, нет, они вели себя некорректно. Эта женщина, как она спросила: «Это у вас что, хлеб?..» Как будто не видно! Да, хлеб! Надо было не в авоську, а в сумку или хотя бы бумагой прикрыть. И что это: «Дайте нам»? Ну что это? А если у него самого семья, дети? Может быть, у него десять человек детей? Может быть, он детям нес, откуда они знают? Неважно, что детей нет, это в конце концов его дело. Купил – значит, надо было. Спокойно себе шел. И вдруг: «Дайте нам!» Ничего себе заявленьице!
Что они пристали? Да, он пожалел хлеба, было у него такое движение, верно, но бублик-то он дал, а сдобный, дорогой, румяный бублик, между прочим, лучше, ценнее черного хлеба, если уж на то пошло, это во-первых; а во-вторых, он же сразу опомнился, бросился назад, хотел все поправить, но все куда-то делось, сместилось, исказилось – что ж тут поделаешь? Честно, ясно, в полном сознании своей вины он искал их, ломился в двери, что ж поделаешь, если они не стали ждать и уплыли? Им надо было стоять и не двигаться, держаться за перила – там были перила – и спокойно дожидаться, пока он прибежит к ним на помощь. Десять секунд не могли потерпеть, тоже мне!.. Нет, не десять, не секунд, там все иначе, и место скользит, и время валится вбок рваной волной, и все это крутится, крутится; там одна секунда стоит большая, медленная, гулкая, как заброшенный храм, другая – мелкая, юркая, быстрая, – чиркнув спичкой, сжигает тысячу лет; шаг в сторону – и ты в чужой вселенной…
А мужчина этот был, пожалуй, неприятней всех. Во-первых, он был очень полный, неряшливо полный. И держался чуть в стороне, и смотрел хоть и отрешенно, но с неудовольствием. Он, кстати, не стал объяснять Денисову дорогу, он вообще не принял в разговоре никакого участия, но бублик взял. Ха, он бублик-то взял, первым сунулся! Он даже старика рукой толкнул! А сам толще всех! И рука у него такая белая, будто детская, с перетяжкой, и веснушки мелким пшеном по руке, и нос крючком, и голова яйцом, и очочки! Вообще противный тип, и непонятно даже, что он там делал, в этой компании! Он явно был не с ними, он просто подбежал и присуседился, увидел, что раздают, – ну и… Женщина эта, тетя Рита… Кажется, она была самая голодная из троих… Ну что ж, я ведь дал ей бублик! Да это просто роскошь в их положении – такой свежий, румяный кусина… О боже, в каком положении?! Перед кем я оправдываюсь? Не было их, не было! Ни здесь, ни там, нигде! Смутное, бегучее ночное видение, струение воды по стеклу, мгновенная спазма в глубоком тупике мозга, лопнул ничтожный, ненужный сосудик, булькнул гормон, ёкнуло в мозжечке, в каком-нибудь турецком седле – как они там называются, эти нехоженые закоулки?.. Нехоженые закоулки, мощеная мостовая, мертвые дома, ночь, качается фонарь, метнулась тень – летучая ли мышь, ночная птица, или просто упал осенний лист? Вдруг все трепещет, отсыревает, плывет и вновь останавливается – пронесся и исчез короткий холодный дождь.
Где я был?
Тетя Рита. Странных спутников подобрала она к себе в компанию, тетя Рита! Если это, конечно, она.
Нет, не она. Нет. Тетя Рита была молодая, у нее была другая прическа: надо лбом валик, волосы светлые, прозрачные. Она вертелась перед зеркалом, примеряла кушак и пела. А еще что? Да ничего больше! Просто пела!
Замуж, должно быть, собиралась.
А потом она исчезла, и мать велела Денисову никогда больше о ней не спрашивать. Забыть. Денисов послушался и забыл. А пудреницу, которая от нее осталась, стеклянную, с фукалкой, с синей шелковой кистью, он променял во дворе на перочинный ножик, и мать побила его и плакала ночью – он слышал. И тридцать пять лет прошло. Зачем же его мучить?..
При чем тут блокада, хотел бы я знать? Блокада к тому времени давно уж кончилась. Начитаешься на ночь всякого…
А интересно, кто эти люди. Старик какого-то колхозно-рыбацкого вида. Как он туда попал?.. А толстяк этот – он что, тоже мертвый? Ох, как он, должно быть, не хотел умирать, такие умирать боятся. Визгу, наверно, было! А дети кричали: папа, папа!.. За что он умер?
Товарищи, но почему же ко мне? При чем тут я? Я, что ли, убивал? Это не мои сны, я ни при чем, я-то не виноват! Прочь, товарищи! Пожалуйста, прочь!
Господи, как тошно от себя самого!..
Лучше он будет думать о Лоре. Красивая женщина. И что в ней хорошо, так это то, что она, по всем признакам сильно любя Денисова, совершенно ему не докучает, не требует непрерывного внимания, не покушается на его образ жизни и вообще гуляет сама по себе, шатаясь по театрам, подпольным вернисажам, саунам, пока Денисов, напряженно мысля, чахнет на своем диване и доискивается путей к бессмертию. Какие у нее еще там проблемы с папой? Папа хороший, смирный, папа что надо, папа при деле. Сидит в своем кабинетике, ни во что не вмешивается, грызет шоколадку, статейки сочиняет впрок на зиму: «Любит лесной хозяин полакомиться многокостянковыми и покрытосеменными… А как задует сиверко, как распотешится лихое ненастье – резко замедляется общий метаболизм у топтыгина, снижается тонус желудочно-кишечного тракта при сопутствующем нарастании липидной прослойки. Да не страшен минусовый диапазон Михайло Иванычу: хоть куда волосяной покров, да и эпидермис знатный…» О, вот бы так, медведем, забиться в нору, зарыться в снега, зажмуриться, оглохнуть, уйти в сон, пройти мертвым городом вдоль крепостной стены, от ворот до ворот, по мощеной мостовой, считая окна, сбиваясь со счета: это не горит, и это не горит, и вон то, и то никогда не зажжется, – только совы, и луна, и остывшая пыль, и скрип двери на ржавых петлях… ну куда они все подевались? Тетя Рита, вот хороший домик, маленькие окна, лестница на второй этаж, цветы на подоконнике, фартук и метла, свеча, кушак и круглое зеркало, живи здесь! Выглядывай по утрам из окошка: старик в синей рубахе сидит на лавочке, отдыхает от долгой жизни, веснушчатый толстяк несет зелень с базара, улыбнется, помашет рукой, а там точильщик точит ножницы, а там выбивают ковры… А вон Лорин папа едет на велосипеде, крутит педали, собаки бегут за ним вслед, путаются под колесами.
Лора! Тошно мне, мысли давят, Лора, приезжай, расскажи что-нибудь! Лора? Алло!
Но Лора не в силах добраться до Орехова-Борисова, Лора сегодня страшно устала, прости, Денисов, Лора ездила к Рузанне, у Рузанны что-то с ногой, кошмарный ужас. Она показывала врачу, но врач ничего не понимает – ну, как всегда, – а вот есть такая Виктория Кирилловна, так она посмотрела и сразу сказала: с вами, Рузанночка, сделано. А когда делают, то всегда на ноги. И можно даже узнать, кто эту порчу напустил, но это, сказала Виктория, вопрос второстепенный, потому что в Москве тысячи ведьм, а сейчас главное – попробовать снять, и прежде всего нужно окурить квартиру луковым пером, все углы, так что мы ходили и окуривали, а потом Виктория Кирилловна просмотрела все цветы в горшках и сказала: эти ничего, можно, но вот этот – вы что, с ума сошли, дома держать? – немедленно выкинуть. Рузанна сказала, что она знает, кто ей вредит, это бабы на работе. Она купила себе третью шубу, пришла на работу и сразу почувствовала, что атмосфера напряженная; это элементарная зависть, и даже непонятно, к чему такие низменные чувства; ведь в конце-то концов, говорит Рузанна, шубу она, если хотите, покупает как бы не себе, а другим, для повышения эстетического уровня пейзажа. Ведь ей, Рузанне, изнутри шубы все равно ничего не видно, а им всем, которые снаружи, становится интереснее и разнообразнее на душе. И причем бесплатно. Ведь чуть какая-нибудь художественная выставка, Мону Лизу привезут или там Глазунова, они же по пять часов давятся в очередищах и еще свой кровный рубль платят. А тут Рузанна заплатила свои деньги и пожалуйста – искусство с доставкой на дом! – так они же еще и недовольны. Просто мракобесие какое-то. И Виктория Кирилловна сказала: да, это мракобесие – и велела Рузанне лечь на кровать головой на восток. А Рузанна показала ей фотографию дачи, которая у них с Арменом на Черном море, чтобы Виктория сказала, все ли там в порядке, и Виктория внимательно посмотрела и говорит: нет, не всё. Дом тяжелый. Очень тяжелый дом. И Рузанна расстроилась, потому что столько в эту дачу средств вколочено, неужели все перестраивать? Но Виктория ее успокоила, она сказала, что она выкроит время, приедет к ним на дачу вместе с мужем – он тоже обладает какими-то удивительными способностями, – поживет там и посмотрит, чем можно помочь. Она спросила Рузанну, близко ли от них пляж и рынок, потому что это источники отрицательной энергии. Оказалось, совсем рядом, так что Рузанна еще больше расстроилась и просила Викторию помочь безотлагательно, просто умоляла немедленно вылететь на Кавказ и по возможности эти источники экранировать. И Виктория, золотая душа, берет с собой фотографию Рузанниной ноги, чтобы там, на юге, ее лечить.
А Лоре она сказала, что у нее энергетический пучок совершенно расфокусирован, позвоночный канал засорен, и точка Инь искрит беспрерывно, и что это может плохо кончиться. Потому что мы живем у телебашни и наши с папой поля дико искривлены. А про папин случай – с папой у меня проблемы – она сказала: это за пределами ее компетенции, но вот сейчас в Москве с визитом какой-то совершенно замечательный гуру, имя не произнести, Пафнутий, допустим, Эпаминондович, он излечивает верующих в него плевками. Совершенно необразованный, чудный старикан, борода до колен, и глаза такие пронзительные-пронзительные. Не верит в кровообращение и многих уже убедил, что его нет; даже одна врачиха из ведомственной поликлиники, большая его поклонница, совершенно убеждена, что, в сущности, он прав: никакого кровообращения нет, учит Пафнутий, а только одна кажимость, а вот соки есть, это да. И ежели в человеке соки застоялись – это болезнь, свернулись – увечье, а если совсем, к чертовой бабушке, высохли, то тут ему, родимому, и кондрашка. А лечит Пафнутий не всех, а только тех, кто верит в его учение, и требует смирения: надо упасть к нему в ножки и попросить: «Подсоби ты мне, дедушка, червю малому и убогому», – и ежели хорошо попросишь, то он плюнет в тебя, и, говорят, сразу легче, сразу будто озарение и душевный подъем. Курс лечения – две недели, причем не курить, и чаю нельзя, и даже молока ни боже мой, а пить только сырую воду через нос. Ну, конечно, всякие академики бесятся, ты же понимаешь, у них вся научная работа летит, и аспиранты на сторону смотрят, но тронуть его не могут, потому что он вылечил какое-то начальство. И, говорят, приезжали из Швейцарии, фирма эта – как ее, «Сандоз», или как ее? – в общем, брали у него слюну на анализ, они же без химии ни шагу, бездуховность такая, ужас, – так вот, результаты засекречены, но якобы нашли в дедовой слюне левомицетин, олететрин и какой-то фактор пси. И они у себя в Базеле строят два завода для промышленного выпуска этого фактора, а этот журналист, Пострелов, ну ты знаешь, знаменитый, так он пишет сейчас очень острую статью в том смысле, что не допустим ведомственной волокиты и разбазаривания отечественной слюны, а не то опять придется покупать собственное достояние на валюту. Да, это все точно, а я вот вчера стояла в магазине «Наташа» за перуанскими бобочками, ничего, только воротничок грубый, и разговорилась с одной женщиной, она знает этого Пафнутия и может к нему устроить, пока он в Москве, а то он потом опять уедет к себе в Бодайбо. Ты меня слушаешь?.. Алло!
Глупая женщина, она тоже бредет наугад, вытянув руки, обшаривая выступы и расселины, спотыкаясь в тумане, она вздрагивает и ежится во сне, она тянется к блуждающим огням, ловит неловкими пальчиками отражения свечей, хватает круги на воде, бросается за тенью дыма; она склоняет голову на плечо, слушает шуршание ветра и пыли, растерянно улыбается, озирается – где оно, то, что сейчас промелькнуло?
Булькнуло, ёкнуло, порскнуло, ахнуло – лучше гляди! – сзади, наверху, вниз головой, пропало, нету!
Океан пуст, океан штормит, с ревом ходят горы черной воды в свадебных венцах кипучей пены; далеко, просторно бежать водяным горам – нет преграды, нет предела штормовому кипению; Денисов отменил Австралию, вырвал с хрустом, как коренной зуб: уперся одной ногой в Африку – кончик отломился, – уперся покрепче – хорошо; другой ногой в Антарктиду, скалы колются, в ботинок набился снежок, встать поустойчивее; ухватил покрепче ошибочный континент, пошатал туда-сюда – крепко сидела Австралия в морском гнезде, пальцы скользили в подводной тине, кораллы царапали костяшки. А ну-ка! Еще раз… эпа! Вырвал, вспотел, держал обеими руками, утерся локтем; с корня у нее капало, с крышки сыпался песок – пустыня какая-то. Бока холодные и скользкие – наросло порядочно. Ну и куда ее теперь? В Северное полушарие? А там место есть? Денисов стоял с Австралией в руках, солнце светило ему в затылок, вечерело, далеко было видно. Зачесалась рука под ковбойкой – э, да на ней мураши какие-то! Кусаются!.. Ч-черт… Он плюхнул тяжелую кокорыжину назад – брызги, – булькнула, накренилась, затонула. Эх… Не так он хотел… Но ведь укусил же кто-то! Он присел на корточки, разочарованно поболтал рукой в мутной воде. Ну и черт с ней. Ладно. Население там было неинтересное. Бывшие каторжники. И вообще он хотел как лучше. Вот только тетю Риту жалко… Денисов повернулся на диване, уронив пепельницу, укусил подушку, завыл.
Глубокой ночью он взлелеял мысль о том, что хорошо бы стать во главе какого-нибудь небольшого, но чистого движения. Скажем, за честность. Против воровства, допустим. Очиститься самому и позвать за собой других. Для начала вернуть все зачитанные книги. Не заигрывать спички и авторучки. Не красть туалетную бумагу в учреждениях и междугородных поездах. Потом больше, больше – и, глядишь, потянутся люди. И пресекать зло, где бы ни встретил. Глядишь – и помянут тебя добрым словом.
На другой же вечер, стоя в очереди за мясом, Денисов заметил, что продавец жулит, и решил немедленно крикнуть слово и дело. Он громко оповестил граждан о своих наблюдениях и предложил всем, кто взвесил свои куски и направился платить, вернуться к прилавку и потребовать перевеса и пересчета. Вон же и контрольные весы стоят. И доколе, о соотечественники, будем мы терпеть кривду и уроны? И доколе звери алчные, пиявицы ненасытные будут попирать наш трудовой пот и насмехаться над голубиной нашей кротостью? Вот вы, дедуль, перевесьте свою грудинку. Клянусь честью, там одной бумаги на двугривенный.
Очередь забеспокоилась. Но старик, к которому воззвал праведный глас Денисова, сразу обрадовался, сказал, что такую контру, как Денисов, он рубал на южных и юго-восточных фронтах, что он боролся с Деникиным, что он как участник ВОВ получает к праздникам свой шмат икры, и ветчину утюжком производства Федеративной Республики Югославии, и даже две пачки дрожжей, что свидетельствует о безоговорочном доверии к нему, участнику ВОВ, со стороны государства в том плане, что он не употребит дрожжи во зло и самогон гнать не будет; сказал, что теперь он в ответ на доверие государства каленым железом выжигает половую распущенность в ихнем кооперативе «Черный лебедь» и не позволит всяким гадам в японских куртках бунтовать против нашего советского мясника, что правильно сориентированный человек должен понимать, что нехватка мяса объясняется тем, что кое-кто завел дорогих, недоступных простому народу собак и те все мясо поели; а что если масла нет – значит, и войны не будет, потому что все деньги с масла пошли на оборону, а кто носит тапки «адидас», тот нашу родину предаст. Сказав, старик отошел довольный.
Несколько человек, прослушав стариковы речи, посерьезнели и бдительно осмотрели одежду и ноги Денисова, но большинство охотно зашумели, дали взвесить мясо и, убедившись, что разнообразно обсчитаны, радостно возмутились и, счастливые своей правотой, толпой двинулись в подвал, к директору. Денисов вел массы, и уже словно заколыхались в воздухе хоругви, и всходило невидимое солнце девятого января, и в задних рядах будто даже запели, но тут вдруг директорская дверь распахнулась, и из тусклого закута с полными сумками в руках – женскими, стегаными, в цветочек – выплыл знаменитый красавец, актер Рыкушин, буквально на этой неделе мужественно хмурившийся и многозначительно куривший в лицо каждому с телеэкрана. Бунт немедленно распался, узнавание было радостным, хотя и не взаимным, женщины взяли Рыкушина в кольцо, тут же сиял кучерявый директор, произошло братание, кое-кто прослезился, незнакомые люди обнимали друг друга, одна полная женщина, которой было плохо видно, влезла на бочонок с сельдью и отцицеронила такую горячую речь, что было тут же решено направить коллективную благодарность в торг, а Рыкушина просить взять творческое шефство над двести тридцать восьмыми ясельками с ежегодным появлением в виде Деда Мороза. Рыкушин кудрявил блокнот, вырывал листки с автографами, пускал по волнам голов; сверху, из торгового зала, валили новые поклонники, под руки вели ослепшую от волнения четырежды орденоносную учительницу, а пионеры и школьники со свистом съезжали вниз по шатким перилам, шлепаясь в капустные отвалы. Денисов что-то сипел о правде, его не слушали. Он рискнул, присел на корточки, отогнул край рыкушинской сумки, ковырнул бумагу. Там были языки. Так вот кто их ест. Он снизу, с корточек, заглянул в холодные глаза гурмана, и тот ответил взглядом: да. Вот так. Положь на место. Народ за меня.
Денисов признал его правоту, извинился и выбрался вон против течения.
Вид безмятежно существующей Австралии вызвал у него ярость. Вот тебе! Он дернул карту и вырвал пятую часть света вместе с Новой Зеландией. Заодно и Филиппины треснули.
Ночью сочилось с потолка. Капитан приехал. Деньги будут. Вот написать повесть о капитане. Кто он да откуда. Где плавает. Почему капает. А почему он, действительно, капает? Без воды не может?
А может быть, у него труба проржавела.
Или он пьян.
Или он приходит в ванную, кладет голову на край умывальника и плачет, плачет, как Денисов, плачет, оплакивает свою бессмысленную жизнь, морскую пустоту, обманчивую красоту лиловых островов, людские пороки, женскую глупость, оплакивает утонувших, погибших, забытых, преданных, ненужных; слезы текут по замызганному рукомойному фаянсу, льются на пол, вот уже поднялись до щиколоток, вот дошли до колена, рябь, круги, ветер, шторм. Разве не сказано: сердце мудрых – в доме плача, сердце глупых – в доме веселья?
Тетя Рита, где ты? В каких пространствах бродит твой легкий дух, знаком ли тебе покой? Носишься ли ты бледным ветерком над лугами мертвых, где мальвы и асфодели, воешь ли зимней бурей, протискиваясь в щели теплых человеческих жилищ, поешь ли в звуках рояля, рождаясь и умирая вместе с музыкой? Может быть, скулишь бездомной собакой, торопливым ежом перебегаешь ночную дорогу, безглазым червем свернулась под сырым камнем? Видно, плохо тебе там, где ты теперь, иначе зачем проникать в наши сны, протягивать руку, просить подаяния – хлеба или, может быть, просто памяти? И кого это ты взяла к себе в компанию, ты, такая красивая, со светлыми волосами, с цветным кушаком? Или те дороги, по которым вам бежать, так опасны, леса, где вам ночевать, так холодны и пустынны, что вы сбиваетесь в шайки, жметесь друг к другу, держитесь за руки, пролетая ночью над нашими освещенными домами?..
Неужели и мне через короткий неведомый срок тоже предстоит вот так скитаться, скулить, стучаться: вспомни, вспомни!.. Предрассветный стук копыт по булыжной мостовой, глухой удар яблока в облетевшем саду, всплеск волны в осеннем море – кто-то просится, царапается, хочет вернуться, но ворота закрыты, и замки заржавели, и выброшен ключ, и умер сторож, и никто не пришел назад.
Никто, слышите, никто не пришел назад! Слышите?! Я сейчас закричу!!! Аааааааааааа! Никто! Никто! И всех нас несет туда, толкает в спину неодолимая сила, ноги скользят по осыпающемуся склону, руки цепляются за кустики травы, дайте же хоть опомниться, передохнуть! Что останется от нас? Что останется от нас? Не трогайте меня! Лора! Лора! Да Лора же!!!
…И вот она возникла из тьмы, из сырого тумана, возникла и двинулась ему навстречу, не торопясь – топ-перетоп, шаг-перешаг, – в каких-то разнузданных золотых сапожках, в наглых, раскоряченных, развратно коротких сапожках; худые, сирые щиколотки ее поскрипывали, покачиваясь в золотой коже, выше свивался и шелестел пышный плащ в черном бисере ночного тумана, бряцали и лязгали пряжки, еще выше двигалась улыбка – и уличные огни лунной радугой вспыхивали на розовых зубах, над улыбкой нависли тяжелые очи, и все это шевеление, весь этот риск и блеск, торжество и безобразие, весь клубящийся живой омут был пришлепнут сверху трагической мужской шляпой. Господи боже, царю небесный, вот с ней и предстоит делить ему ложе, стол и мечты! Какие мечты? Неважно. Всякие. Красивая женщина, болтливая женщина, в головке – мусор, но красивая женщина!
– Ну, здравствуй, Денисов, сто лет не виделись!
– Что это за онучи на тебе, прелестница? – недовольно спросил Денисов, целуемый Лорою.
Она удивилась и посмотрела на свои сапоги, на их мертвые золотые обшлага, вывернутые, как бледная плоть поганок. То есть как это?! Что это с ним? Да она их уже целый год носит, он что, забыл? Другое дело, что пора уже новые покупать, но ей совершенно сейчас не до того, потому что, пока он там себе отшельничал, с ней случилось кошмарное несчастье: дело в том, что она в кои-то веки выбралась в театр, она хотела хоть немного отдохнуть от папы и пожить, как все люди, а папу она отправила на дачу и попросила Зою Трофимовну за ним присмотреть, Зоя Трофимовна больше трех дней выдержать не смогла, да и никто бы не смог, ну это к слову, так вот, пока она прохлаждалась в подвальном театрике – очень модном, очень труднодоступном театрике, где все-то оформление – рогожа да канцелярские кнопки, где с потолка каплет, но дух светел, где дует по ногам, но как войдешь, так тебе сразу и катарсис, где такое горение и святые слезы, что просто держите меня, – так вот, пока она там валандалась и хлопала ушами, их квартиру обчистили злоумышленники. Все вынесли, буквально все: и подсвечники, и лифчики, и подписного Мольера, и филимоновскую ядовито-розовую игрушку в форме мужика с книгой – подарок одного писателя-деревенщика, прирожденный гений, не печатают, а он пешком пришел из глубинки, ночует по добрым людям и принципиально не моется, принципиально, потому что знает Главную Правду и ненавидит кафель лютой ненавистью, просто багровеет, если видит где-нибудь кафель или метлахскую плитку, у него и цикл поэм есть антикафельный – могучие, бревенчатой силы строки, там все что-то гой! гой-еси! и про гусли-самогуды, что-то очень глубинное, – так вот, и подарок его пропал, и шуршащий вьетнамский занавес сняли, а что не могли вынести, то сдвинули с места или повалили. Ну что за люди, просто я не знаю, она, естественно, заявила в милицию, но толку от этого, конечно, никакого не будет, потому что у них там такие страшные стенды – дети, пропавшие без вести, женщины, по многу лет их не могут найти, так неужели они тут же бросятся прочесывать Москву в поисках каких-то там лифчиков? Хорошо еще, что папины рукописи не выбросили, только распушили. Так что вот, всем этим она страшно расстроена, а еще она расстроена тем, что была на вечере встречи с бывшими одноклассниками, пятнадцать лет окончания школы, и все изменились так, что просто не узнать, просто кошмар какой-то, чужие люди, но главное не это, а главное то, что у них были такие Маков и Сысоев, сидели на задней парте и плевались жеваной бумагой, приносили в школу воробьев и вообще были не разлей вода; так вот, Маков погиб в горах – там и остался, и уже четыре года назад, и никто не знал, подумать только, просто герой, больше ничего, а Сысоев стал такой сытый и довольный, приехал на черной машине с шофером и велел шоферу ждать, и тот действительно весь вечер проспал в машине, а когда ребята узнали, что Сысоев такой важный и главный, а Маков лежит где-то в расщелине под снегом и не может прийти, а эта свинья поленился пройтись пешочком и прикатил на казенной машине, чтобы всем тыкать этой машиной в глаза, – вышла небольшая драчка и заваруха, и вместо теплых объятий и светлых воспоминаний устроили Сысоеву бойкот, как будто не о чем больше было поговорить! И как будто он виноват, что Маков полез в эти горы! И все просто озверели, так грустно все это, а один мальчик – конечно, он уже лысый совсем, Пищальский Коля, – наковырял из салата крабов, и счистил их со своей тарелки прямо на лицо Сысоеву, и кричал: ты ешь, ты привычный, а мы люди простые! И все думали, что Сысоев его за это убьет, а он ничего, он очень смущался и хотел общаться, а все отворачивались, и он ходил такой растерянный и всем предлагал, кто хочет, противотуманные фары. И потом он ушел как-то боком, и девочки стали его жалеть и кричать: вы не люди! что он вам сделал? И так все и разошлись, злые и злобные, и ничего из вечера не вышло. Вот так вот, Денисов, а ты что молчишь, я по тебе соскучилась, пошли к нам, правда, там здорово разворовано, но я уже привела все в более или менее божеский вид.
Скрипели золотые Лорины сапоги, шуршал плащ, сияли глаза из-под шляпы, брови пахли розами и дождем… а дома, в прокуренной комнате, под мокнущим потолком, прищемленная сдвинутыми пластами времени, бьется тетя Рита со товарищи; она погибла, и порвался кушак, и рассыпалась пудра, и сгнили светлые волосы; она ничего не сделала за свою короткую жизнь, только спела перед зеркалом, и вот теперь, мертвая, старая, голодная, испуганная, мечется в государстве снов, попрошайничает: вспомни!.. Денисов покрепче ухватил Лорин локоть, повернул к ее дому, разгоняя туман: не надо им расставаться, быть им всегда вместе, под одной фигурной скобкой, неразрывно, неразъемно, нерасторжимо, слитно, как Хорь и Калиныч, Лейла и Меджнун, «Дымок» и спички.
Чашки были украдены, так что пили из стаканов. Белоснежный папа, уютный, как сибирский кот, ел пончики, зажмурив от счастья глаза. Вот и мы тоже, как те трое – старик, женщина, мужчина, думал Денисов, мы тоже сбились вместе, высоко над городом, посмотреть сторонним взглядом – что нас объединяет? Маленькая семья, мы нужны друг другу, слабые и запутавшиеся, ограбленные судьбой, – он без работы, она без головы, я – без будущего. Так сбиться же тесней, держаться за руки, один споткнется – двое поддержат, есть пончики, никуда не стремиться, запереться от людей, жить, не поднимая головы, не ожидая славы… в положенный срок закрыть глаза поплотней, подвязать челюсть, скрестить на груди руки… и благополучно раствориться в небытии? Нет, нет, ни за что!
– Занавески все вынесли, подлые, – вздыхала Лора. – Ну зачем им мои занавески?
Туман улегся, а может быть, он и не поднимался до шестнадцатого этажа, этот легкий летний туман, – в оголенные окна смотрела чистая чернота, драгоценные огни далеких жилищ, и только на горизонте, в лакированной японской тьме вспухал оранжевый полукруг встающей луны, словно проступила вершина горы, освещенная фруктовым утренним светом. Где-то там, в горах, вечным сном спит Маков, Лорин одноклассник, поднявшийся выше всех людей и оставшийся там навсегда.
Светлеет розовая вершина, скалы пылят снегом, Маков лежит, вглядываясь в небосвод; холодный и прекрасный, чистый и свободный, он не истлеет, он не состарится, не заплачет, никого не уничтожит, ни в чем не разочаруется. Он бессмертен. Может ли быть судьба завиднее?
– Послушай, – сказал Лоре пораженный Денисов, – но если ваши дундуки ничего про этого Макова не знали, то, может быть, его сослуживцы?.. Музей там какой-нибудь организовали бы или что-то такое? И почему бы вашей школе не носить имя Макова – ведь он же ее прославил?
Лора удивилась: какой там музей, господь с тобой, Денисов, где ж музей-то? Он учился через пень-колоду, бросил институт, потом армия, то-се, а в последние годы вообще работал кочегаром, потому что любил книжки читать. Семья с ним намучилась, ужас, это я знаю от Нинки Зайцевой, потому что ее свекровь с маковской маманей вместе работают. А школа имени Макова никак быть не может, потому что уже носит имя А. Колбасявичюса. С которым, между прочим, тоже все не так просто, потому что, видишь ли, было два брата-близнеца Колбасявичюсы, один убит лесными братьями в сорок шестом году, а второй сам был лесным братом и умер, объевшись поганками. А поскольку инициалы у них были одинаковые, а по внешности родная мать не могла их различить, то возникает крайне двусмысленная ситуация: можно было бы считать, что школа – имени брата-героя, но в свое время местные следопыты выдвинули версию, что брат-герой проник в лесное логово и там был коварно погублен бандитами, распознавшими подмену и окормившими его ядовитым супчиком, а брат-бандит осознал свое заблуждение и честно пошел сдаваться, но по ошибке был застрелен. Ты понял, Денисов? Один из них точно герой, но кто именно – не установлено. Наша директриса просто с ума сходила, она даже подала петицию, чтобы школу переименовали. Но все равно о Макове даже речи идти не может, он же не сталевар, верно?
Вот она, людская память, людская благодарность, подумал Денисов и почувствовал себя виноватым. Кто я? Никто. Кто Маков? Забытый герой. Может быть, судьба, обувшись в золотые сапожки, подсказывает мне: прекрати метаться, Денисов, вот твое дело в жизни, Денисов! Извлеки из небытия, спаси от забвения погибшего юношу; над тобой посмеются – стерпи, будут гнать – держись, унизят – пострадай за идею. Не предавай забытых, забытые стучатся в наши сны, вымаливают подаяния, воют ночами.
Когда Денисов уже засыпал в обворованной квартире высоко над Москвой, а рядом засыпала Лора и темные волосы ее пахли розой, – поднялась голубая луна, легли глубокие тени, скрипнуло в глубине квартиры, прошуршало в прихожей, стукнуло за дверью, и что-то мягко, мерно, медленно – скок! скок! – двинулось по коридору, доскакало до кухни, пискнуло дверью, повернулось и – скок! скок! скок! – направилось в обратный путь.
– Эй, Лора, что это такое?
– Спи, Денисов, ничего. Потом.
– Как это потом? Ты слышишь, что делается?
– О боже мой, – зашептала Лора, – ну это папа, папа! Я же тебе говорю, что у меня проблемы с папой! Он сомнамбула, он ходит во сне! Ну я же тебе говорила, его выперли с работы, и у него сразу же это началось! Что я могу поделать? Я у лучших врачей была! Тенгиз Георгиевич сказал: побегает и перестанет. А Анна Ефимовна сказала: что вы хотите, это возрастное. А Иван Кузьмич сказал: чертей не ловит – и слава тебе, господи! А через Рузанну я вышла на одного экстрасенса из Министерства тяжелой промышленности, так после сеанса стало только хуже: он голый бегает. Спи, Денисов, мы все равно ничем не поможем.
Но какой уж тут мог быть сон, тем более что зоолог, судя по звукам, снова доскакал до кухни, и там что-то рухнуло со звоном.
– Ой, я с ума сойду, – заволновалась Лора, – он последние стаканы побьет.
Денисов натянул штаны, Лора бросилась к отцу, раздались крики.
– Ну что он делает! Господи, он мои сапоги надел! Папа, я тебе тыщу раз говорила… Папа, да проснись же ты!
– Теплокровные, ха-ха! – рыдая, кричал старичок. – Они называют себя теплокровными! Простейшие, и больше ничего! Уберите свои псевдоподии!
– Денисов, да хватай же ты его сбоку! Папочка, папочка, успокойся! Валерьянки сейчас… За руки, за руки держи!
– Пустите меня! Вон они! Я их вижу! – рвался сомнамбула, и сила у него откуда-то бралась немыслимая. На голом теле зимними, шерстяными вещами казались усы и борода.
– Да папочка же!
– Василий Васильевич!
Ночь летела над миром, далеко во тьме кипел океан, растерянные австралийцы озирались, огорченные исчезновением своего континента, капитан заливал горючими слезами прокуренную берлогу Денисова, кушал холодное из кастрюли проголодавшийся от славы Рыкушин, Рузанна спала головой на восток, Маков спал головой в никуда – каждый занят был своим делом, и кого могло взволновать, что посреди города, в вышине, в перламутровом свете луны мечутся, борются, топчутся, кричат и страдают живые люди – Лора в прозрачной сорочке, лицезреть которую не отказались бы и цари, зоолог в золотых сапогах и Денисов, истерзанный видениями и сомнениями?
…Дачная местность была чудесной – дубы, дубы, а под дубами лужайки, а на лужайках в красноватом вечернем свете играли в волейбол – гулко чвакал мяч, медленный ветер проводил по дубам, и дубы медленно отвечали ветру. И маковская дача тоже была чудесная – старая, серая, с башенками. А среди клумб, под сырой вечерней черемухой сидели за круглым столом, пили чай с малиной и смеялись четыре сестры, мать, отчим и тетка Макова; тетка держала на руках младенца, тот помахивал пластмассовым попугаем, в сторонке умилялась безвредная собака, и даже какая-то птица, пешочком, не торопясь, шла по дорожке по своим делам, не потрудившись хотя бы из вежливости всполошиться при виде Денисова и броситься куда попало. Он был немного разочарован идиллией. Конечно, напрасно было бы ожидать, что дом и сад убраны траурными флагами, и что ходят на цыпочках, и что черная от горя мать лежит пластом на постели и не сводит глаз с сыновнего ледоруба, и что время от времени то один, то другая выхватывают скомканный платок, чтобы вцепиться в него зубами и удушенно зарыдать, – но все-таки чего-то печального он ждал. А они забыли, они все забыли! А он-то тоже хорош: с букетом, будто поздравить… Они обернулись и с недоумением, с испуганными улыбками смотрели на Денисова, на вязанку бархатцев в его руке, багровых, как закат перед ненастьем, как запекшиеся кровяные корочки, как мементо мори. Младенец, самый чуткий, еще не забывший той страшной тьмы, откуда недавно был вызван, сразу догадался, кем послан Денисов, закричал, забился, хотел предупредить, но слов не знал.
Нет, ничего печального не было видно, печальным было разве то, что Макова здесь не было: не играл он в волейбол под медленными дубами, не пил чай под черемухой, не гонял поздних комаров. Денисов, твердо решившийся пострадать во имя покойного, преодолел неловкость, вручил цветы, поправил траурный галстук, подсел к столу, объяснился. Он – посланец забытых. Такова его миссия. Он хочет знать об их сыне все. Может быть, напишет его биографию. Музей, а если нельзя, то хотя бы уголок в музее организует. Стенды. Детские вещи. Чем увлекался. Может быть, собирал бабочек, жуков. Чай? Да-да, с сахаром, спасибо, две ложки. С гляциологами надо будет связаться. Возможно, восхождение Макова чем-то важно для науки. Увековечение памяти. Ежегодные Маковские чтения. Помечтаем: пик Макова – почему бы нет? Фонд Макова с добровольными пожертвованиями. Да мало ли!..
Сестры повздыхали, отчим курил, скучливо подняв седые брови, а мать, тетка и младенец заплакали, но то был грибной дождь – любые слезы высыхали здесь, среди малины, дубов и черемухи, – и медленный ветер, прилетев с далеких цветущих полян, подсказывал: брось. Все хорошо. Все спокойно. Брось… Мать придавила платком нос, чтобы не дать слезам ходу. Да, печально, печально… Но все прошло, слава богу, прошло, забылось, утекло водой, зацвело желтыми кувшинками! Жизнь, знаете ли, идет! Вот Жанночкин первенец. Это наш Василек. Василек, ну-ка, где у бабы нос? Пра-авильно. Агу-гуленьки! Ату-тусеньки! Вера, он мокрый. Вот наш сад. Клумбы, видите? Ну, что же еще… Вон там гамак. Удобно, да? А это Ирочка наша, она замуж выходит. Хлопот, знаете! Все молодым устрой, все им подай!
Ирочка была премиленькая – молодая, загорелая. Комары ужинали на ее голой спине. Денисов засмотрелся на Ирочку. Ветерок покачивал черные ягоды черемухи.
– Пойдемте, сад посмотрим. Как у меня помидоры хорошо взялись. – Маковская мать отвела Денисова в глубь сада и зашептала: – Девочки Сашу очень любили. Ирочка особенно. Ну что же делать. Я вижу, вы с душой, помочь хотите. У нас просьба к вам… Она замуж выходит, мы мебель им достаем… И знаете, она шкаф «Сильвия» хочет. Сбились с ног. Ведь молодые, что ж… Им жить хочется. Если бы Саша был жив, он бы всю Москву перевернул… В память Саши… для Ирочки… «Сильвию», а? Молодой человек?..
«Сильвию» покойнику!» – крикнули незримые силы. Вечная память!
– «Сильвия»… «Сильвия» шкаф… Как бы Саша радовался… Как бы радовался… Ну, еще чайку давайте.
И они пили чай с малиной, и дубы никуда не спешили, и Маков лежал в высоте, в алмазном блеске, скалясь в небо нестареющими зубами.
Долг есть долг. Хорошо, пусть это будет шкаф. Почему нет? От Макова останется шкаф. От тети Риты – стеклянная пудреница. Пудреницу я променял. Ничего не осталось. Загробная темь. Выжженная степь. Мерзлая наледь. Грибная сырость подвала. Железный запах крови. Шестая часть света, вырванная с мясом. Нет! Ничего не хочу знать! Я ничем не мог помочь, я был маленький! Я помогаю только Макову, за всех, за всех, за всех! И когда крупные вежливые санитары уводили рыдающего капитана и он цеплялся за притолоки, за почтовые ящики, за шахту лифта, расставлял ноги, подгибал колени, визжал, а потом из его квартиры вынесли и отдали пионерам на макулатуру сотни бумажных корабликов, а я и все соседи стояли и смотрели – я тоже ничем не мог помочь, я помогаю только Макову!
Ничего не хочу знать! Шкаф, только шкаф! Шкаф, буфет, мебельный гарнитур с бронзовыми вставками – золотой волосок, не толще! – с блестящими уголками, с деликатной резьбой, с мелким блеском стекольных шашек. Нежные ямки резьбы – мягко, легко так, будто заяц пробежал, – чудесный, чудесный кусок жилья!
Будто заяц пробежал в коридоре. Лорин папа. Дзинь! – разбил что-то. Пудреницу. Нет, стакан. Они пьют чай с малиной из стаканов. Маков смотрит в небо: достаньте шкаф во имя мое! Согласен. Я постараюсь. Я готов пострадать. Я пострадаю – и Маков отпустит меня. И капитан отпустит. И тетя Рита. И ее товарищи опустят невыносимые глаза.
Лора ровно дышит во сне, волосы ее пахнут розами, в коридоре шуршит зоолог, двери заперты – куда убежишь? – пусть побегает – выдохнется, устанет, лучше будет спать. «Я знал, но забыл, я знал, но забыл», – бормочет он, и глаза его закрыты, и ноги легки. Взад-вперед, взад-вперед, по лунным квадратам, мимо книжных полок, от входной двери до кухонной. Взад-вперед, может быть, надел Лорину шляпку или босоножки, может быть, повязал шею газовым шарфиком или украсил голову дуршлагом, он любит ночные безделушки; взад-вперед, от двери до двери, мягкими прыжками, высоко поднимая колени, вытянув руки вперед, словно ловит что-то, но ни разу еще не поймал, – веселая охота, безобидные жмурки, никакого вреда. «Я знал, но забыл!»
Утром пришел красный рассвет, растворилась гора с черной букашкой Макова на вершине, усталый лунатик сладко уснул, запели дегенеративные городские птицы, и две голубые слезы скатились из денисовских глаз в денисовские уши.
В поисках «Сильвии» Денисов толкался в самые разные двери, но везде нарывался на отказы. Вы что? Импорт сокращен! А уж «Сильвия» тем более! Ишь!.. Да ее и генерал не достанет! Разве маршал, да и то смотря какой! Какого рода войск! Нет, товарищ Петрюков вам не поможет. И Козлов не поможет. И к Люлько не обращайтесь – бесполезно. А вот товарищ Бахтияров… Товарищ Бахтияров может сделать, помочь, но человек он прихотливый и своеобразный, характер у него кудрявый и непредсказуемый, и как этого Бахтиярова взять за жабры – одному дьяволу известно. Но безусловно ловить его надо не в кабинете, а где-нибудь в «Лесной сказке», когда товарищ кушает и расслабляется. Можно и в баньке, и в баньке-то лучше всего, и это старинный способ – подгадать момент, когда красавица сбросит лебединые перья и оросит себя, так сказать, родниковыми струями, – тут-то ее, голубушку, и цопнуть, перья – в загашник, а от самой просить чего душа пожелает. Но Бахтияров на красавицу не тянет, увидите сами, и перья его, и штаны, и чемодан с бельем и всякими закусками и заедками до того надежно охраняются, и банька до того непростая, и так она ловко поворачивается к лесу передом, к людям задом, что проникнуть в нее без петушиного слова не моги и думать. Так что попробуйте все-таки в загородном поищите, в «Сказке». Ну что делать, попробуйте! Он там отдыхает.
И была «Сказка».
Фу-ты, до чего там было тепло, до чего нарядно, а как славно пахло! Сейчас бы Лору сюда, да денег побольше, да вон в тот угол под желтым абажуром, где салфетки кульком, где мягкие кресла! Покой измученной, полубезумной душе!
Шли официанты, и Денисов спросил самого сладкого и ласкового: нет ли тут, часом, товарища Бахтиярова? – и тот сейчас же полюбил Денисова, как родного брата, и мизинчиком указал и направил: вон там товарищ отдыхают. В кругу друзей и прекрасных дам.
Теперь туда – будь что будет, – туда, – не за себя прошу, – туда, где куполом клубится синий дым, где порывами ветра гуляет хохоток, где шампанское пенистым крюком выскакивает на скатерть, где тяжелые женские спины, где кто-то в сиреневом галстучке, щуплый, собачистый, быстро вертится вокруг Хозяина, непрерывно его обожая. Шагнуть – и он шагнул, и пересек черту, и стал посланцем забытых, безымянных, реющих в снах, занесенных снегом, белой костью торчащих из степной колеи.
А товарищ-то Бахтияров оказался человеком круглым, мягким, китайцеобразным, даже каким-то славненьким с виду, и сколько ему было лет – шестьдесят или двести, – сказать было нельзя. Видел он человека насквозь, все видел – и печенку, и селезенку, и сердчишечко, да только не нужна была ему ваша печенка-селезенка – черт ли в ней, – вот и не смотрел он на вас, чтобы не прострелить насквозь, и разговоры завивал куда-то вбок и мимо. Ел товарищ Бахтияров телятину нежности прямо-таки возмутительной, преступно юного ел поросеночка, и зелень была – три минуты как с грядки – столь невинная, еще и не опомнилась, росла себе и росла, вдруг хоп! – и сорвали, и крикнуть-то не успела, а уж ее едят.
– Люблю молодежь кушать, – сказал Бахтияров. – А вам, зайчик, нельзя: язва у вас, по лицу вижу. – И точно, угадал: у Денисова была старинная язва. – А вот я вас с пользой попотчую, – сказал Бахтияров. – За мое ли за здоровьичко, за мое ль за разлюбезное.
И по его щелчку подали тушеную морковь и воду «Буратино».
– Думаю я, думаю, – говорил он между тем, – день и ноченьку все думаю, а ответа не придумаю. Вот вы человек, видать, ученый – глазки у вас эвон какие невеселенькие, ну-ка подскажите. Отчего пивной завод – имени Стеньки Разина? Ведь это ж, голуби мои, государственное учреждение, план-переплан, отчетность, соцсоревнование, партком, – держите меня, – местко-ом! Местком! Шутка ли? И тут же какой-то разбойник. Нет, не понимаю. По-моему, смешно. Смейтесь!
Друзья и дамы засмеялись, сиреневый даже взвизгнул. Денисов тоже вежливо улыбнулся и отпил теплое «Буратино».
– А с другой стороны посмотреть: Степан Тимофеевич – это ж народный герой, это ж чаянья наши, – и за борт ее бросает, – это ж, понимаете, событие большого политического звучания, – и тут же какой-то заводишко с сомнительным, понимаешь, профилем; по-моему, смешно. Смейтесь!
Дамы опять открыли рты и захохотали.
– Ка-ак у тещи в чем-модане береженый шевиот… он не тлеет, он не преет, не ржавеет, не гниет, – вдруг запел сиреневый, поводя плечами и притопывая.
– Вот как мы тут славно шуткуем, – говорил довольный Бахтияров, – светлым детским смехом смеемся да посмеиваемся, и все в рамочках дозволенного, все в граничках допустимого… И все-то у нас ладушки, а у вас ко мне просьбишка, а вот-ка мы ее послушаем…
– Собственно, дело очень простое, то есть очень сложное, – сосредоточился Денисов. – То есть, видите ли, я как бы прошу не для себя, лично мне ничего не нужно…
– Клен ты мой опавший, кто ж для себя просит, для себя нынче никто не просит… Нынче только плюнь – набегут проверяльщики, подхватят под белы рученьки, – туда ли плюнул, да где слюну брал, да на каком таком основании, – а мы что, мы ничего, чистенькие… А можно я вас буду звать цыпа-ляля? Ты мороз, мороз! – запел товарищ Бахтияров. – Пойте, голуби!..
– Не морозь меня!.. – завели за столом.
– Ка-ак у тещи в чемодане, – поперек хора пробовал сиреневый, но его заглушили. Пели хорошо.
– У Клавдюхи-то сопрано – не фу-фу, – говорил Бахтияров. – Наша Зыкина! Мария, так сказать, Каллас, а то и покрепче! Ты тоже пой, цыпа-ляля.
«Что ж, предупреждали, – думал Денисов, мерно разевая рот. – Предупреждали, и я готовился, ведь не для себя же, и ничто просто так не дается, не пострадав – не добьешься, просто я не предполагал, что страдать до такой степени неприятно».
– Не повалявши не поешь, – подтвердил товарищ Бахтияров, глянув Денисову в самое сердце, – а ты как думал, роднулька моя? Тебе какой артикул-то? Шка-а-аф?.. Ишь мы какие шалуны… А ты спел бы нам лично, а? Вот так, попросту, для души? Выдай нам свое потребительское соло, чтоб душа играла! Слушаем, голуби мои! Тишина! Уважаем!
Денисов торопливо спел, страдая под взглядами бахтияровских гостей, спел, что подвернулось, что поется во дворах, в походах, в электричках, – городской романс о Шаровой Леночке, поверившей в любовь, и обманутой, и надумавшей погубить плод легкомысленного своего заблуждения: «Да ямку вырыла, да камень тиснула, а Зина-девочка разочек пискнула!» – пел, уже понимая, что он в пустыне, что людей здесь нет, пел о приговоре, вынесенном бессердечными судьями: «а расстрелять ее! да расстрелять ее!», о печальном и несправедливом конце заблудшей: «я подхожу к тюрьме, она раскрытая, Шарова Леночка лежит убитая», и Бахтияров сочувственно кивал мягкой головой, нет, Бахтияров-то был еще ничего, совсем ничего, на лице его даже просматривались какие-то уютные, симпатичные уголочки, а если сощуриться, то можно бы на минуточку поверить, что вот – дедушка, старенький, любит внучат… но только если, конечно, сощуриться. Другие были много хуже – вот эта, например, очень плохая женщина, похожая на лыжу, – перед ее весь заткан парчой, а спина совершенно голая; или та, другая, красавица с глазами кладбищенского сторожа; но страшнее всех вон тот вертлявый хохотун, развинченный петрушка, и галстучек его сиреневый, и жабий рот, и шерсть на голове, кто бы изничтожил его, извел, прижег, что ли, всего зеленкой, чтобы не смел смотреть!.. А впрочем, все они ужасны лишь постольку, поскольку празднуют мое унижение, крестные мои муки, а так – граждане как граждане. Ничего. «Шарова Леночка лежит убитая!»
– Как хорошо-то, пончики мои! – удивился Бахтияров. – Как товарищ хорошо спел-то! Просто пьяниссимо, да и только. Да и весь тут сказ. А ну как и мы грянем. В ответ! Покажем гостю бемоль!
Гости грянули; сиреневый вертун – сама предупредительность – дирижировал вилкой, у красавицы из мертвых глаз струились слезы; едоки из-за соседних столов, утеревшись салфетками, присоединялись к хору, пронзительной, струнной нотой вступало Клавдюхино сопрано:
- Ах, мама, ты милая мама,
- Зачем ты так рано ушлааааааааааааа,
- Сынишку воришкой оставила,
- Отца-подлеца не нашла!!!
Там, в горах, повалил снег, все гуще и гуще, наметая сугробы, засыпая Макова, раскинутые его ноги, обращенное к вечности лицо. Он не тлеет, он не преет, не ржавеет, не гниет!.. Сугробы поднимались все выше, выше, гора захрустела под тяжестью снега, загудела, лопнула, с паровозным грохотом сошла лавина, и на вершине ничего не осталось. Снежный дымок покурился и осел на скалы.
– Не друзья ли мы с тобой, посетитель дорогой! – кричал Бахтияров, хватая Денисова за щеки. – Во! Стихами говорю! Не чужд! А?! Я такой! Испей «буратинца» за мое здоровьичко! До дна, до дна! Вот так! А знаешь, вот что: уважь старого друга! Гулять так гулять! Полезай под стол! Для смеха! Пошё-ёл!
– Вы что? – сказал Денисов, свободный от Макова. – Вы что, дядя? Гуд бай вам, и шкаф мне ваш не нужен. Я передумал. – И он стал вставать.
– Под стол! Ничего не знаю! Что такое?! – рвал пиджак Бахтияров. – Просим! Господа!..
– Про-сим! Про-сим! – топали дамы, друзья, гости, официанты, откуда-то взявшиеся повара, и весь зал, поднявшись на ноги, выходя из-за столов, дожевывая, скандировал и хлопал в ладоши: – Про-сим!
Нет же, нет, нет! Почему?! Я человек, звучу гордо, не полезу, хоть убейте!.. Ну, а пострадать? Эй, вспомни! Пострадать-то! Ты же хотел.
Он дико затосковал, как перед смертью, ослабел душой, нахмурился – не помогло, хотел вздохнуть – нечем уж было и вздохнуть. А Бахтияров уже откинул скатерть, и боком сел, чтобы ноги не мешали, и приглашал рукой: прошу! пожалуйте!..
…Он скрючился в полотняной штопаной полутьме, поджав колени, как зародыш, тупо глядел на женские ноги, на серебряные хвосты и лакированные копытца; коварное брашно туманило слух и взор; сопрано давило голову; вот что я сделаю. Я знаю. Я поставлю памятник забытым. Пусть это будет плоское место в степи, без ограды, без знака, пусть растет там ковыль или камыш, пусть солнце выжжет землю, чтобы выступила соль, пусть валяется там щебень или битое стекло, пусть вечерами воет шакал или пирует разудалая компания. Привет вам, консервные банки, и вам, пивные пробки, слава плевкам, ура раздавленным помидорам. Холм мусора или соляная проплешина, шорох ковыля или свист ветра – все хорошо, все безразлично, ничто не страшно забытым, – ведь с ними уже ничего больше не может случиться.
Под стол свесилось зареванное безглазое женское лицо, забормотало, ища сочувствия:
– Почему, ну почему одним все широе, лёркое, бротистое, а другим только плявое и мяклое, ну почему?
Сердце мудрых – в доме плача.
«Буратино» сморило Денисова, и он уснул.
Лунный луч, пробившись сквозь штопку, кольнул в глаз. Лунная скатерть лежала на паркете, серебряный сад стоял за окном, август чиркал звездами во тьме. Словно все снега со всех гор осыпались на сад, на тишину, на немые тропинки. Денисов скрипнул половицей, постоял у окна. Никого он не видел сегодня во сне.
Петух пропел, Бахтияров и ведьмаки его сгинули, тени спят, в мире покой.
Да и что за глупость – мучиться воспоминаниями ни о чем, выпрашивать у мертвеца прощения за то, в чем, по людскому счету, ты неповинен, ловить горстями туман? И никакого нет пятого измерения, и никто не подводит баланс твоих грехов и побед, и нет в конце пути ни кары, ни награды, да и пути нет, и слава – дым, и душа – пар, и если ты полез под стол, то уж прости, дорогой, но это твой выбор и твой личный вкус, и благодарное человечество не повалит толпами за тобой, и незримые силы не крикнут из предвечной лазури: «Хорошо, Денисов! Давай! Жми в таком духе! Всецело одобряем и поддерживаем!»
Он обошел всю «Сказку», дергая двери, все было заперто. Н-да, комиссия! Сиди теперь до утра. Окно, что ли, вышибить? Тут небось сигнализация. Поселок маленький, всё на виду – засвистят, замигают, выедут опергруппы; не в саду, так на шоссе поймают как миленького. В небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянье голубом, а Денисов будет метаться между кустами и будками, приседать за мусорные баки, шуршать в боярышнике, заслоняться от прожекторов. Ни к чему. Валом тьмы окружен мир; бесплотный лунный сахар пересыпается с листа на лист, дрожа и мерцая; сахар, снег, сон, глушь, все застыло, все умирает, тупея в бессмысленной красоте, все забыто, все прощено, да ничего и не было, да и не будет ничего.
А, вот телефон. Лоре позвонить. Умер сам – научи товарища.
Голос у Лоры был насморочный.
– Ой, Денисов, бери такси, приезжай. У меня тут кошмарное горе. Что значит заперли? В какой сказке? Ты что, с ума сошел, Денисов, у меня такое горе, проблема с папой, я его повезла за город, к одной старухе, ты не знаешь, баба Лиза, она знахарка и вообще женщина чудная. Мне Рузанна ее рекомендовала, чтобы папу отчитывать; ну как отчитывают? – сажают под иконы на табуретку, свечу ставят, воск в таз капает, баба Лиза молитвы читает, энергетика очень улучшается; ну, это все на несколько сеансов рассчитано; так ты представляешь, пока я отлучилась в сельмаг, там у них выбор хороший, мужские рубашки голландские, я для тебя хотела, ну вот, их уже разобрали, а я засмотрелась на товары для пайщиков, я не знаю, какие пайщики, что-то такое потребсоюз или что. В общем, для сдатчиков гриба чаги там мокасины мужские, белые, австрийские, это то, что тебе нужно, еще там джинсы на мясо и фломастеры на морковь, это нам не надо, а мокасины очень хорошо; я говорю девушкам: девушки, чаги у меня нет, может быть, так дадите? А одна, симпатичная такая, говорит: подождите заведующую, может быть, договоритесь; я ждала-ждала, а уже темно, никого, они говорят: она вряд ли подойдет, к ней друг из Североморска должен был подъехать, ну я пошла назад, а баба Лиза в жуткой панике: говорит, он сидел-сидел и уснул, а когда уснул, ты же знаешь, какой он становится; он уснул, вскочил, дверь распахнул и бежать, а на улице-то темно, а местность совершенно незнакомая, так и убежал, я не знаю, что делать, Денисов, я в милицию, а они зубы скалят. В общем, я сейчас дома, в полной прострации, ведь у папы денег ни копья, ведь он очнется где-нибудь в лесу, он заблудится, он замерзнет, он умрет, он же не знает, куда я его завезла, ведь он пропадет, Денисов, что я наделала!
…Значит, он убежал, вырвался и убежал! Он знал, он все время знал дорогу! Встрепенулись забытые, тени подняли головы, прозрачные призраки насторожились, прислушались: он бежит, его отпустили, встречайте, выходите в дозор, машите флажками, зажигайте сигнальные огни! Сомнамбула бежит по бездорожью, смежив вежды, вытянув руки, с тихой улыбкой, словно видит то, что не видят зрячие, словно знает то, что они забыли, ловит ночью то, что потеряно днем. Он бежит по росистой траве, по лунным пятнам и черным теням, по грибам и подорожникам, по бледным ночным колокольчикам, по маленьким лягушатам. Он взбегает на холмы, он сбегает с холмов, чист и светел под светлой луной, вереск хлещет его легкие ноги, ночь дует в спящее лицо, белые волосы развеваются по ветру, расступается лес, расцветает клен, разгорается свет.
Неужели он не добежит до света?






