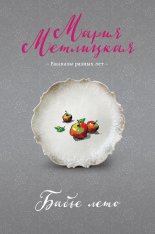Именины сердца. Разговоры с русской литературой Прилепин Захар

Захар Прилепин
Именины сердца: разговоры с русской литературой
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Именины сердца» — понятное дело, не всеобъемлющий портрет литературы.
Во-первых, в книге пойдет речь именно о современной литературе, а не о той, что была вчера или позавчера.
Во-вторых, здесь собраны люди, с которыми меня сталкивала судьба — и которые мне интересны. То есть выбор мой глубоко субъективен.
Собранные здесь имена — разрозненные части огромной литературной мозаики. Впрочем, каждая составляющая этой мозаики, безусловно, любопытна сама по себе.
Смотрите.
Александр Проханов и Александр Кабаков — в известном смысле антиподы; оба — люди широко известные. Каждый в начале девяностых задал свою тональность резкого и последовательного отношения к тем смутным временам, что снизошли на нашу землю. И оба работают до сих пор с такой силой, какой младые поколения могут позавидовать.
Леонид Юзефович — признанный мастер и мой учитель, Михаил Тарковский — любимейший мой прозаик из числа пришедших в литературу на исходе столетия, да и вообще любимейший — безо всяких временных привязок.
Павел Крусанов, Алексей Варламов и Алексей Иванов — одни из безусловных лидеров современной прозы, «офицеры русской литературы», пользуясь терминологией другого нашего героя — Александра Гарроса. А у нас таких — по пальцам сосчитать.
Это если о прозе. А если о поэзии, то тут, без обиняков, Дмитрий Воденников или Максим Амелин находятся в том же офицерском статусе.
Упомянутый выше Гаррос (наряду со своим соавтором Алексеем Евдокимовым) — лауреат одной из самых престижных и скандальных российских премий — «Национальный бестселлер»; другую премию — «Русский Букер» — представляет здесь Денис Гуцко. И Гуцко, и Гаррос, кстати, не только писатели, но и востребованные и титулованные публицисты.
Сергей Лукьяненко — один из самых известных фантастов не только в наших холодных краях, но и во всем мире.
Всеволод Емелин — последний, на мой вкус, народный поэт в России, чьи строчки понемногу разбирают на присловицы и поговорки.
А Лев Данилкин? — критик самоуверенный, злой и меткий настолько, что самое имя его наводит на прозаиков легкий трепет.
А Сергей Шаргунов? — мой товарищ и собрат, застрельщик направления, поименованного «новым реализмом», о котором много спорили, вокруг которого поломали немало копий и ломают до сих пор.
Нет, определенно, я даже сам себя, как в известной басне, готов уже убедить, что картина, мной здесь представленная, вполне, как нынче говорят, репрезентативна.
Да, в книге, как мы видим, нет тех, кто по праву пребывает в статусе «живых классиков»: ни Валентина Распутина, ни Василия Белова, ни Андрея Битова, ни Владимира Маканина — но к этим людям, признаться честно, мне даже подходить боязно. Я и на общение с Евгением Поповым решился, скрестив пальцы в кармане, чтоб меня не погнали взашей.
Здесь нет многих и многих прозаиков и поэтов старшего поколения, которых я даже боюсь начать перечислять — дабы не забыть хоть одного славного имени.
Здесь нет плеяды видных критиков и редакторов, сохранивших иерархию литературных ценностей, которая могла быть рассеяна дурными сквозняками.
Здесь нет того человека, чье имя Эдуард Лимонов, — я горд даже тем, что живу с ним в одну эпоху. И нет, например, Дмитрия Быкова, вездесущего, весомого, великолепного литератора, дружбой с которым я очень дорожу. Но, к слову, мы о них много вспоминаем на страницах этой книги — будем считать, что они незримо с нами.
Зато здесь присутствуют те, на кого я, что называется, делаю ставку — имея в виду ближайшее наше литературное будущее.
Есть Алексей Кубрик, начинавший очень неспешно, очень вдумчиво; вопреки поэтической природе, с годами он пишет все лучше, все пронзительнее — каждая новая его «толстожурнальная» публикация укрепляет меня во мнении, что мы имеем дело с настоящим, самой высокой пробы, стихосложением.
Игорь Белов — из того нового поколения, что завтра русскую поэзию схватит в цепкие руки; уж не знаю, на что нацелены лидеры этого поколения — вытрясти поэзии карманы или расцеловать ее взасос — но в хватке их почти звериной можно не сомневаться.
Новый писательский — опять воспользуюсь терминологией Гарроса — «спецназ» в лице хоть Рубанова, хоть Садулаева, хоть Елизарова, хоть Сенчина уже можно не представлять.
Но касательно Дмитрия Данилова, тоже начинавшего степенно и раздумчиво, я уверенно предсказываю, что он станет одним из главных и самых непохожих на всю иную братию прозаиков нашей эпохи.
А про Василину Орлову и без меня такое давно говорят.
Мне, к слову, несколько раз говорили, что я слишком многих людей и слишком часто хвалю. Кто хорошо ко мне относятся — с симпатией, кто плохо — с неприязнью.
Объяснимся вкратце.
Не то чтоб я люблю говорить людям приятные вещи — пожалуй, нет; я просто людей люблю — вообще людей. А когда у людей еще что-то получается, скажем, в литературе — тогда у меня немедленно наступают именины сердца.
Это вовсе не означает, что мне нравятся все.
Я многих литераторов терпеть не могу за их книжки. Я, к примеру, читал одну книжку г-на Л., про демонов, и она мне не понравилась настолько, что не могу заставить себя взять вторую: брезгую. Я нахожу самое существование в природе г-на Б., автора писаний о сложных судьбах выходцев с теплых земель, недоразумением; о его сочинениях мне вовсе нечего сказать. Г-н Г., наверное, очень хороший человек, но проза его… А человек хороший, это даже видно.
Тут мне вдруг вспомнилось такое количество имен, что я решил остановиться. И даже к написанным выше именам вернулся и сократил их до первой буквы — кому надо, тот догадается; кто не догадается — и не надо. Мы, в конце концов, не за этим собрались сегодня.
У нас же сегодня именины, посему просим всех к столу. Три десятка гостей – и больше никого. Вы, наверное, заметите, что ни с одним своим собеседником я не пытался спорить — я всего лишь их выслушивал. Голос за кадром задает вопросы, и самое интересное — ответы.
И еще. Я умышленно спрашивал почти всех, собравшихся здесь, примерно об одном и том же. В первую голову хотел знать, что будет с нами и с нашей землей.
У нас есть шанс запомнить эти ответы, обвести их наточенным карандашом и в недалекие уже времена проверить, наконец, насколько хороши писатели и поэты в качестве пророков.
АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ:
«Я предчувствую Пятую Империю.
Как предчувствовали революцию поэты»
Александр Андреевич Проханов родился 26 февраля 1938 г. в Тбилиси. В 1960-м окончил Московский авиационный институт. После нескольких лет работы инженером НИИ резко сменил вид деятельности и стал лесничим в Карелии.
С 1970 г. в качестве корреспондента «Правды» и «Литературной газеты» десятки раз бывал в «горячих точках» на всех континентах, в том числе в Афганистане (восемнадцать раз), Никарагуа, Камбодже, Анголе и т. д.
С 1989 по 1991 гг. возглавлял журнал «Советская литература». В декабре 1990-го создал газету «День». В сентябре 1993 г. выступил в своей газете против государственного переворота и поддержал законно избранный Верховный Совет. После танкового расстрела парламента газета «День» был запрещена Министерством юстиции.
В ноябре 1993 г. зарегистрировал новую газету «Завтра» и стал ее главным редактором.
Автор двадцати трех романов, среди которых «Кочующая роза» (1976), «Вечный город» (1981), «Последний солдат Империи» (1993), «Дворец» (1994), «Господин Гексоген» (2001), «Надпись» (2005), «Холм» (2008).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Боевого Красного Знамени, Красной Звезды; золотой медалью им. А.Фадеева, медалью «Защитнику Приднестровья». Лауреат премий им. К.Федина, Ленинского комсомола, Министерства обороны СССР, журналов «Знамя», «Наш современник», международной Шолоховской премии, премий «Честь имею» и «Национальный бестселлер» (2002).
Проза Проханова — одно из самых главных моих личных потрясений. Не только литературных, но — духовных, судьбоносных.
История знакомства с его книгами запомнилась мне в самых малых деталях — и все эти детали дороги и важны. Я помню запах страниц, помню вес каждой книги в моей ладони, помню шрифты и обложки. Так всю жизнь помнятся навек очаровавшие тебя минуты детства, или минуты товарищества, или минуты любви.
Первая книжка Проханова попала мне в руки в магазине «Букинист» в самые махровые девяностые годы. То были времена, о которых иные современные читатели Проханова и не догадываются — романы его в течение почти десяти лет можно было раздобыть разве что в редакции газеты «Завтра» — в книжные магазины они не допускались ни под каким видом. «Майн Кампф» было найти куда проще. И вот, разрывая букинистические завалы, я обнаружил книгу «Горящие сады», 1984 года издания. Там было три про-хановских романа: в последние годы их не раз переиздавали, нынче они вошли в семикнижие о разведчике Белосельцеве, уже под другими названиями и переработанные. Но в тот давний (осенний, замечу к слову) день это была радостная находка, редкая.
Найденную в «Букинисте» книгу я начал читать с некоторым предубеждением: ну не может быть в мире хорошего писателя, вовсе мне не известного, о котором в университетах не говорят и в журналах не поминают.
Не помню уже, на какой странице одного из романов я вдруг остановился и сообщил своей любимой женщине: «Ты не представляешь, но это просто замечательно… Надо же… »
С тех пор каждый раз, когда я находил еще одну книжку Проханова — на развалах, у знакомых, еще где-то, — это был праздник. Когда книжки Проханова приходили ко мне по почте, я рвал упаковки прямо в помещении почтамта и выходил на улицу, уже начиная читать первые строки. А потом, в начале «нулевых», жахнул, грохнул и полыхнул «Господин Гексоген» — взявший с боем «Нацбест», стремительно проданный тиражом в сто тысяч экземпляров (и продающийся до сих пор), — и началась новая история. Проханов стал, что греха таить, звездой: такой лохматой, грузной, с пышной гривой, обдающей то холодом, то жаром. Он, безусловно, заслужил этот жирный, отекающий маслом, громокипящий кусок славы.
— В свое время СССР переживал книжный бум. Читали много и вдумчиво. И вот говорят, что книжный бум вернулся. Это все тот же книжный бум, с теми же признаками? Или два разных процесса?
— Мне трудно судить. Каждое явление, как, скажем, интерес к книге как таковой, описывается тысячами параметров, а я не обладаю и двумя. Советский книжный бум имел под собой серьезные, глубокие идеологические обоснования, потому что на страницах
толстых журналов и книг выстраивались неофициальные нонконформистские идеологии, системы ценностей. Поэтому интерес к книге был по существу интересом альтернативного общества, развивавшегося быстрее, чем советские нормативы.
Общество развивалось через толстые журналы и книги, где происходила схватка идеологий. В этих схватках вырабатывалась синтетическая идеология — живой, интенсивный, захватывающий процесс. Все интеллигенты, особенно технические интеллигенты, жадно читали книги. Читать книги считалось престижным, модным. Но книги были еще и товаром, достаточно красивым. При избытке денег книги покупали, как покупали фортепиано, как покупали мясо. Поэтому холодильники были забиты колбасами, консервами и окороками — при пустых полках в магазинах, а шкафы и стеллажи наполнены книгами, которые зачастую не разрезались и не читались. Два эти процесса были связаны друг с другом, и каждый из них хорош сам по себе. К книге относились как к фетишу, как к чему-то, что может украсить комнату. Это была страна, где царила религия чтения. Религия книги. Сегодня я даже боюсь описать ситуацию. После 90-го года я пережил период катакомбный. Был выдавлен из культуры, был выдавлен с книжных полок. Я думал, что я уже больше никогда не вернусь, как писатель, в культуру. Я обрек себя, как мне казалось, на закрытое, дремотное одиночество.
Потом произошло некое загадочное чудо, которое вернуло меня в книжный процесс. Я стал оглядываться, пытаясь понять, что происходит. И убедился, что круг читающих людей все-таки сузился. Книжный фетишизм исчез, люди перестали молиться на книгу. Она стала предметом развлечения, отсюда вся «развальная» литература — это целая индустрия, такого не было в Советском Союзе. Все книги, шедшие тогда через монопольное государственное книгоиздательство, выполняли какую-либо педагогическую задачу. А сейчас основные потоки книжные — развлечение, убиение времени.
При этом существует достаточно тонкий слой публики, которые по-прежнему жадно читают книги. Правда, несколько иначе, чем читали в советские времена. Этот слой эстетизирован — те советские слои были идеологизированы. Они искали в книгах идеологии и были достаточно индифферентны ко всевозможным эстетикам. Им важны были идеи, им важны были схватки. А сегодня книжные гурманы упиваются словом, они сладострастники стиля. Каков спрос — таково и предложение. Язык современных писателей очень рафинирован. И все разговоры об упадке русского языка мне кажутся несправедливыми. Конечно, язык уличный, язык депутатов и чиновников — ужасен, но язык прозы — многообразный, изысканный. Говорить о книжном буме вот в этой сфере — преждевременно. Обладателей эстетического сенсорного чувства мало, но и книг такого рода немного. Но при этом книжных изданий просто бесконечное множество. Магазины забиты книгами, издатели предполагают скорый обвал книжного рынка. В этом обвале погибнут, видимо, и драгоценности, но и всевозможный сор будет погребен.
— В одном из интервью вы сравнили себя, как писателя, с Эдуардом Лимоновым.
— Нет, я совершенно не сопоставляю себя с Лимоновым.
В какой-то степени у нас похожа судьба, это правда. Мы оба оказались в удушающей катакомбной атмосфере после 90-го года. Оба были политизированы, и наши политические взгляды были схожи. Мы были оппозиционерами, причем левого толка. Два «левых» художника, да еще и гонимые, уже имеют некую потребность друг в друге. Мы встречались, мы общались, но никогда не были близки. И это обеспечивало наше сотрудничество. Потому что слишком близкая дистанция предполагает конфликты, ссоры, разрывы.
Что касается методик. Я понимаю задачу Лимонова, у меня в свое время тоже был подобный подход, я из него вырывался и, может быть, с опозданием вырвался. Лимонов делает моделью своего творчества себя самого. Он — в центре своих повествований. Он является и героем, и прототипом, и судией, и хором. В этом его, с одной стороны, и красота, но в этом и ущербность — потому что творческие потенции обгоняют реальную судьбу. И описав себя в какой-либо коллизии, он, чтобы не повторяться, вынужден менять эту коллизию. Он сам форсирует свою судьбу, чтобы обновить взгляд художника на себя как на модель. Он вынужден фабриковать свою судьбу, свою жизнь, свой контекст.
— Когда вы говорите, что пережили время, когда моделью для вашего творчества были вы сами, что имеется в виду? Роман «Кочующая роза», сборник «Иду в путь мой», повесть «Их дерево»?
— Пожалуй, нет. Я говорю о геополитических своих романах, в которых всегда действовал один и тот же герой, альтер эго: «Последний солдат Империи», «Красно-коричневый», «Сон о Кабуле», «Африканист»…
— Вы называете романы из вашего семикнижия о гибели СССР, посвященные путчу, расстрелу Белого дома, неудавшемуся перевороту Рохлина…
— Да, это семикнижие красного завета. Там я вынужден был сканировать действительность, подвергать себя всевозможным рискам, почти механически встраиваться в политические процедуры. И это, повторяю, мучительно. Потому что экспрессия большая, энергии много, а ты сам гораздо статичнее. Возникает несоответствие твоих возможностей и реальной задачи. Возможности превышают задачу и разрывают ее. Я знаю этот эффект.
Теперь я вырвал себя из череды героев и встал на путь, если можно так сказать, фантазирования. Я стал классическим демиургом, сотворяющим эти образы. Меня там нет, среди этих образов, или почти нет.
— Ваше имя непременно присутствует в десятке самых продаваемых писателей — из числа серьезных авторов, представляющих неразвальную, как вы сказали, литературу. Это Юрий Поляков, Виктор Ерофеев, Татьяна Толстая, Виктор Пелевин, Михаил Веллер, тот же Лимонов, Людмила Улицкая… Как вы относитесь к своим «соседям» по литературному Олимпу?
— Достаточно индифферентно. Я не литературный человек — я не кокетничаю, говоря это. Все свои сознательные годы провел вне литературной среды или почти вне ее. Конечно, я гнался за успехом, я переживал поражения. Мы состязались в среде своих литературных сверстников.
— Были те, с кем вы соревновались?
— В ту пору, в советскую, это, пожалуй, был Владимир Маканин, с которым меня сначала связывала дружба, потом наступило охлаждение. Был момент, когда меня загнали в катакомбы, а его вознесли к вершинам славы. И, конечно, я следил за его судьбой, за его поведением — и политическим, и литературным, и за его поведением по отношению ко мне. Он был человеком, с которым я сверял свой успех. Не эстетику, а успех. В нынешней среде я не чувствую конкурентов. Не потому, что всех обогнал, не подумайте, — просто я не чувствую духа состязательности. Наверное, в том числе и потому, что писательство не исчерпывает всех форм моей деятельности.
— И вы не обижаетесь на нападки своих коллег? Недавно писатель Дмитрий Быков назвал ваш роман «Политолог» рвотой, при этом, правда, признав, что вы безусловно талантливы.
— Быков очень живой, пылкий. Он подобен комете: летает, ударяется о стены, прожигает что-то, падает. Ярчайший человек.
— При этом обладает чудовищной работоспособностью. Пишет колонки в пять газет и три журнала, долгое время вел телепрограмму и радиопрограмму, издает по несколько книг в год. Мы вот сейчас с вами разговариваем, а он где-то пьет вино со странными личностями, но одновременно с этим неведомым образом пишутся его романы, статьи. Я затрудняюсь сказать, сколько в реальности Быковых существует.
— Стадо быков. (Смеется. — З.П.)
— Я задам пошлый вопрос: вы ощущаете себя классиком, большим человеком в русской литературе?
— Нет, не ощущаю. Я не ощущаю себя ни большим человеком в русской литературе, ни вообще большим человеком. Я ощущаю странность того факта, что я вообще человек. Что мое «я» загнано в эту человекоподобную плоть, в эту тварность, и этой тварности кто-то придал, помимо иных функций, умение создавать образы, умение создавать литературный текст.
Мне, слава Богу, не присуще ни самодовольство, ни преувеличение своих возможностей. Я не выставляю никакого рейтинга ни себе, ни окружающим.
— А рейтинг ваших любимых книг — из числа написанных вами — существует? Или это всегда тот роман, что создан последним?
— Конечно, я люблю свою первую книжку «Иду в путь мой». Она такая… святая книжка… младенческая, целомудренная: молоко, брусничный сок… Я тогда переживал мистические, очень высокие откровения.
А потом были периоды помрачения, были иллюзии, но, конечно же, я очень дорожу своим последним периодом — начиная с романа «Последний солдат Империи». Это была новая эстетика — я, наконец, прорвался сквозь несвободу к тем, находящимся во мне самом и в культуре, технологиям и методикам, которые позволили мне сложиться в нового художника. Я не знаю, как назвать эту эстетику: скажем, магический реализм. Мне открылись преисподняя, босхианские, странные, упоительные кошмары, писать которые и сладостно, и страшно одновременно. «Последний солдат Империи», «Господин Гексоген», «Крейсерова соната», «Политолог» и выходящий сейчас роман «Теплоход «Иосиф Бродский"» — пять романов.
— Я знаю, что упомянутый вами «Господин Гексоген» был переведен в Китае…
— Да. Вот у меня стоит диплом, где «Господин Гексоген» назван лучшим зарубежным романом года, переведенным в Китае. Это вторая, кстати, моя книга, переведенная на китайский, — ранее они перевели «Дворец». Его, кстати, собирался экранизировать Карен Шахназаров.
— В советское время ваши книги переводили?
— Видите ли, в советское время я был певцом государственной идеи, меня называли «Соловей Генштаба». И меня во все справочники внесли как некое исчадие ада. Если моих друзей, скажем, Анатолия Кима, представляли как эстетов, то я был просто мракобесом. Меня не рекомендовали к переводам, была блокада.
Но тем не менее и через нее удавалось прорываться. «Вечный город» был переведен в Болгарии, в Чехии, в Германии. «Дерево в центре Кабула» переводили на английский, на ирландский, на голландский.
— Сейчас романа «Дерево в центре Кабула» уже нет, как я понимаю. Есть «Сон о Кабуле» — новый, расширенный вариант старого романа.
— Да, я захотел перевести его в нынешнее время, посмотреть на все глазами состарившегося героя, что и сделал. Не знаю, продуктивно это или нет. «Дерево в центре Кабула» — это часть романа «Сон о Кабуле».
— И подобное произошло с несколькими текстами. Появились новые варианты романов «Последний солдат Империи», «Африканист», «В островах охотник». Роман «И вот приходит ветер» превратился в качественно новый «Контрас на глиняных ногах». Зачем вы это делаете?
— Была такая задача. Почему-то захотелось продлить жизнь этих романов. Жалко было расставаться с ними.
— Мне кажется, возможно некое изменение в атмосферах, и все ваши прежние книги тоже станут востребованными.
— Трудно сказать. Иногда я думаю, что этого не случится. Вот модернизация и была желанием спроектировать старые тексты в новую реальность.
Но как знать, как знать. В определенный момент на всю позднесоветскую литературу было наложено эмбарго, ее поместили в футляр. И некоторое время этот чехол был закрыт. Но, возможно, футляр захотят открыть, чтобы посмотреть, кто там лежит — обычный покойник или четвертованный…
— Да они с литературной точки зрения просто замечательны — ваши книги семидесятых — первой половины восьмидесятых годов.
— Либо мои романы будут свидетельствовать о времени — и за счет этого свидетельства будут излучать новую красоту, либо в них, как вы говорите, скрыты непреложные, априорные достоинства.
Я не могу ответить на этот вопрос. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы они вернулись.
— А пока вы безжалостно извлекаете куски из старых романов и украшаете новые. Я находил целые главы из романа «Время полдень» в романе «Последний солдат Империи».
— Я это делаю. Инкрустирую. Я не хочу, чтобы они умерли.
— Вы же рвете их на части!
— Новая эстетика: римейки.
— Последний ваш роман, написанный в реалистической манере, «Надпись», 2005 года. (Наряду с «Местом действия» и «Дворцом» это любимейшая моя книга.) Будут еще романы реалистические, после «Надписи»? И почему, выбрав этот жуткий, босхианский стиль, вы все-таки решили написать такой пронзительный, ясный роман, как «Надпись»?
— Жуткая эстетика, колесо образов, что присутствуют в «Последнем солдате Империи», «Господине Гексогене» и так далее — все это замечательно подходит для описания сегодняшней кафкианской реальности, но совершенно не годится для описания сокровенного, святого, драгоценного. С помощью этой эстетики не пишут бабушку, или маму, или ребенка. Поэтому копился во мне нереализованный опыт. И этот опыт я восполнил «Надписью», романом, написанным в классическом стиле. Хотя и в «Надписи» достаточно много новаций.
— Однажды я общался с вашим сыном. И с удивлением узнал, что он почти не читал книг отца.
— Я отвечаю ему тем же — я очень мало его книг читаю. (Смеется. — З.П.).
— Я читал, что ваша мама собирала все ваши книги — у нее были любимые?
— Нет, конечно. Она просто коллекционировала. Смотрела на эти книги как на продолжение своего сына.
— Внешний вид книги — это важно для вас?
— Очень важно. Я эстет и даже какой-то шизофреник в этом смысле. У меня есть любимое издание «Крейсеровой сонаты». Этот роман вышел одновременно большим тиражом — в издательстве «Ад Маргинем» — и малым, в 500 экземпляров, очень дорогим и красивым, в котором я использовал свои лубки — мистические, яркие картинки.
— В романе «Политолог» в одном из героев по фамилии Дышлов легко узнается Геннадий Зюганов. И получился он, прямо скажем, весьма жалким, а порой и мерзким. А ведь в свое время вы славили его в своих газетных передовицах в качестве вождя оппозиции. Потом, видимо, пришло разочарование. Как складываются сейчас ваши отношения с Зюгановым?
— Наши отношения никак не складываются. Мы не общаемся. У нас не было никакого объяснения. Я по-прежнему не хочу говорить, что Дышлов — это Зюганов, это нечто литературное, хотя все достаточно прозрачно.
В романе я пытаюсь изобразить коллизию, которая по существу привела партию к катастрофе, вырождению ее, проигрышу на последних выборах. Она не должна была проиграть на последних выборах. У нее был ресурс, в том числе организационный, финансовый. И то, что партия проиграла, — я считаю, это вина руководства, самого Зюганова.
Я не имел права судить дела партии на протяжении всех предшествующих лет — и в 93-м, и 96-м. Но это переполнило чашу моего терпения.
— Он вам руку подаст, если вы встретитесь случайно?
— А мы встречаемся, подаем руки. Зюганов же такой человек, очень пластичный, мягкий. Он не признал себя. Там, в «Политологе», кто-то другой, малосимпатичный. А он такой симпатичный, волевой.
— Ксения Собчак под разными именами присутствует уже в двух ваших романах — «Политолог» и «Теплоход «Иосиф Бродский"». Откуда такой интерес?
— Эстетика моих романов связана с раздражающими образами, которые явлены нам тем же глянцем или телеэкраном. Это не реальные люди, которые ворвались в вашу судьбу и стали вашими друзьями, врагами или любовницами, — это фантомы, куда перемещается сейчас сознание современного человека. Среди этих фантомов молодая собчачка — достаточно раздражающий, эпатирующий элемент. Она сама к себе вызывает внимание, она требует, чтобы ею занимались. Она — в этом смысле — выгодная цель. Естественно, с одной стороны, она меня чрезвычайно раздражает, потому что выпадает из ряда моих представлений о женщине, о возлюбленной, о красоте вообще. А с другой стороны, она столь импульсивна, столь коррелирует со всеми остальными персонажами, что не может не становиться прототипом. Когда она на всю Россию заявила, что выходит замуж, причем — нарочито богато, ярко; что она намерена свадебное путешествие осуществить на теплоходе, который идет из Москвы в Петербург по этим водам, рекам, каналам, озерам, и собрать на этот пароход весь бомонд, развлекая его, кормя всевозможными усладами, — все это само по себе стало метафорой. Плывет некий корабль, такой мистический ковчег, который собрал всю жуть современной жизни, всех этих блистательных чудовищ. Он плывет по России, в которой умирают брошенные старики, плачут дети, совершаются террористические акты, горят села, опустошаются пространства. Это увлекательный, метафорический сюжет, чем я и воспользовался.
— Картина печальная… Способна ли Россия выйти из кризиса? — Я сегодня одержим, может быть, иллюзиями, а может быть, прозрениями. На мой взгляд, в России после долгих лет наконец наметился некий важный государственный субъект. Среди катастрофы, среди упадка, среди деградации, среди ужасных тенденций возникло нечто новое, загадочно-странное. На смену четырем возникавшим здесь Империям (первая — Киевская Русь, вторая — Московское царство, третья — Петровско-Романовская, четвертая — Сталинский проект) — стала возникать Пятая. В нашем Вифлееме народился таинственный пятый младенец, еще никем не виданный.
О его рождении оповестили волхвы. В разных углах нашего мира возникло странное возбуждение, предчувствие.
Наряду с проклятьями, с унынием, со слезами возникли новые звуки, новые тихие настроения. И этот проект Пятой Империи — так я его называю — я хочу его увидеть, я хочу его зафиксировать. Я хочу внести его в такое поле, где его можно было бы лелеять и осмысливать.
— Давайте все-таки расставим акценты. Пятая Империя — это
еще не ведомое чудо или уже явный проект?
— И то и другое. Я все перевожу в религиозную, метафизическую сферу, и это позволяет свободно оперировать этими явлениями. Я предчувствую его. Как предчувствовали революцию поэты. Как ее предчувствовал Блок.
Этот проект не путинский, он не возник в недрах власти, он не возник во дворце царя Ирода. Он вообще неизвестно где возник, возможно, в тайном, малом, кротком предместье, околотке. Но то, что он зарождается, — это факт. Зарождается централизм, зарождается большая управляемость страной, большая потребность в этой управляемости. Происходит медленная концентрация ресурсов. В России появляются зачатки суверенитета, совершенно потерянные ею при Ельцине. Это чаянье отмечено в культуре. Сильна так называемая имперская волна в литературе. Если раньше она была волной воспоминаний о красной Империи, сейчас она связана с предчувствием чего-то нового. Поэтому я хочу посвятить остаток своих сил вскармливанию этого младенца.
— Если этот проект не путинский и, по-видимому, не медведевский, то чей тогда?
— Лидера пока нет. Появление лидера уже является переводом на новый пассионарный уровень.
— Найдется ли место в Пятой Империи героям ваших романов, в том числе тем, кого вы описываете с явным омерзением?
— Если правильно сформулировать смысл Пятой Империи, в ней должны соединиться четыре предыдущие Империи. В нее должны спикировать под разным углом все носители смыслов. Основная задача Пятой Империи — огромный синтез. Это не узкореспубликанский проект, это целая галактика. Она вмещает различные этажи, сети, различные уровни гармонии.
Я полагаю, что в этом проекте будет место самым разным силам. И левым, и правым. И православные будут там, и исламские фундаменталисты. Пусть там найдется место синагоге и крупному бизнесу.
— И, я повторюсь, туда попадут даже те люди, которых вы откровенно демонизировали?
— Странная вещь произошла. Видимо, потому что весь этот мир был уже мною описан — я потерял к нему интерес и страсть. Исчезла ненависть. Это тоже некая израсходованность.
Поэтому я не исключаю, что в ареопаге этих новых империалистов будут опытные владельцы нынешных корпораций.
Как красные использовали весь потенциал романовской империи, так будет строиться и Пятая Империя.
— Но есть люди, которым там просто дела нельзя будет найти. Скажем, какой-нибудь Сванидзе. Чем его занять?
— Ну, есть же зоопарки.
— На этой оптимистичной ноте… Спасибо!
АЛЕКСАНДР ЖИТИНСКИЙ:
«Абсолютная монархия есть самая лучшая для России форма устройства общества»
Александр Николаевич Житинский родился 19 января 1941 г. в Симферополе в семье военного летчика.
В 1958 г. во Владивостоке с золотой медалью окончил среднюю школу.
В 1965-м с отличием окончил Ленинградский политехнический институт. По образованию инженер-электрофизик.
Публикуется с 1969 г. С 1978 г. Житинский — профессиональный литератор: писатель, сценарист, издатель.
С 1979-го — член Союза писателей, с 1986-го — член Союза кинематографистов.
Автор книг («Дитя эпохи», «Потерянный дом, или Разговоры с милордом», «Государь всея Сети» и др.), а также сценариев к нескольким художественным фильмам («Переступить черту», «Время летать», «Когда святые маршируют» и др.).
В 1981-1990 гг. активно участвовал в жизни отечественной рок-музыки. Организатор рок-фестивалей, автор книги «Путешествие рок-дилетанта» (1990).
Возглавляет издательство «Геликон».
В июле 2007-го стал директором Центра современной литературы и книги в Санкт-Петербурге.
Александр Житинский в этом интервью замечательно точно определил одну из своих литературных ипостасей: «рыжий клоун».
От его текстов, внешне зачастую искрометно смешных и преисполненных натуральной человеческой доброты, всегда оставалось смутное, тихое, правильное чувство печали. Но не пустоты. Это очень важно.
Впрочем, Житинский далеко не только рыжий клоун от литературы, он, как полагается всякому русскому писателю, еще и мыслитель, и историк, и поэт, конечно. С поэзии мы и начнем.
— Александр Николаевич, у меня дома на книжной полке стоит замечательная книга «Октябрь в советской поэзии», вышедшая в свое время в серии «Библиотека поэта». Я ее перечитываю иногда. И тут вдруг обнаружил среди иных авторов — вас, с пронзительными стихами о Революции. Что скажете по этому поводу? — Скажу, что мне не стыдно ни за одну написанную мною строку, если говорить о выраженной в ней мысли или чувстве. (Стыд за несовершенство исполнения бывал и бывает, особенно это относилось к ранним вещам.) Это означает, что я так и думал, когда этот текст писал. Так и чувствовал. Иной раз со временем эти мысли и чувства могли видоизмениться. Но редко и не так уж сильно. Я те стихи помню. История их создания такова. Это было в 1969 году, когда страна готовилась к столетнему юбилею Ленина. Мне было тогда двадцать восемь лет и я уже шесть лет писал стихи, писал очень много, начинал писать прозу — но ни одна строчка не была напечатана, несмотря на неоднократные обращения в разные редакции. Отмечалось формальное умение, не отказывали и в образности и вообще — признавали за стихи. Но… Были они все какие-то грустноватые, элегические и «далекие от жизни». И в них совершенно не было так называемой «гражданственности». И тогда я решил написать поэму о Ленине — то есть высказать свое к нему отношение. Это было двенадцать стихотворений, связанных одним коротким сюжетом: Ленин идет пешком с квартиры на Сердобольской в Смольный, чтобы руководить восстанием вечером 25 октября 1917 года. Но по сути это поэма о человеке, не боящемся взять ответственность на себя и сознающего громаду этой ответственности. А отнюдь не портрет авантюриста. Так я тогда о нем думал, так думаю и сейчас. Я не знаю, гордиться ли мне этими стихами. Но я определенно горжусь тем, что эта поэма полностью никогда не была опубликована, а в печать проникли только два стихотворения из нее — причем, клянусь Богом! — не с моей подачи. Мне бы в голову не пришло подавать стихи в «Библиотеку поэта», мемориал лучших стихов на русском языке, как она была задумана. Это при том, что образ Ленина там явно героический. Но то — да не то! Об этом мне два часа говорили два советских поэта — Всеволод Азаров и Вячеслав Кузнецов, — которым я ее показал. Разбор был убийственный. Я совершенно не так трактовал историю, Ленина, Октябрь, по их словам. Пафоса в этих стихах многовато, это да. И вообще, я был романтичнее тогда. Надо бы разыскать и перечитать ее всю. Я не видел ее лет тридцать. После этого я стихов о Ленине не писал.
— Но любопытно, что ваше отношение к Ленину не очень изменилось за эти тридцать лет.
— Я многое уже тогда понимал касательно советского строя, но Ленин оставался последней соломинкой утопающего. Это у многих так было. «Ленин слишком рано умер», «Ленин бы этого не допустил», «Идеи Ленина грубо исказили». И т.п.
Причем я и сейчас нахожу в этих предположениях достаточную долю истины и знака равенства между Лениным и Сталиным не ставлю. Но не уверен, что Ленин добился бы успеха.
Ленин был политическим фанатиком, а Сталин — фанатик власти. Ленин напрямую вышел из народовольцев — людей, которых я безмерно уважал и увлекался ими.
— И даже писали о них…
— Да, в 1978-1986 годах я работал над единственной в моей жизни заказной прозаической вещью в серии «Пламенные революционеры» — повестью о Людвике Ва-рыньском, умершем в Шлиссельбурге в 1883 году в возрасте тридцати трех лет. Это польский Ленин, по существу. Создатель первой в Польше (русской Польше!) партии рабочего класса «Пролетариат». В России тогда действовала «Народная воля». Сегодня в Польше о нем предпочитают не вспоминать.
Кстати, и этой книги отнюдь не стыжусь, а профессионально даже горжусь ею — тем, что сумел ее сделать, не будучи историком. Вышла она в 1987 году тиражом 200 000 экземпляров.
— Были времена, да… Хорошо, с Лениным и народовольцами разобрались. А как вы в целом из дня сегодняшнего видите Революцию и сам Советский проект?
— Я и сегодня не употребляю такого выражения как «Октябрьский переворот». Те, кто говорит о перевороте, мало представляют себе Россию. Перевернуть ее усилиями горстки людей невозможно. Тем более удержать в перевернутом положении. Это несерьезно. Октябрь был закономерен, Октябрь был даже в какой-то мере необходим России, и она его оплатила сполна. Что касается СССР, который я тоже не могу назвать «проектом», разве что проектом Господа Бога, то это вопрос еще более серьезный. И отношусь я к нему именно как к проекту Господа Бога. Неудачному, но задуманному смело.
Потом он увидел, что не получилось, и потерял к нему интерес. И все покатилось не по-Божески. Туда, где мы сейчас находимся и что разные люди пытаются выдать за вершину цивилизации и демократии.
— Если судить по времени написания, то три ваших главных романа — «Потерянный дом», «Фигня» и «Государь всея Сети» — создавались с перерывом в десять лет: 87-й, 97-й, 07-й. Случайно получилось — или это своеобразный человеческий цикл, когда происходит обновление мировоззрения? Да и для нашей страны два эти десятилетия с 88-го по 98-й и с 98-го по ушедший 08-й были далеко не случайными.
— Захар, с романами не так просто. На самом деле первым своим романом я считаю «Лестницу». По теме, проблематике, художественному наполнению. Но она писалась в те времена, когда объем романа в десять листов был «несолиден». Роман должен был быть как минимум вдвое толще. Мы помним эти кирпичи советских романов — «Кавалер Золотой Звезды» или «Далеко от Москвы». Потом появился жанр «маленького романа». Его ввели эстонцы, кажется, Энн Ветемаа был первым. Но «Лестницу» нарекли повестью. А «Фигню» я никаким «главным» романом не считаю. Это роман-шутка. Он появился, когда каждый писатель почувствовал на своем горле железную хватку коммерческой литературы. И я сказал себе: «Вы хотите фигню вместо книг? Получите». Но себя не обманешь. В процессе увлекся, и юмор пошел по своим абсурдным законам. Считаю эту вещь самой смешной своей работой — и самой абсурдной. Ни о каком коммерческом успехе речи не было — такой юмор миллионами «не хавается». Издал сам тиражом в тысячу, потом «Амфора» издала то ли три, то ли пять тысяч. Это не провал, но и не Акунин. Так что «Фигню» будем считать удачной шуткой гения, оставшейся незамеченной. А вот «Государь… » действительно свидетельствует о некоторых сдвигах в мировоззрении. Понаблюдав процесс становления «демократии» и строительства капитализма в России, я пришел к выводу, что абсолютная монархия есть самая лучшая для России форма устройства общества. Не декоративная, как в Швеции или Великобритании, а именно абсолютная. Казнить и миловать. Царь-батюшка. Последняя инстанция на земле, куда можно податься «бедному крестьянину».
Ибо в России должен править не закон, а справедливость. Толпа (дума, собрание) не может быть выразителем справедливости. Носитель и выразитель справедливости один — и ему нужно безоговорочно верить. И любить. Собственно, на любви и основывается эта вера. Конструкция абсолютно утопична, но она могла бы работать при истинной вере в Бога (и его наместника на Земле) и при идеальном основателе новой династии, каким я избрал мальчика Кирилла. Его ни в коем случае нельзя выбирать. Кто может выбрать, может и сместить. Его выбирает Провидение (в данном случае Богородица).
Специально прошу не считать вышеизложенное бредом, но концепцией. Концепция может быть бредовой, но это другой вопрос. И по сути ничего не меняет. Ни одна моя вещь не вызывала столь противоречивых толков. От «самой худшей книжки, которую я держал в руках» (верю, верю, как говорил Жеглов), до самых лестных эпитетов и премии Стругацкого (отнюдь не монархиста!). Но о сути, которую я сейчас вкратце изложил, почти не писали. У меня, очевидно, есть странное свойство прятать главное в сюжетные коллизии и юмор. Мне так интереснее, конечно, но читатель либо не замечает, либо тоже считает «хохмой».
Самодержавие на Руси — хохма. Как вам это нравится? А оно стояло триста с лишним лет, между прочим. Да и не прерывалось никогда и дальше, ибо любой наш правитель по сути был царем. И последняя передача власти произошла в этой традиции — от отца к сыну, пусть и в фигуральном смысле.
Если Бог даст, хочу написать (должен написать) еще два романа. Один станет завершением трилогии «Лестница» — «Потерянный дом», сейчас он потихоньку сочиняется. И еще один, прожитый и придуманный давно, но слишком много других дел и обязанностей.
— Из тех вещей, что написаны вами, какую вы ставите выше остальных? Дмитрий Быков в числе самых любимых своих книг и самых лучших образцов мировой литературы вообще называет «Потерянный дом, или Разговоры с Милордом». Но это, пожалуй, не самая известная ваша книга. Насколько, кстати, был сопоставим успех той или иной вашей книги и ее ценность для вас? — Самая известная моя книга, безусловно, «Путешествие рок-дилетанта». Ее читали все молодые люди, которым в 1990 году было от тринадцати до тридцати лет и которые любили рок-н-ролл. А тогда его любило все это поколение. Книжка тиражом 100 000 экземпляров разошлась в два дня.
Но это был предсказуемый успех, который я готовил несколько лет, публикуя свои «Записки рок-дилетанта» в «Авроре» и весьма поспособствовав повышению тиража этого журнала до одного миллиона двухсот тысяч экземпляров. Посему к этому успеху я отношусь спокойно, и он меня как прозаика даже печалит. Мне кажется, в других моих книгах сказано больше. Не по материалу, а по сути жизни. Даже в книге «Дитя эпохи», которую я писал, будто балуясь и стараясь развлечь читателя. Ну, как за столом рассказывают анекдоты и смешные истории. Однако она по популярности, пожалуй, почти достает «Рок-дилетанта».
Больше всего читались, переводились на другие языки и даже экранизировались повести «Лестница» и «Снюсь». Несколько обидно за «Потерянный дом». К сожалению, число читателей, способных адекватно воспринять эту книгу, убывает естественным путем. Я писал энциклопедию русской городской жизни второй половины XX века. Действие романа происходит в 1980 году, там множество типов и там вопрос отношения моего поколения к социализму и коммунизму решается не столь однозначно, как в выходивших параллельно «Белых одеждах» или «Детях Арбата». Спичечный «Дворец коммунизма», сжигаемый героем после тяжкой болезни, как бы в припадке, это всего лишь уничтожение символа. Но остается народ со своими печалями, и никуда не делась идея соборности и единения, ведь финальная сцена празднична и светла. А те типы, из которых уже через несколько лет вышли наши первые олигархи и «властители дум» (чиновник Зеленцов, коллекционер Безич, андегра-ундные поэты), выписаны с издевкой. После этого романа я понял, что вся наша критика ничего не стоит. Они не захотели прочесть главного, потому что прочесть и понять это в 1987 году было бы «немодно». Но за роман этот я спокоен, он никуда не денется, думаю. Только читать его будут несколько иными глазами.
— Я искренне отношу вас к числу русских писателей, обладающих настоящим чувством юмора. При всем при этом нашу светскую «смеховую» культуру я не очень понимаю. Меня не смешат Аверченко и Тэффи, мне с детства был поперечен юмор Зощенко, меня никак не радуют шукшинские чудики… (Хотя никто из перечисленных и не собирался людей смешить или радовать.) Однако я безусловно признаю, что все вышеназванное — литература. Но вот, скажем, «Легенды Невского проспекта» Веллера — тут уж помилуйте меня: это же мучительно несмешно. Откуда такой устойчивый интерес к этой и прочим подделкам, когда, скажем, был действительно остроумный Сергей Довлатов? …Короче, я тут вроде бы рассказал о себе, но на самом деле спросил вас о русском юморе в литературе.
— Все просто. С одной стороны, либо юмор есть, либо его нет. Другая же сторона юмора настолько темна и загадочна, что требуются тома исследований. Почему смеются люди? Потому что смешно. А что такое смешно? Почему им вдруг сделалось «смешно»? Люди смеются не потому, что «смешно». Они смеются от удовольствия. А так как удовольствия у всех разные, то и смеются они над разным и по-разному. Кто любит попадью, а кто и попову дочку. Я смеюсь над текстом, когда испытываю эстетическое удовольствие от неожиданности и точности фразы или ситуации, от точности изображения состояния героя и интонации автора. Точность — главное слово. Поэтому весь литературный юмор, который я люблю, основан на этом: Гоголь, Булгаков, Искандер, Конецкий, Довлатов. Неожиданная точность, за которой виден ум писателя. Чехов попросту определял юмор как признак ума. Но есть еще и эстрадный юмор, построенный по законам репризы — эффектной концовки, перевертыша, кунштюка. Скорее, это относится к остроумию, а не к юмору. И остроумные mot мы тоже слушаем с удовольствием. Общепризнанным королем тут является Михаил Михайлович Жванецкий. Но напечатанные в книге его тексты сильно теряют.
Просто не надо одно принимать за другое. В эстрадной шутке необходим элемент пошлости. Именно необходим! Без него шутка не покатит. Перенесенная на бумагу пошлость обнажается и вызывает чувство неловкости, но отнюдь не улыбку. На эстраде же многие и с успехом эксплуатируют пошлость.
Поэтому «Легенды Невского проспекта» я отношу к неудачной попытке Веллера перенести эстрадные приемы в литературу. Но публика не заметила и съела. Я ограничился чтением одного рассказа и книжку отложил. В ней, кстати, нет того, без чего юмор вообще невозможен — чувства самоиронии.
А вообще, давным-давно известно, что клоуны бывают рыжие и белые.
В литературе и цирке царствуют рыжие, а на эстраде белые. Но мне трудно судить об уровне эстрадного юмора, потому что, напуганный его образцами, я немедленно переключаю канал телевизора, когда вижу что-то «юмористическое».
— Александр Николаевич, если мне память не врет, в наступившем году вы имеете все основания отпраздновать сорокалетие литературной деятельности: если отсчитывать от первой публикации. Путь долгий. Как вы его оцениваете?
— Как провальный, однозначно. Я должен был написать ряд вещей. Но ряд оказался длинным. А путь коротким.
— Краткий и мужественный ответ. Но… вы все-таки переживали моменты писательского счастья?
— Наивысшие моменты хорошо описаны Пушкиным и Блоком. «Ай да, Пушкин, ай да сукин сын!» (кажется, после «Бориса») и «Сегодня я был гениален» (Блок после «Двенадцати»).
Оба могли ошибаться. Но мне больше нравится пушкинское озорство. Пару-тройку раз и мне случалось произносить это шепотом.
Острая же писательская печаль никогда меня не покидает.
— Хорошо, это литература, а есть еще жизнь. Просто жизнь. Возможно, это разные вещи. Александр Николаевич, вы можете сказать вослед за Бродским: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной»?
— Нет, не могу. Могу сказать вслед за Окуджавой: «Давайте жить, во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая». Вопрос о длине жизни слишком серьезен и сложен, чтобы его здесь поднимать. Это объект дуалистический, то есть обладающий противоположными свойствами. Она и длинная, и короткая.
АЛЕКСАНДР КАБАКОВ:
«Существовать я могу только среди либералов»
Александр Абрамович Кабаков родился 22 октября 1943 г. в городе Новосибирске. Окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета, работал инженером в ракетном конструкторском бюро Янгеля на Южмаше.
С 1972 г. — журналист в газете «Гудок». С 1988-го — обозреватель в еженедельной газете «Московские новости», затем заместитель главного редактора и ответственный секретарь. Также работал специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома «Коммерсантъ», обозревателем «Столичной вечерней газеты», заместителем главного редактора журнала «Новый очевидец». В настоящее время — главный редактор журнала «Саквояж СВ».
В 1988 г. написал повесть-антиутопию «Невозвращенец», которая имела большой успех и переведена на многие языки. Также автор романов «Ударом на удар», «Сочинитель», «Самозванец», «Последний герой», «Поздний гость», «Все поправимо», сборников рассказов «Московские сказки» и пьес «Роль хрусталя в семейной жизни».
Роман «Все поправимо» удостоен Второй премии «Большая книга».
С Александром Абрамовичем Кабаковым я не согласен в девяти случаях из десяти. Но я всякий раз получаю натуральное человеческое удовольствие от общения с ним. Не знаю, в чем тут дело. Видимо, есть что-то в мире важнее любых идеологий.
Спорить мы начнем, естественно, с первой же фразы нашей беседы, но поругаться так и не сумеем.
— Александр Абрамович, я часто слышу, как вы весьма негативно оцениваете советский период истории, и в частности советскую литературу — она, насколько я понимаю, была для вас скорее мертвой, чем живой. Но ведь был Шукшин, был Казаков, был Распутин…
— Это исключения. Их мало.
— Не так уж мало для того, чтобы литература состоялась. А советская литература состоялась.
— В Союзе писателей было десять тысяч человек.
— И сейчас не меньше.
— Десять тысяч человек, а все исключения мы помним. Их можно пересчитать на пальцах одной руки.
— Так и сейчас лучших писателей можно сосчитать на пальцах одной руки. Может быть, у вас есть претензии, скажем так, личного толка? Как ваша судьба литературная складывалась тогда?
— А я на исключение не надеялся, и выходов у меня было три. Повесть о БАМе — тошнило. Самиздат и тамиздат — боялся потерять работу.
— А кем работали?