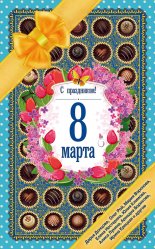Тысяча и две ночи. Наши на Востоке (сборник) Сафарли Эльчин

Отец подходит, срывает чадру. Оглушительная пощечина. Грубая рука рабочего, сухая мозолистая кожа. Падаю на пол, он бьет меня ногами. Шок проявляется смехом. Я хохочу, отчего удары усиливаются. Мне смешно от осознания того, насколько наивен отец. «Ты еще многого не знаешь, папочка»…
Он не знал того, что его родной брат, мой дядя, при каждом удобном случае приставал ко мне. Прижимал к стене, хватал за попу, внюхивался в шею, обтираясь своим небритым лицом. Не осмеливаясь на большее, запихивал пару купюр в мой карман. За доступность или молчание? Черт знает. Я брал эти бумажки, покупал на них телячьи хвосты ощенившейся Бурсе, хромой дворняге удивительного оленьего раскраса, и сладости сестре. Мне самому деньги были не нужны. Я нуждался только в куклах, свободе и, наверное, любви. Я тогда просто не знал, что значит быть любимым. Хотелось попробовать на вкус…
Он не знал того, что прямо под его носом я занимался петтингом с кузеном Мустафой, когда он приезжал в гости. Нас, мальчишек, укладывали на полу, рядом с дровяной печью, тогда как моя кровать доставалась кому-нибудь из аксакалов. Всю ночь, под уютное потрескивание поленьев, мы ласкались под одеялом, надрачивали свои членчики, кончая еще сизой юношеской спермой друг на друга. Мустафа не был геем. Ему просто хотелось секса — о досвадебных отношениях с девушкой он и не мечтал. На Востоке мальчики часто познают секс с мальчиками…
Отец бьет меня, пока мой смех не сменяется хрипами. Теряю сознание. От боли. Прихожу в себя и вижу, что лежу в кровати. Я переодет. В чистую одежду. Рядом сидит отец и… плачет. Беззвучно, лишь слезы текут. «Пить хочешь?» Утвердительно киваю. Подносит к моим разбитым губам алюминиевую кружку с ледяной водой. Из колодца. Мама для нас ее подогревала… «Как себя чувствуешь?» — задал отец второй вопрос. Мертвым голосом. «Нормально», — ответил я и закрыл глаза. Притворился, что заснул. Отец вышел из комнаты. Покурить…
Я пролежал в постели неделю. Мама делала мне компрессы из отварной теплой свеклы, натирала гематомы маслом фенхеля, сестра поила ромашковым отваром. О произошедшем никто не заговаривал. Это нормально. Сын, переодевающийся в женскую одежду, — позор для любой восточной семьи. У нас сор из избы выносят только в особых случаях, если, к примеру, дело касается чести женской половины рода…
Синяки от отцовских ударов до сих пор болят, вопреки прошедшим годам. Они не видны, но живы. С того дня я больше не называл его папой. Только отцом. С того дня отец больше не называл меня сыном. Только по имени…
— Мне не нужно понимания. Честно. В жизни любого гея наступает момент, когда уже нет сил объяснять, отвоевывать, подстраиваться, искать истину, получив которую, надеешься смириться со статусом «ошибка природы». Нет, это не отчаянье превосходит борьбу. Это вообще конец борьбы между природой и внутренним «я». Ничья. Суть наконец-то воссоединяется с образом, после чего является та самая гармония…
Душевная гармония гея совсем не похожа на общечеловеческую. Гармония гея — смех сквозь боль. Просто принимаешь боль, с детства сковывающую сердце, понимая, что она такая же неотъемлемая часть тебя, как, например, рассудок… Я достиг этой гармонии, переступив тридцатилетний рубеж. Разобрался с прошлым — больше не мучает. Теперь спокойно о нем говорю. Лишь во сне возвращается боль воспоминаний…
Боюсь засыпать. Страшные вижу сны с примесью реальности почти каждую ночь. Подруга Ханде рекомендует обратиться к психологу. «Тебе может помочь только специалист». Мне может помочь только специалист, а? Где они раньше были, все эти специалисты? Отказываюсь. Я не доверяю психологам. За их лживыми, вроде бы понимающими взглядами нет ничего, кроме безразличного превосходства… Говорят, геи во всех видят врага. Отчасти согласен. Мы не верим окружающим, потому что многие из нас так и не научились верить себе. Не в себя, а именно себе! С чем это связано? Может, с тем, что геи в детстве недополучают тепла, как бы хорошо к ним ни относились? Одиночество с пеленок делает из нас изгоев, не умеющих доверять. Долго проверяем, испытываем, присматриваемся…
Вокруг меня есть люди, искренне сопереживающие мне. Без пафосных слов. Поддерживающие теплыми прикосновениями, вовремя поднесенной зажигалкой, заваренным кофе, внезапным объятием. Это в основном самодостаточные женщины. Дружба гея с геем редкость… Но все равно ни одно дружеское объятие не излечит гея от вечного одиночества.
Вот только не подумай, что я специально выпендриваюсь перед тобой на тему «вот какие мы, гомосексуалисты, великие страдальцы», добиваясь, чтобы меня пожалел весь мир. Отнюдь. Мне только нужно все кому-то рассказать. От и до. Странно: тебе, чужому, чуждому по сути мужчине-гетеросексуалу, легко открываюсь. Может, из-за того, что тебя никогда не увижу? Или ты такой талантливый слушатель?…
…Зажигалка барахлит. Жаль, нет спичек. Забыл купить. Обожаю звук чиркающих спичек. Я бы записал его на пленку и сделал бы саундтреком своей жизни — такое периодическое чирканье и вспышка, и снова темно, вспышка и темно…
— Так хочется прикупить себе облегающие боксерки. Безумно сексуально смотрятся. Но не могу. Вынужден надевать свободное нижнее белье — от стрейчевого тут же появляются спазмы в паху. Если быстро не вколоть спазмолитик, могут начаться кровяные выделения из члена. Врачи связывают это со сдавленностью сосудов в паховой области. Убедился, какой я особенный?
Они долго пытались выяснить причину такой реакции организма, пока я не рассказал им, что много лет стягивал бедра жгутом. Особенно летом, в пору одежды из легких материалов. Не хотел, чтобы у меня между ног что-то торчало. Тогда как мои сверстники гордо мерялись членами в школьных раздевалках, я ненавидел то, чем, казалось бы, должен гордиться любой парень. Прости, нескромно прозвучит, но хуй у меня довольно-таки выдающийся, от отца достался. Выпирал из-под брюк, уродуя девичью изящность моих бедер…
В сарае отыскал широкий кусок жгута, ими отец обматывал винные бочки в первые шесть дней брожения винограда. Помыл самодельный «корсет» мылом и каждый день, перед выходом из дому, стягивал им голые бедра. Ненавистный член больше не был виден, да и талия становилась более совершенной. Не снимал «корсет» даже летом, в сорокоградусную жару, пока однажды чуть не умер от инфекции. Жгут натер живот, образовалась рана, а я не придал значения. Неожиданно ночью поднялась температура до сорока одного, пошли судороги. Меня спасла соседка-повитуха, которую мама призвала на помощь. Она сбила жар холодным уксусом, промыла рану настоем тысячелистника, принесла какие-то антибиотики. Про жгут так никто и не узнал…
В подростковом возрасте, когда у меня набухла грудь, я уже полюбил свое тело. Нескладное, чуть полненькое, зато очень женственное. Я представлял себя в облегающих вечерних платьях из черного атласного шелка, на высоченных каблуках, в черных очках и с элегантно собранными волосами. Этот образ однажды увидел в одном европейском журнале, который пролистал в доме тетушки Сезен. Она была бездетной портнихой, шила религиозную одежду, а ее муж, моряк со стажем, плавал в год по два раза в Европу…
Переходный возраст сказался на мне не прыщами, а полнотой — резко набрал в весе. Если сначала комплексовал, то спустя время понял, что этот, казалось бы, минус является знаком плюс. Многие восточные мужчины предпочитают не худощавых мальчиков-геев, а полненьких. Как сказал Кенан, один из моих любовников: «Кайфа больше, когда возьмешься за плотного парнишку. Во-первых, есть за что потрогать, под руками чувствуешь тело, а не кости. Во-вторых, секс больше походит на секс с женщиной…»
Сначала я не понял Кенана, но жизненный опыт подтвердил его правоту. Ведь приходили ко мне простые деревенские мужчины, которые, поверь моим словам, хотели баб, а не мужчин. Но из-за того, что восточные женщины (кстати, по своей природе плотной комплекции) достаточно консервативны в сексе, а проститутка в радикальной мусульманской деревне почти нонсенс, мужчины ищут себе подобие женского тела. То есть полненьких пассивных мальчиков с женским нутром. Я считался идеальным вариантом, тем более что шикарно владел ориенталем и любил женскую одежду. Помню, как приходил на встречи с Кенаном в мамином нижнем белье, которое профессионально подворовывал. Кстати, и в постели он называл меня женскими именами…
…А видишь, какой я худой сейчас? Веяние гребаной моды. Современный гей непременно должен быть изящненьким. Прошло время пассивных пампушек…
— Если ты не такой, как все, то тебя обязательно подавят массы. На пару месяцев, на десяток лет или, быть может, до последнего вздоха. В любом случае определенное время, пока природа снова не возьмет верх над разумом, ты будешь уподобляться большинству. Где-то в тринадцать я решил стать похожим на своих сверстников. Первым долгом принялся подавлять женственность, буквально выпирающую из меня предательскими ужимками, струящуюся непостижимой радиацией…
Начал следить за движениями рук, укрощать манерность. Перестал при разговоре проводить пальцами за ухом, будто убирая спадающий на лицо локон волос. Начал управлять взглядом, до того момента непроизвольно оценивающим красоту мужских тел. Теперь смотрел исключительно вперед и назад, ни в коем случае по сторонам. Это давалось особенно трудно, когда мимо проходил смуглый красавец с натруженными руками, мускулистым торсом…
Начал подолгу не бриться, облизывать губы на холодном ветру, чтобы те брутально потрескались, утяжелил походку громоздкими ботинками. Побольше бесформенной одежды темных оттенков, только бы слиться с толпой. Сейчас вспоминаю об этих потугах стать другим — как же много отчаяния в них было. На тот момент я уже настолько устал от унижений и плевков вслед… От того, что маленькие дети на поводу у взрослых бросают в меня камни, а одноклассники презрительно называют меня женскими именами. Чувствовал себя селекционно-выведенной собачонкой с двумя хвостами, оказавшейся в стае чистокровно породистых псов…
Старался молчать, не открывать рта, лишь бы как можно меньше народу услышало мой голос. Самый позорный голос на свете. В нем было столько девичьего, не оформившегося. Поэтому с двенадцати лет подсел на сигареты — самодельные самокрутки без фильтра, они стоили дешево. Выкуривал по пачке в день, с каждый затяжкой все сильнее надеясь на то, что голос огрубеет и я смогу говорить без страха быть осмеянным…
Но знал: надолго меня не хватит. Так и получилось. Слишком ярким было женское начало. Природу не одолеть. Вода рано или поздно найдет самую крошечную щель, обязательно вырвется на свободу… Я уставал от болезненного внимания, в глубине души осознавая, что оно мне… нравится.
Никогда я не соглашусь на смену пола, при всем при том, что временами ощущаю себя женщиной. Переходя дорогу, принимая душ, причесываясь перед зеркалом, задыхаясь под любимым. Вижу себя хрупкой брюнеткой с бронзовой кожей, с губами Пенелопы Круз и невинным взглядом Скарлетт Йоханссон. И самый золоторукий хирург на земле не убедит меня физически преобразиться в женщину…
Мне комфортно. Принял себя. Полюбил. Я даже не эпилируюсь, не стесняюсь своей волосатости. Понимаешь, устал подстраиваться, соблюдать стандарты. Я такой, какой есть. Меняться не собираюсь. Как говорится, бесполезно кормить орла сеном, а осла мясом…
Однажды один мой знакомый, он преподает в университете, сказал, что я не могу называть себя геем, так как являюсь транссексуалом. «Ты ощущаешь себя женщиной, у тебя нарушение полового самосознания». Он пытался мне объяснить суть моего «психического расстройства», а я смотрел на него и поражался тому, с какой легкостью люди легко навешивают ярлыки, определяют в категории. Если я читаю женские романы в мягких обложках, значит, я не могу читать Пруста или Борхеса. Если мне нравится женская одежда, значит, я непременно ношу ее и мечтаю стать бабой. Если я предпочитаю быть пассивным в сексе, значит, я никогда не смогу быть активным.
Почему люди так любят ограничивать свободу? Боятся. Почему нельзя быть другим, пусть даже особенным, вне известных симптомов, диагнозов, принадлежностей? Может, и я боюсь признаться в транссексуализме из-за страха быть еще более не таким, как все?…
— Она любила меня с закрытыми глазами. Странной любовью, перекликающейся с ненавистью, которую пытаешься подавить в себе, но тщетно. Потому что ненависть зачастую рождается от сумасшедшей любви и проявляется она эгоистичным желанием сохранить то, что вот-вот выскользнет из рук, утечет туда, где любое стремление удержать рядом бессильно…
Я бы согласился умереть у ее ног, быть уничтоженным ее словами, задушенным ее руками. Но она настолько сильно любила меня, что не лишила бы этого тепла, которого, кстати, я не был достоин. Слишком много пощечин, унижений получила из-за меня. Из-за моей природы. Прости, мама, не смог ее сдержать!..
Как-то сказал тебе: «Я не хочу больше жить. Приношу тебе одну боль». Ты долго смотрела в мои глаза, потом провела пальцами по ним, прошептав: «Если бы меня не было, то и тебя тоже. Если тебя не станет, то и меня не станет. Так живи хотя бы ради меня… Я буду здесь, когда бы ты ни вернулся». Знаешь, она ведь никогда не была сентиментальной. Молчаливая, печальная, с красивыми глазами. Таких слов она впредь не повторяла. Но мне их хватило навсегда…
Мать моя принадлежала к категории женщин, которым не дали стать теми, кем они мечтали и вполне могли бы стать. Нет, она не была слабой. Она просто была подчиненной. Как миллионы восточных женщин. В пятнадцать лет ее насильно выдали замуж. Впервые увидела отца в день свадьбы. Тетка рассказывала, что мама пыталась покончить жить самоубийством — не хотела замуж, мечтала уехать в город, поступить в университет, стать учительницей музыки. Ее вовремя нашли с перерезанными венами. Откачали, раны зажили, свадьбу отыграли. Всю брачную ночь, по словам тети, мама плакала… Она тут же забеременела. С тех пор для нее началась другая жизнь. Жизнь ради нас, детей…
Невероятно красиво она пела. Веришь ли, такого душевного голоса я больше не слышал. О нем мне напоминает вокал Айлы Дикмен. Поэтому сейчас каждый раз, слыша ее «Ты бы не понял», я плачу. «Желаю тебе быть счастливым, мой любимый. Даже если меня не будет, пусть жизнь улыбается тебе…» Мечтал, чтобы мама стала певицей. Особенно когда слышал, как она, раскатывая тесто для сырных лепешек, исполняет народную песню-плач:
Увы тебе, лживый мир,
Тленный и бренный мир,
Движимый любовью,
Словно крылья мельницы ветром,
О, лживый мир!
Она никогда не пела при ком-то. Только в одиночестве, только для себя. А я, спрятавшись за побелевшим от сырости шкафом, подслушивал. Моя грустная богиня, никем не понятая, всегда одна…
Отец ее бил. За мою непохожесть на других, за ее тоску, за собственную несостоятельность. Он ее бил, а она звука не издавала. Только бы дети не услышали. А мы слышали — звонкие пощечины. Мы видели — багровые синяки… Однажды, под утро уже, застал ее на кухне плачущей. Мне тогда было лет семь. Она сидела на самодельной табуретке за обшарпанным столом, мяла в ладони засохший бутон чайной розы, которую я принес ей на днях. Я тихо подошел, обнял ее: «Мама, давай сбежим». Она посмотрела на меня мокрыми глазами, захотела что-то сказать, но остановила себя… Я так и не смог подарить ей счастье. Не успел…
— При всей внешней слабости я сильный. Понимаю это с возрастом. В чем заключается настоящая сила? В том, что ты продолжаешь идти, даже если все дороги превратились в топкие болота, готовые схватить, засосать тебя. Меня избивали, насиловали, унижали, я плакал, возмущался, прятался, но спустя какое-то время вставал, продолжал путь. Не с оптимизмом в душе, а с огромной болью, которую невозможно излить слезами. Но главное — я шел. Бесцельно. Солгу, если скажу, что следовал к счастью. Долгое время я и не верил в него, и слишком большую значительность ему придавал. Оказалось, все гораздо проще…
Сейчас смотрю на детей с белой завистью. Они защищены не только родителями, но и законом, прогрессом, всякими организациями, да кем угодно. У них прекрасная, беззаботная пора. Улыбаются, капризничают, отважничают, тогда как я ничего, кроме щенячьего страха, из детства не вынес. Честно говоря, не знаю, каким оно должно быть, детство. Как его почувствовать. Мама говорила, что я родился взрослым. Как тот самый Бенджамин Баттон из рассказа Фицджеральда, читал? Наверное, так и есть. Потому что только сейчас, взрослея не только по паспорту, я начинаю жить. Проживаю упущенные ощущения. Получаю то, что не получил тогда…
Часто слышу голос изнутри, твердящий одно и то же: «Чего бы это ни стоило — никогда не поздно, никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет, можешь начать когда угодно. Можешь измениться или остаться прежним — правил не существует». Сейчас для меня каждый новый день — новый шанс.
Признаюсь, не всегда получается им воспользоваться. Но я знаю, что завтра будет новый день, и, быть может, именно завтра начну я жизнь заново, перестав закрываться подушкой от солнечного света, искать единственного в случайных поцелуях, примерять на себя судьбы счастливых гетеросексуалов, фантазировать о Мэтью Фоксе как партнере… Приближаюсь к этому. Маленькими шажками. Например, в прошлом году смог простить тех, кого во многом винил. Простил и вычеркнул. Я специально пишу на бумаге и вычеркиваю боль прошлого жирным черным маркером, чтобы не осталось возможности туда вернуться…
Вопреки внутренним победам до сих пор испытываю поражения в борьбе со старинными страхами, реинкарнирующимися в настоящем. Мой крест. Было бы у меня право выбора, не думая, схватился бы за страшный конец, это лучше, чем бесконечный страх… Когда придет день абсолютной свободы? День «на дорогах свободно, новых писем нет»?…
А вообще, ни одна боль не проходит бесследно. Ненавижу изречение: «все, что нас не убивает, делает сильнее». Чушь собачья! Все, что нас не убивает, непременно калечит! От страданий остается один-единственный шрам под названием одиночество. Оно всегда во мне. Ведь правильно кто-то сказал, что одиночество — это когда ты окружен людьми, которые, может, любят тебя и понимают, но у каждого из них есть кто-то ближе, чем ты…
Смирился. Помнишь, как в том же «Баттоне»? «Большую часть времени ты будешь один. Ведь ты не такой, как большинство. Но я открою тебе секрет: толстые люди, худые, высокие, белые — так же одиноки, как и мы, только их это пугает до смерти»…
— Меня не спасали. Я спасался сам. Каждый удар, оскорбление, пощечина, крик убеждали в том, что помощи ждать не стоит. Никто не протянет руку — сам тянись к жизни, если хочешь жить… И я побеждал смерть. Она не раз связывала по рукам и ногам, но я разгрызал черные канаты, захлебываясь кровью, заглядывая в небо в надежде увидеть светящийся коридор Божьего благословения. Я верил в его существование, но не верил, что все люди перед ним равны.
Аллах карает тех, кто живет однополыми отношениями, то есть отказывается от своей истинной природы. Но моя природа не приобретенная. Она заложена в меня там же, где закладывалась, закладывается природа миллионов других людей. Тогда почему я должен быть в немилости Всевышнего, в статусе грешника?… Честно говоря, злился на Аллаха. Мне тоже хотелось быть защищенным на каком-то высшем уровне…
Дома все совершали намаз. Я создавал видимость того, что молюсь. В нашей деревне население радикально религиозное: все поголовно молятся пять раз в день, соблюдают посты, ездят на хадж в Мекку. Те ребята, что насиловали меня, тоже посещали мечеть, подолгу беседуя с муллой на философские темы. Аксакалы ими восхищались, ставили в пример малышне…
Наблюдая за этим фарсом, убеждался в одном: люди неимоверно падкие на видимость. Этот факт следует опечатать, запихнуть внутрь яйца, яйцо положить в сундук, а сундук повесить на дубу далекого царства. И никогда не подвергать сомнению!.. Я так и не смог привыкнуть к круговороту сменяющихся человеческих масок. Наверное, это не повод для гордости — умение подстраиваться под людей помогает в жизни. Я не могу. Не притворяться, первым долгом, перед самим собой — главное правило моей жизни, которую окружающие продолжают называть «позорной»…
Не вникал ни в одну суру Корана, не обращался к Аллаху. В минуты массового поклонения вместо молитвы шепотом напевал любимые песенки, думая о своем. О том, что меня ждет и когда я смогу выбраться из гнетущей ямы, в которой с детства находился.
В те мгновения ждал элементарной поддержки, чтобы кто-нибудь разделил со мною не душевную боль, а стремление жить иначе. Я был абсолютно один. Даже тот, кто царствует там, за облаками, безразлично отошел в сторону… Долгое время мечтал получить письмо с непонятного адреса со следующим содержанием: «Мне очень стыдно». А под этими словами была бы подпись: «Бог»…
Со временем возродил в себе веру. Теперь у нас с Аллахом приятельские отношения. Нет, я не приобщился к намазу, по-прежнему говорю: «я верю в Бога, но не в религию». Во мне укрепилось то, что уже никогда не сломается. И мне хочется с помощью этой внутренней силы побороть тот страх, родом из прошлого. У этого страха самая яркая черта — неизвестность. Если обычным людям сложно строить будущее, то геям еще сложнее. С рождения мы потеряны во времени. Многие тратят все свое время, чтобы найти себя в самих себе, я уже не говорю в жизни…
— Иса был глупышкой. Худенький мальчуган, очаровательный, как нимфетка, с пунцовыми губами и кривоватыми ножками. Вечно носился с бездомными животными, смущенно хихикал, подрабатывал на оливковой роще семьи Эргюрсел. Помогал в сборе урожая, подкрашивал известкой стволы деревьев, следил за поливом, пока седобородый хозяин Ариф похрапывал в плетеной подвесной корзине на веранде. Иса, видно, любил этот старый дом. Прятался в нем от жестокой реальности, беседуя с красавицами оливами и мастеря домики для бесхозных кошек. Ариф щедро кормил его густым чечевичным супом, горячим хлебом, угощал обжигающим чаем с кусочком баклавы. Еще и деньжат подкидывал…
Я был наслышан о доме Эргюрселов, в деревне его называли «шумным». Все знали, что даже в дневное время из его стен доносятся десятки разных голосов бывших жителей. «Сначала боялся их, потом подружился. Веришь, они отвечают на мои вопросы…» — тараторил Иса, щуря правый глаз, он с рождения у него не видел.
Может, Ариф и разрешил бы Исе постоянно жить у них, но супруга добродушного фермера Фатьма, частенько навещающая замужнюю дочь в Багдаде и всегда неожиданно возвращающаяся, на дух не переносила «бесполого зайчонка». Запрещала появляться в роще, подходить к порогу дома, здороваться при встрече на улице. «Еще не хватало мне общаться с ошибкой природы! Упаси Аллах… И почему он живет?! Позор ходячий».
Иса был таким же, как я. Мальчик, который должен был родиться девочкой. Однако если я был изворотлив и хоть как-то мог отгородить себя от ненависти, то Исе, наивному созданию из нищей семьи, доставалось по полной. Не раз встречал его избитым, с кровавыми потеками на лице. Над ним издевались, он не сопротивлялся. Не кричал, не ругался, не убегал. Молча терпел, будто заслужил эти наказания.
Я пытался образумить мальчишку, объяснял, какими дорогами нужно ходить, чтобы не попасться в руки негодяев из местной шайки. «Если ты себе не поможешь, то тебе никто не поможет, Иса. Мы должны бороться. Ради самих себя», — говорил я, обрабатывая его раны в заброшенном доме на окраине деревни. Он смотрел на меня чистым, добрым взглядом, с трудом отвечая из-под распухшей губы. «Спасибо тебе! Я здесь все равно скоро не буду. У меня будет дом на облаках, много кошек и оливковых деревьев… Будешь приходить ко мне в гости?»
Я злился сквозь жалость. «Иса, ты прекратишь чушь молоть?! Потерпи немного, скоро выберемся отсюда». Он ничего не отвечал, только улыбался и просил в случае чего присмотреть за его котенком, которого назвал по-восточному образно — «Первый день». Он до последнего надеялся, что совсем скоро начнется его свобода… Мы вообще так много надежд возлагаем на будущее, что боюсь, в итоге, устав от человеческой назойливости, оно разозлится и пошлет нас куда подальше. Скорее всего, обратно — в прошлое…
Иса исчез неожиданно. Искал я его повсюду. Первым делом навестил маленькую хибару, где он жил с больной, почти не ходящей бабушкой. Никто мальчишку не видел. Ночью вспомнил о потайной пещере в лесу, там он любил оставаться, когда хозяйка Фатьма возвращалась домой. Побежал туда с рассветом: увидел затухший недавно костер и вещи Исы. Все стало понятно, когда на одном из одеял обнаружил пятна крови… Изувеченное тело нашли потом на одной из мусорных свалок. Полиция дело замяла. Кому нужно искать виновников смерти «бесполого зайчика»? Кто-то взялся за работу над ошибками природы. Долгое время я боялся стать следующим…
Когда Исы не стало, я решил, что всему конец. Выхода для нас нет. Но внутренняя воля подтолкнула меня продолжать жить. Именно она, воля, заставляет побеждать, когда разум говорит, что ты повержен… Спустя месяц после смерти Исы умер Ариф. Роща запустела. Котенка я так и не нашел. Надеюсь, он сейчас с ним, со своим доверчивым хозяином…
— Ненавижу дождь. Во мне вообще трудно вызвать чувство ненависти: в людях, переживших больше положенного, оно реже проявляется, чем в тех, кто, лежа на диване в засаленной пижаме, обвиняет мир в собственной неустроенности. Но с дождем у меня старые счеты. Да по сути и счетов-то никаких нет, просто возненавидел его после ночи, когда униженный до кончиков ногтей, валялся в мерзкой жиже, умоляя дождь помочь мне встать, дойти до дома. Не помог. Наоборот, продолжал лить всей мощью, будто спешил утопить меня. Я пытался опереться обо что-нибудь, булыжник или кусок бревна, но не выходило. Дождь лил, окровавленные руки предательски соскальзывали, ослабевшие ноги погрязли в размокшей земле.
И я лежал, смотрел в одну точку, мысленно стучался в двери Аллаха за своей порцией помощи. Редко просил и никогда не получал ее, когда она по-настоящему была нужна. Где-то вдалеке лаяли собаки, осень только начиналась; темно-бордовая рубашка на мне превратилась в грязно-коричневую тряпку. Я плакал от понимания, что мы, люди, сами выбираем — дышать или задыхаться. Тогда остановил свой выбор на «дышать»…
В тот момент так сильно хотелось жить, хотя и разочарований набралось по горло. В тот момент мечтал, что не за горами теплая ночь, и я снова прогуляюсь по полуночной деревне под стрекот сверчков. В кармане будут шуметь поджаренные неочищенные каштаны, ветерок будет щекотать воротник рубашки, а над головой загадочно заблестят восхитительные в своем молчании звезды. Кто-то говорил, что каждый день надо совершать что-нибудь прекрасное, имеющее отношение именно и только к этому дню. «Сегодня не успел ничего совершить», — разочарованно вспомнил я и потерял сознание…
Он обманул меня. Один из самых красивых парней нашей деревни. Низкорослый шатен с глазами черничного цвета, сексуальной ямочкой на подбородке и обволакивающим голосом. Насиф был немногословен, и это завораживало, притягивало к нему. Молчаливые мужчины — слабость романтичных девушек и геев. Ведь эту молчаливость мы можем расценить так, как хотим. «Он по мне с ума сходит, настолько сильно, что не может выразить чувства словами! И вообще, мужика не красит болтливость…» Безысходная наивность. Цепляться за соломинку — казалось, только так и можно жить…
Проходя мимо него, я с трудом отводил взгляд. Честно признаюсь, настолько сексуального парня до сих пор не встречал. Теперешние огламуренные мальчики с проэпилированными телами годятся только для быстрого развлечения. А за Насифом любая женщина, любой гей пошли бы до изнанки земли. В таких мужчинах видишь силу. Силу завоевывать, отбирать, уводить…
Он практически не общался с другими ребятами, которые, кстати, побаивались его. Во-первых, Насиф излучал неоспоримую власть, во-вторых, он был сыном главы местного муниципалитета. Эта его обособленность ото всех меня тоже обманула. «Он не такой, как все. Он поймет». Чего я от него ждал? Что он мог понять!
Моросил дождь, я спешил домой. Насиф стоял у входа в чайхану, курил в одиночестве. Освистнул меня. «Пошли…» Мгновенно оказываюсь во власти его глубокого голоса. Сажусь в зеленую машину, еду с ним туда, где кончается деревня, к подножию горы. В голове мелькают самые романтические картины. До сих пор помню запах дождя из приспущенного окна, шум мокрой гальки под колесами, его дерзкую руку то на переключателе скорости, то на моем колене. Мне пятнадцать. Юнец с длинными кудрями и мечтами о любви…
Он начал избивать меня, как только мы вышли из машины. Свалил на землю. Пинал грубыми черными ботинками. Ничего не понимаю, на автомате кричу «за что?». Удары усиливаются. Вот он ломает мне нос. «Как все это объяснить дома?» — механически всплывают мысли, вместе с тем я понимаю, что Насиф не оставит меня в живых. Трудно дышать, боль в пояснице, челюсть дробится о камень. Вижу его лицо. Спокойное, невозмутимое, сосредоточенное. «Не бей, лучше трахни», — пытаюсь выговорить это. Не могу. «Надо спасать себя, иначе убьет…» Притворяюсь умершим. Замираю, не дышу, закатываю глаза. Еще несколько ударов. Все затихает. Он отходит, спустя какое-то время возвращается. С ножницами. Берет меня за волосы, грубо дерет и стрижет их. «Терпи, не дыши…» Выдерживаю. Уезжает. Я валяюсь под надсмехающимся дождем, вокруг ошметки кудрей. Дождь вбивает их в грязь…
Меня нашел пастух на рассвете. Узнал. Доволок до дома. Отец был в отъезде. Мать плакала. «Кто тебя так изувечил?» Я молчал. Шесть месяцев пролежал дома. Насиф уехал из деревни в город, там женился, говорят, воспитывает двух сыновей. Я долгое время не мог говорить. Точнее, не хотел. Внутри все умерло… Семь лет назад сделал операцию на носу. Так пытался окончательно расстаться с прошлым. Очередной самообман…
Порой мне все произошедшее кажется придуманным. Невыносимо пошло придумано, будто пересказываю сюжет какого-то бульварного романа. Если бы и на самом деле это был только роман…
Ну что, дождь, наконец, отстучал. Так намного лучше.
— Как не расстался с жизнью еще в детстве? За что держался? Не знаю… Я часто задумывался о самоубийстве. Обдумывал способ, место, день. Таблетки — проще всего. Заснул и не проснулся. Какие нужны, знал. Смелости хватало. Но вот какая-то странная тяга к жизни, ничем не оправданная, не пускала наложить на себя руки. Я мечтал о новой жизни с первой секунды сознательного возраста…
В детстве считаешь, что дольче-вита — твой удел, точно такая, как в сказках. В юности надеешься, что она поджидает тебя совсем скоро, во взрослой жизни. А уже во взрослой жизни понимаешь, что дольче-виты просто нет, да и не нужна она. Вместо нее хочется настоящей свободы. А ее получить, может быть, еще сложнее…
Тогда я держался не только внутренней волей — держался ради маленьких, даже самых ничтожных проявлений теплоты окружающего мира. Например, мамины глаза, блестящие как дождливый май. Благодаря им я знал, что такое уют, который никогда не почувствовал бы в реальности детства. Когда становилось страшно, прятался под ее теплым взглядом…
Тогда я держался ради счастья смотреть на мою спящую сестру, юную принцессу со щечками круглыми и яркими, как хурма. Любил смотреть на посапывающую Назиру. В ней было то, что отсутствовало во мне, — чистота. Она любила смотреть вокруг сквозь разноцветные стекляшки, которые собирала в железную коробку из-под кизиловых конфет. Наблюдать за спящей Назирой — в этом было что-то настолько важное, что сейчас я теряюсь в словах, пытаясь найти подходящее выражение. Хранить чужой покой. Заглядывать в безоблачное будущее. Просто знать, что все хорошо… Да, вопреки всему страшному было в моем детстве и прекрасное…
В любых состояниях, радостных или чаще — грустных, мы обращаемся к двум периодам нашей жизни: когда были детьми и когда по-настоящему любили. Чтобы укрепить осознание: наше время не подошло к концу, и мы еще не превратились в заурядных индивидуалистов, абсолютно не способных ценить прожитое…
Мне очень-очень важно сохранить в себе детство. Все, что учило и будет учить жить еще долго. Так, перечитывая однажды прочитанную книгу, мы видим в ней то, что не видели раньше в силу возраста, неопытности, зашоренности… Вижу детство в своем сердце. Я тот же. Обожаю чай с гвоздикой, гадаю по летящим по ветру пакетам, мечтаю, чтобы все бездомные собаки стали счастливыми, даже верю, что все дороги мира в конце концов ведут в весенний сад…
Не надо смотреть на свое настоящее как на готовый продукт, расставляя оценки, задаваясь вопросами. Иногда достаточно вернуться в детство и оттуда по-новому увидеть пройденный путь — может, где-то остались не открытые еще двери?…
— Знаешь, чему мне пришлось учиться после переезда в город? Нежности в сексе. А точнее, сексу вообще. Долгое время я думал, что секс — это когда грубо спускают штаны, расставляют ноги, плюют в анальное отверстие и больно входят в тебя. Представляешь, я даже не знал, что сексом занимаются обнаженными, ласкаясь телами, обмениваясь поцелуями, прикосновениями, дыханием. Я был изуродованным дикарем, после очередного соития молящим Всевышнего о том, чтобы не было кровяных выделений. Жутко боялся крови. Каждый раз перед тем, как натянуть штаны, проводил рукой между ног. Если в белой вязкой жидкости, остающейся на пальцах, не было ничего красного, значит, сегодня повезло…
В отдаленных уголках Востока мальчиков-геев именно трахают, по-животному. Без прелюдий, смазок, презервативов. Представляешь, многие из нас даже получали удовольствие при этом. Если тебя поймал самец, он не отпустит, пока не разрядится в тебя. Ничто не помешает ему. Поэтому лучше подчинись, отдайся, чтобы не быть еще и избитым…
Поначалу от боли грубого проникновения чуть сознание не терял. Со временем — привык. «Потерпи, ритм сейчас усилится, станет больнее, но через пару минут он застынет, кончит, и все прекратится», — успокаивал я себя, когда сын директора нашей школы подловил меня в сосновом частоколе заднего двора. На десятиградусном морозе. От холода сфинктер сжался, а он продолжал пробивать его своим огромным членом с бордово-фиолетовой головкой.
Отчетливо помню тот день. Ощущения, звуки, чувства. Помню дикое чувство голода и желание проснуться с радостной мыслью: все происходящее сон, я здесь, дома, в теплой кровати, натоплена печь, и сквозь дырочки ее железной двери слышно жалкое шипение чуть сыроватых дров, которые вот-вот охватит пламя… Реальность всегда побеждает. Хладнокровно разрушает иллюзии, доказывая, что если ты рожден без крыльев, то у тебя они никогда не вырастут, и даже если получится, так всегда найдется тот, кто безжалостно обрубит их на корню…
Два месяца назад я вколол себе ботокс. Разгладил морщины на лице. Зачем подобные процедуры мужчине в тридцать два? Никаких комплексов, да и морщин было не так много. Но, поверь, каждая из них напоминала о пережитом. О морозе того дня, об отцовских пощечинах, насмешках людей. Мои морщины — это следы боли, а не места, отмечающие прежние улыбки…
— Они смотрят в мои глаза и, веришь, я готов отдать им все те крошки счастья, которые у меня есть. Их не так много, и скорее всего, это не слишком щедрый дар — остатки былой роскоши. Но это все, что осталось. А для них мне ничего не жалко. Собаки, которые так и не обрели хозяев, а значит, домашнего уюта, бескорыстной ласки, искреннего друга. Изгои животного мира. Их жалеют, но мало кто желает их приютить. Людям подавай породу. Отбросы, неудачники не нужны.
Да, они погладят тебя по голове, угостят чем-нибудь вкусненьким, подарят подстилку и надежду на время, а потом «всего хорошего, до новых встреч». Уходят, тронутые до слез, и даже решают на семейном совете завести собаку — купить у проверенного производителя. Платят за свой будущий непокой — чтобы трястить над породистой покупкой из-за каждого ее чиха и налета на языке. Кому нужна верность? Кому мы нужны? Неваляшки! Можно сколько угодно рассуждать о доброте, но пока ты не готов увидеть в каждом, абсолютно в каждом живом существе друга, помочь ему подняться — грош цена твоим рассуждениям!
Вот и у моих четвероногих братьев уши уродливо длинные, сердце чересчур доброе, хвост не купирован, вдобавок наследственность не оставляет шансов. Как же, с матерью-дворнягой позабавился породистый кабель и… все. Какое тут может быть продолжение, не сказка же «Золушка» в самом деле. В итоге рождаются изгои, которых сердобольные подкармливают, сочувственно цокают языком, а домой не забирают. Впрочем, кому как повезет. Только везет все же очень редко…
Я вижу в них себя. Горько плачу, но за пределами собачьих приютов — нельзя унижать их слезами. Им и так плохо. Знаешь почему? Не от голода, демодекоза или кровожадных блох. Это поправимо: еще есть и будут добрые люди, которые, преодолевая частокол препятствий, организовывают фонды помощи животным. Кормят, лечат, купают. Истинная причина тоски собачьей та же, что и у людей, — одиночество. Многим из нас не хватает самого элементарного — тепла. Пусть будем недоедать, пусть жарко и мало воды, пусть кожа зудит, а ноги гудят от усталости, и голову негде преклонить, но пусть рядом будет тот, с кем можно все преодолеть, пережить и умереть вместе…
В Большом городе около шестидесяти собачьих приютов. Когда могу, я посещаю многие из них. В минувшем месяце все думал, как потратить «лишние» деньги, когда за все уплачено. Такие свободные деньги тяготят. И знаешь, что интересно — отдал всю сумму на помощь четвероногим изгоям, и сразу наступил покой. Само собой, можно было бы отложить на квартирный платеж в будущем месяце, например, еще на какие-то предсказуемые траты. Но вот этой душевной чистоты и прозрачности тогда бы не было.
Понимаешь, собакам хуже, чем мне, мне-то есть куда вернуться. Свое пространство, чистая постель, консервированные овощи, клетка яиц, батон хлеба. Мне хватает… Изгой должен думать об изгое. Так происходит маленькое чудо: заботишься о другом, и начинаешь сам верить в то, что спасение возможно, помощь возможна. А кроме того, забываешь о собственных неприятностях, когда возишься с чужими. Поэтому тоже стараюсь больше отдавать, ничего не держать в себе… Всегда есть кто-то, кому хуже. Вдумайся только: всегда есть кто-то, кому хуже. Разве одно это не лишает нас права жаловаться?
А вот когда у меня будет дом… Маленький домик на краю света, где воздух всегда свежий, и никаких лампочек — только солнце. Я уеду туда, заберу с собой четырех собак из одного окраинного приюта. Любимчики мои. Двое из них подобраны за городом, одному псу машина переехала лапу, другому — выбили глаз. Остальные двое диабетики, они до конца жизни на лекарствах. Пока эти страдальцы находятся в доме хозяйки приюта на моем попечении. Она невероятно добрая женщина, ангел по имени Аида. Согласилась держать псов, пока я не заработаю на дом, вообрази. Теперь я просто обязан заработать. Скорее всего, оформлю кредит. Осталось накопить на первоначальный взнос…
Кстати, с завтрашнего дня по ночам буду работать, здесь недалеко, в круглосуточном кафе. Помощником повара. Приближаюсь к мечте…
— Безумно люблю покупать апельсины. По субботам специально еду за ними на деревенский рынок, за сорок километров от центра. Там торгуют в основном арабы, сирийцы, иранцы. Предварительно созваниваюсь с Огуз-беем, курдом лет пятидесяти. Он выглядит как сказочный персонаж: представляешь, седая борода по пояс, сочно-зеленые глаза под черными кустистыми бровями, постоянно носит потрепанную шелковую чалму, необъятные шаровары цвета сушеного инжира. Для полноты образа Огуз-бею не хватает только сафьяновых туфель с высоко загнутыми носами…
Покупаю у него сладкие апельсины из садов Анталии, мои любимые. Я перепробовал десятки сортов из десятка стран. Все хвалят марокканские апельсины, а для меня лучше анталийских нет. Чуть липкая восковая кожура, вездесущий праздничный аромат, скрученный пупок, слегка горьковатая сочная мякоть без семян. И белые прожилки — такие тонкие-тонкие, прозрачные…
Отца часто выгоняли с работы. Паршивый у него был характер, мелочный и брюзгливый, как погода в ноябре, когда он родился. Приходилось голодать. Мне. Я отдавал свои жалкие порции в обед, который и бывал-то не каждый день, маме с сестрой — обманывал, что хорошо питаюсь на апельсиновой плантации, где подрабатывал с глубокой осени по январь. Занимался уборкой. Расчищал землю под деревьями: некоторая часть плодов, не дожив до созревания, выпадала, начиная разлагаться. Их нужно непременно убирать. По словам апельсинщиков, злость «отбросов» вытекает, отравляя дерево, а значит, и здоровые плоды… Вот так и у людей происходит, правда?
Платили мало, называли «сопляком». Я терпел, деньги нужны были. О еде и не мечтал, зато позволяли есть апельсины, тогда как выносить их за пределы плантации запрещалось. Целыми днями лопал цитрусы, забивая чувство голода. Не надоедало. Месяцами ничем, кроме апельсинов и хлеба, не питался… Хозяева обижали нас, ребятню, дешевую рабочую силу. Грубили, обзывали, периодически награждали подзатыльниками.
Помню, как я плакал, спрятавшись под моей любимицей Портой, самым старым апельсиновым деревом плантации. Оно было очень низким, зато с богатой кроной, плодоносным. Я рыдал, а Порта будто успокаивала меня, шелестя своими листьями, хотя ветра в наших краях практически не бывало. «Малыш, по жизни нам приходится сначала учиться понимать других, а потом только себя… Если ты плачешь, значит, ты еще жив. Плачь, но помни, что каждая слеза непременно окупится улыбкой». Как же мне сейчас не хватает Порты. В последний сезон моей работы ее срубили. Заболела от старости…
Покупая апельсины, я всегда мысленно возвращаюсь в ту горькую, а местами и счастливую пору.
— Я любил засиживаться дома. В нашей ветхой каморке с рамами ржаво-кирпичного цвета, протекающей крышей из чахлой черепицы, холодным бетонным полом под выцветшим желтым линолеумом. Зато с мощной железной дверью, которую, помню, умолял не скрипеть и не гудеть, когда по ночам тайком уходил из дому. На Востоке входная дверь — важнейший элемент быта. Оберегает честь семьи, олицетворяет достоинство ее мужчин, а в их отсутствие бережет женщин дома от непрошеных гостей. Наша дверь была моим врагом. Постоянно выдавала, капризничала, хоть я и сдабривал ее петли маслом, подчищал ржавчину, подкрашивал. Верно говорят персы: во входной двери характер хозяина дома…
Дом был моим спасением. До тех пор, пока отец ездил на заработки в Большой город. В это время я жил свободно, мог по несколько дней не выходить на улицу, если, конечно, в школе были каникулы. Мама с сестрой, разделяя мою тягу к одиночеству, лишний раз не беспокоили. Я часами возился в огороде за домом. Ухаживал за любимым миндальным деревцем, подвязывал баклажановые саженцы к кольям, наблюдал за курами и цыплятами. Отключался от реального мира, от которого мне требовались только декорации. В остальном — у меня были собственные законы…
Дома я мог часами напролет сидеть под навесом порога, наслаждаться игрой дождя. Вот небесные слезы бегут из водостока в старую бочку. Кап. Кап. Плюх!.. Как только дождь прекращался и все вокруг замирало, восхитительно новое, я заглядывал в бочку, пытался разглядеть в водной глади себя настоящего…
Всегда читал. Книгами баловала тетушка Сезен, привозила их из города, куда ездила за тканями. Отец злился, заставая меня с томиком в руках. «Вместо того чтобы делами заняться, он дурью мается. У всех сыновья как сыновья! У меня одного черт знает что. Выродок… За какие грехи мне такое наказание?!» Приходилось прятать книги в медных казанах, которые мама держала на антресолях, вытаскивая раз в год, по случаю окончания поста. С того дня, когда я впервые засиделся с книгой в сладостном забытьи, образовалась вторая черта, которая отличала меня от сверстников, — тяга к чтению…
Помогал маме на кухне. Опять-таки в отсутствие отца. Сын ведь должен быть таким же добытчиком, как отец, а не заниматься женскими делами. А мне нравилось стоять у плиты. Внимательно запоминал секреты маминой кулинарной магии. Знал: скоро другая жизнь, пригодятся…
Когда-нибудь открою маленький ресторанчик, назову в честь мамы. Вот куплю дом, и работать помощником повара уже как-то не пристанет, правда?
— Он просто трахал, а я его любил. Отказывался принимать невозможность наших отношений — не в силу возраста или разницы статусов, а в силу переполняющей меня любви. Легче было мечтать, питать иллюзию бурного романа ничего не значащими для него, но очень много значащими для меня словами. Между ласками он говорил «тебя не хочется отпускать», подолгу блуждая губами по моему телу. На тот момент я обманывался мыслью, что он не желает отпускать меня из-за того, что я ему дорог. Как человек, как половинка…
Одновременно, где-то в глубинах сознания, я знал, что он просто-напросто любил пользоваться мальчиками, дышащими юностью. Питался нами, как изголодавшийся вампир. И оставлять еще не испитый источник свежести ему конечно же не хотелось. Вот и весь смысл его тогдашних слов. А я, одичавший щенок, цеплялся за любую соломинку надежды. Может, это он, мой хозяин, который полюбит всем сердцем и не выгонит на мороз посреди ночи?…
Знаешь, что самое забавное? Долгожданного хозяина я так и не нашел. Я смирился и… переосмыслил любовь. Сейчас осознаю, что на тот момент мне необходимо было любить, чтобы окончательно не зачахнуть в разочарованиях.
Его звали Рамиз. Это был бледнокожий интеллектуал с серыми глазами, легкой щетиной на холеном лице и зачесанными назад набриолиненными темно-русыми кудрями. Не красавец. Так скажу: притягательный. Он приезжал в гости к хозяевам апельсиновой плантации из Парижа, где учился на художника. Отец Рамиза служил при премьер-министре, все еще щедро обеспечивал единственного сынишку, который, несмотря на свои тридцать три, так и не определился с главным занятием жизни.
Очередным увлечением бездельника эстета стала живопись, вот папаша, воспользовавшись связями, и отправил сына на учебу в обитель муз. Домой Рамиз наведывался раз в год, летом. Так и в наши края заглянул за вдохновением, к тому же давно мечтал переложить красоту апельсиновых садов на холст. Мгновенно нашлись отцовские друзья, местные «короли цитрусов», с удовольствием принявшие сынишку нужного человека…
По утрам Рамиз забирался в самые густые заросли, раскладывал мольберт и с палитрой в руках наблюдал «апельсиновое царство», ненароком останавливая взгляд на нас, вкалывающих нищих мальчишках. Первое время я жутко побаивался хозяйского гостя, считал его странным, так как доселе не видел художников вживую. Пряча глаза, я продолжал поливать деревья, сильно смущаясь в присутствии приезжего живописца. Не приведи Аллах, он невзлюбит меня, работы можно лишиться…
Летом из-за жары я работал полуголым, без рубашки. Мое тело, успев сгореть на солнце, приняло бронзовый загар, а физическая нагрузка придала ему рельефности. Я понравился Рамизу. Однажды он подозвал меня, спросил имя, оглянулся вокруг, после чего пригнулся и поцеловал меня в левый сосок. Просто обхватил его влажными губами. Я обомлел от неожиданности. Спустя десять минут в сарае он изучал языком каждый изгиб, шрам, складочку моего возбужденно-трепещущего тела…
В руках Рамиза я поначалу был запуганным волчонком. Со временем раскрепостился, но все равно — до последнего боялся с ним разговаривать. Иногда он рассказывал о Париже, «городе вечной любви». Стоило мне мысленно окунуться в недосягаемый мир роскоши, как Рамиз прерывался и, остановив на мне разочарованный взгляд, сухо приказывал: «Возвращайся к работе». Я был для него всего лишь экзотикой, по которой он соскучился в буржуазной европейской столице. Предметом временного пользования…
Я влюбился в него по уши. Точнее, он влюбил меня в себя. Своей недосягаемостью, изысканностью, дурманящим запахом одеколона с нотками красного базилика и бергамота. А еще тем, что не был груб со мной, как все остальные. Как-то Рамиз сказал мне, а может, просто вслух: «В день, когда заживут все твои раны, можешь считать себя мертвым. Потому что именно раны заставляют нас жить». Эти слова стали настоящим откровением для меня. Помню, как всю ночь размышлял над ними, не сомкнув глаз…
Он уехал в разгар лета. Только не подумай, что он предупредил меня об отъезде. Слишком много чести для обычной прислуги. Я сам это понял на одиннадцатый день его отсутствия. Долго плакал и благодарил про себя Рамиза. За что? Он научил меня любить. Мужчину…
— По мере взросления моя мужская физиология бунтовала — будто назло женскому началу. В итоге, конечно, я с ней смирился, даже гордиться стал. Но первое время сильно переживал, наблюдая схватку внешнего с внутренним и явное поражение последнего.
Я знал, что рано или поздно детское личико огрубеет, обрастет щетиной, а тело утратит юношескую сочность, обретет другую, более крепкую форму. Однако внешнее взросление у меня произошло резко. Проснулся однажды утром и увидел в зеркале другого себя. Испугался. «На меня же больше никто не посмотрит». Первая мысль. И это притом, что от излишнего внимания я чаще страдал, принимая удары.
Второй шок нагрянул, когда ощупал пальцами анус, обнаружив поросль между «полушарий». Помню, в аффекте схватил отцовскую бритву, намылился и, повернувшись задом к зеркалу, попытался избавиться от ненавистной растительности. В результате неудачной «эпиляции» изрезал себе филейную часть, потом от боли долго не мог сидеть. Хорошо еще догадался спиртом промыть, хоть инфекции избежал…
Моя битва с волосатостью продолжалась несколько месяцев. Приходилось брить не только лицо, но и грудь, низ живота. Руки с ногами трогать боялся, домашние могли заметить. От раздражения все постоянно чесалось, волоски снова пробивались уже на третьи сутки. Кульминацией моей борьбы с мужественностью стало то, что в порыве перфекционизма я умудрился сбрить волоски на переносице. Сросшиеся брови смотрелись неэстетично, но с выбритой «посеревшей» переносицей они стали выглядеть еще ужаснее. От страха засветиться я две недели проходил в шапке, надвинутой на нос. Имитировал головную боль. Благо была лютая зима…
Со временем издевательства над собой прекратил. Против природы не попрешь. Стоило мне это осознать, как все показалось не таким уж страшным. Волосатость не такой уж буйной, мутация голоса не такой уж грубой, увеличивающиеся стопы не такими уж большими. Не было всплеска разочарования — наоборот, что-то изменилось у меня внутри. Надо уметь принимать себя настоящего и отпускать того себя, кем тебе никогда не стать.
Сейчас я доволен своей внешностью. Веришь, я уже не помню, когда ходил в последний раз к косметологу, на эпиляцию или в солярий. Хотя пару лет назад такого себе не позволил бы. Но вот остыл как-то. В тридцать смотришь на свое отражение в зеркале иначе, чем в те же двадцать пять. Убеждаешься, что все наружное — отражение внутреннего. Серьезнее начинаешь относиться к сердечной области, все остальное считая периферией. Настоящие перемены происходят внутри…
— Иногда ночами меня душит такое внутреннее волнение, что я выбегаю на пустынную улицу и быстрым шагом иду туда, где надеюсь обрести спокойствие. Хотя бы на одну ночь. Хватаю куртку, сую ноги в старые кроссовки с салатовыми шнурками, забегаю в лифт, умоляя его побыстрее выплюнуть меня в свободу. На волю! Под звездный купол, где легче дышать, подальше от бетонных стен замкнутых пространств. На воздух, нужен воздух! Прохладный, безграничный, наполненный морской свежестью…
Я стою у подъезда, жадно вдыхаю, как рыба на берегу, а потом, набросив капюшон на половину лица, выдвигаюсь в ночь. Иду мимо редких прохожих, они и не замечают меня. Странно! Я так громко кричу, я уже осип, а они не слышат. Кричу о своей боли, выражаю ее каждым жестом, не надеясь быть понятым.
Признаться, я совсем не такой сильный, как кажусь. Могу и поплакать, посмеяться над собой и снова поплакать. Пролитое молоко не вернуть. Все ушло, детка, а завтра — the first day of new life. Der erste tag meines neuen lebens. Немецкий мне больше нравится — своей категоричностью…
Интересно, что мне мешает быть искренним с людьми? Не знаю. То ли я заигрался в успех. То ли боль слишком укоренилась, стала повседневной. Вот подумай, зачем рассказывать о том, как тебе хреново, если тебе хреново всегда?! Ну поделился, ну поплакал, все равно на следующий день вычищенное высказанностью внутреннее пространство заново заполнится тревогами, неуверенностью и всем тем, что перегружает дыхательные пути. Поэтому свое дерьмо я предпочитаю носить в себе, не сотрясать воздух обличающим пафосом. Тем более сейчас, когда модно быть позитивным…
Поход в никуда по ночному городу сейчас самое лучшее обезболивающее. Безвредное для окружающих, полезное для меня. Люди все надежды возлагают на время — самого маститого лекаря. Я тоже хочу стать его пациентом. Ничто так не забирает прошлое, как будущее, ничто так не прогоняет тьму, как свет… Вот бы хоть иногда сильнейший не тупо и инстинктивно побеждал, а складывал оружие. Например, из уважения к сопернику. Такое возможно, а?
— Он был первым и последним мужчиной, которого брал я. Салих настолько сильно возбуждал меня, что с ним готов был быть кем и как угодно. До сих пор не встречал такой мужественной внешности. Волосатый брюнет с телом античного бога, жгучим взглядом, безумно красивыми руками в выпуклых венах, крепкой попой, тягучим голосом с хрипотцой.
Он даже не занимался спортом, не ухаживал за собой, не создавал никакой лживой видимости. Ему от природы было суждено стать мачо, однако все получилось в точности наоборот. На самом деле под этой брутальной внешностью таилось нутро бесповоротно пассивного гея, мечтающего быть отодранным в сортире сразу несколькими мужиками. Я смотрел на Салиха, подкладывающего мне свой зад, с трудом сдерживая смех. Забавляли даже не его похотливые речи, а явный диссонанс внешности и сути.
Ну не встречал я еще пассивного гея, который не выдавал бы себя ни внешностью, ни повадками. Салих был воплощением идеального восточного мужика: ненасытного самца, отважного завоевателя, гордости всей семьи. Он настолько умело прятал свою подчиненную сущность, что ни один человек на земле не сказал бы, что этот бравый джигит со мной превращался в мокрую сучку, обожающую имитировать грубое изнасилование.
Я просил Салиха стать активом. У него не получалось — обмякал моментально. Представляешь, он воспринимал меня властным мужиком! Честно скажу, я не особо расстраивался, хоть и секс с Салихом давался мне с трудом. Все-таки я от волос до кончиков ногтей был пассивом, «переквалифицироваться» соглашался только от большой тяги к Салиху. Сама возможность ласкать такое мужественное тело являлась высшим удовольствием…
Все уважали Салиха. Как же иначе?! Первый внук старейшины деревни Ферита, самый успевающий ученик местной школы, отменный наездник, почитатель религиозных обрядов. Отец Салиха дружил с моим отцом с детства, они вместе учились в школе, даже женились в один день. Так что семья Салиха часто захаживала к нам. Приходили с гостинцами — бараньей вырезкой, домашними заготовками или молочным продуктами. Знали: мы нуждаемся, и таким, не ущемляющим ничью честь образом оказывали помощь.
Отец радовался, что Салих общается со мной. «Вот он сделает из тебя мужика. Ты посмотри, какой он крепкий, волевой, мудрый не по возрасту». Я отмалчивался и ухмылялся. Слышал ты бы, как этот «крепыш» кряхтит, когда твой сыночек надирает ему зад. Словно курица, которую топчет петух…
А вообще, Салих не был геем. Скорее, мужчиной с изуродованной психикой. В семь лет его изнасиловал четырнадцатилетний двоюродный брат Муса, в лесу, во время прогулки. Угрожая всякой чушью, он так и продолжал насиловать Салиха, а тот со временем начал получать удовольствие от унижений. «Поначалу было страшно, я отцу очень хотел рассказать, но не решился. Муса был любимчиком нашего рода. Мне бы не поверили… Потом привык, как будто так и должно быть. Если бы еще хоть каплю нежности, и все было бы хорошо…»
Я слышал, он женился. Уехал жить в Висбаден, там успешно занимается автомобильным бизнесом. Недавно на одном бизнес-сайте видел его фотографию. Он все так же красив. Правда, глаза стали печальнее…
— У нас даже молчание было одно на двоих. Прислонившись спиной к спине в одном коконе, мы предпочитали помолчать тому, чтобы о чем-то поговорить. Трудно представить, сколько интересного содержалось в этом немом общении — песни зеленых океанов, шепот пересоленных губ, прикосновение чужих трагедий, мерное шипение заката, тающего на раскаленной сковороде уходящего дня. Одним словом, не соскучишься…
Будь по-нашему, мы вообще не покидали бы стены своего мира, где раздавали улыбки безвозмездно, писали наискось строчки молитвы за счастье бездомных собак и возводили дома дружбы, в которых никогда не жили бы сами. Мы не хотели изменить реальный мир. Мы только хотели дополнить его красоту…
Каждый раз, выходя из нашего пространства, я забирал все-все мысли о ней, чтобы Аллах не понял, как я, до безумия, дорожу Назирой. Он ведь любитель отнимать самое сокровенное. И ее отнял в итоге…
Моя сестричка, самая чистая частичка моей души. В ней было то, чего, казалось, совсем не осталось в людях. Бескрайняя душевность. Она понимала, слушала, помогала, поддерживала, отдавала — все без какой-либо корысти. По временам возмущался ее добротой. «Наз, так нельзя! Ты отдаешь последнее… Многие из них не достойны этого». Она выдерживала паузу, а после поднимала на меня свои каштановые глаза, отвечала: «Я не могу по-другому… Веру в человеческих сердцах должны будить не только чудеса, но и сами люди». Мне нечего было возразить. Я просто обнимал сестру крепко-крепко, целовал ее густые локоны и понимал, что она научила меня счастью. Точнее, быть счастливым здесь и сейчас…
Есть люди, которых не хочется отпускать. Ну не желаешь ими делиться. Вдруг, вернувшись, они станут чужими и наступит разочарование? Вдруг разорвется та нить, что связывает две жизни в один узелок, и вместо нее останется жалкая паутинка из воспоминаний? Обнимая по-настоящему близких людей, больше всего страшишься наступления минуты, когда руки разомкнутся, двери захлопнутся, замки сменятся. Причем мы сделаем это сами. Мы с трудом складываем из маленького большое, зато с легкостью превращаем большое в крошечное, а зачастую и ни во что…
Я боялся отпустить от себя Назиру, боясь потерять самого себя. Она держала меня на поверхности, не позволяя опуститься на дно. Жизни, а может, совести… Назира ничего не знала, но все понимала о своем брате. Как-то по-своему, с детской наивностью. Не задавала вопросов, не сравнивала ни с кем, не пыталась посмотреть в глаза, если я их прятал. Всегда повторяла: «Если ты не любишь, ты ни в коем случае не должен говорить «я люблю тебя». Но если любишь, то должен говорить это постоянно». Маленькая мудрая фея…
Она оставила меня где-то на полпути. В семнадцать лет отец отдал Назиру замуж за какого-то торговца в Арабских Эмиратах. Семнадцать лет — не тот возраст, когда можно возражать родителям, да она бы и не стала… Сестру я больше не видел. Родители не брали меня с собой, когда ездили навещать ее. Боялись, что моя репутация повредит ее новой жизни, видимо. После того как уехал из деревни, я сам пытался искать ее — тщетно. Только пять лет назад узнал, что Назира умерла. Во время родов. Ее малышка осталась жива. И все это время отец с матерью продолжали навещать внучку и могилу дочери… Сейчас сестра живет в моей памяти и на старой любительской фотографии с заломами. На ней мы кормим дворнягу Бурсу сладкой лепешкой — все трое счастливы, два нечетких силуэта с ранцами и хвостатая бестия между ними…
Любишь жизнь и одновременно понимаешь, что найти свое истинное место в ней — самая сложная задача бытия. «Место в жизни» — это не любовь или карьера. Это нечто большее, внутреннее, очень свое. Это когда смотришь на небо и понимаешь, что под одним из облаков твое место, пусть маленькое, но твое…
— В детстве, когда меня спрашивали о моей семье, я с удрученной миной заявлял, что являюсь потомком французских аристократов и родился на rue Madame, в центре Парижа, близ Люксембургского сада. А свое нахождение на Востоке объяснял так: в годовалом возрасте был украден у состоятельных родителей во время их путешествия в Турцию и впоследствии продан моим нынешним отцу и матери, страдающим от бездетности. Целая «мыльная опера», которую я рассказывал с трагической убедительностью, чем повергал в замешательство даже самых скептичных слушателей.
Отец, услышав, как я в очередной раз завожу душещипательную песню, отвешивал мне щедрый подзатыльник, запирал в сыром подвале на ночь. Помню, как, сидя на старом сундуке, ставшим родильней для толстозадых крыс, я абсолютно искренне оплакивал свое утраченное буржуазное прошлое. Плакал, и даже в визге снующих по чулану грызунов мне чудились звуки Non, je ne regrette rein, а в тяжелых подземных испарениях — теплый запах солнечных мансард Монмартра.
Всем масштабом собственного воображения я верил в свою французскую историю. Мне представлялось, что я — в ссылке, в разлуке со своими, но когда-нибудь вернусь в тот мир. Эта иллюзия спасала, давала силы бороться дальше. Но самым интересным было то, что реальный Париж никогда не был моей целью. Мой Париж — это счастье быть самим собой.
Свобода. Стремление, которое организует всю жизнь. Когда целуешься в воскресной гуще гранд-маркета и плюешь на окружающих, с оскорбленным видом маневрирующих вокруг вас с переполненными тележками. Когда утром выбегаешь из дому в старых кедах, взлохмаченный и щетинистый, после ночного трепа с подругой, и не учитываешь тот факт, что вообще-то направляешься на собеседование в серьезное место. Когда веришь в себя, проживаешь в одном дне целую жизнь… Конечно, тогда, в юности, мои видения freedome не были такими конкретными, но я точно чувствовал, что мне нужно, в чем нуждаюсь…
До сих пор я не смирился с тем, что человеческая свобода настолько зависит от общественного мнения. С малых лет воюю за индивидуальность под девизом: «Будь сложнее, и от тебя отстанут те, кто проще». Сегодня трудно сказать, чего я добился в этом направлении. По-моему, в тридцать еще рано подводить какие-то итоги, работа кипит.
Но иногда, задумаясь о том, как трудно изменить себя самого, я осознаю, насколько ничтожны мои попытки изменить других. Точнее, изменить их отношение к тому, что существует в мире необычного, нетрадиционного. А может быть, чудесного…
Часто чувствую себя опустошенным. Накатывает усталость. В такие дни замыкаюсь в себе, маскирую бессилие сарказмом, вспоминаю Эдит Пиаф: «Американцы думают, что я для них слишком печальна, а на самом деле они для меня слишком глупы». «Американцы» — это ведь любая толпа. Надеюсь, они нас не одолеют…
Какая моя главная нынешняя цель? Жить по-настоящему, проживая сполна каждую секунду. Осознавать, погружаться в любое занятие и безделье, с головой и сердцем.
— Отец привел ее посреди ночи. Сестра уже сладко сопела, а я с закрытыми глазами снова и снова прокручивал в голове события уходящего дня в тщетных попытках уснуть. Мы с Назирой спали в большой комнате, через которую нужно было пройти, чтобы попасть на кухню или в спальню родителей. Я слышал, что и мама не спала. Возилась на кухне, тихо молилась, заваривала какие-то травы, дожидаясь отца. Я чувствовал: что-то необычное сегодня происходит, допытывался у мамы. Отмалчивалась. «Все хорошо, сынок. Доделывай уроки и спать». Не стал перечить. Притворился спящим. Отец что-то шумно обсуждал с матерью, потом быстро оделся и буквально выбежал из дому…
Когда они переступили порог, я на радостях хотел выскочить из кровати. Вовремя остановился, увидев окровавленное лицо Мариам. Двадцатидвухлетней дочери тети, папиной родной сестры. Самой красивой девушки нашего рода. От природы ей достались длинные вьющиеся волосы цвета мускатного ореха, тонкая бледная кожа, лебединая шея и россыпь веснушек на очаровательно-добром лице.
Мариам была особенной. Близкой мне по духу. Чем? Внутренним протестом. Правда, очень слабым, хрупким, легко подавляемым. Никогда открыто она не перечила, но, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Наблюдая за этой молчаливой девушкой, я понимал, что ее ждет судьба рядовой восточной женщины, не имеющей права даже на себя. Совсем скоро Мариам выдадут замуж, за того, кого выберут родители. И не хватит ей смелости сказать «нет». Легче подчиниться…
Она красиво рисовала. Помню, как тетя показывала нам работы Мариам, представляя их как что-то глупое, несерьезное. На всех рисунках, сделанных обычным карандашом, были изображены девушки с вьющимися волосами, бегущие против ветра. «Видишь, моя девочка куда-то спешит. Видимо, к своему счастью. Ничего, чуть-чуть осталось. Как кончится мухаррам[60], выдадим нашу красавицу замуж за сына господина Кемаля, что торгует коврами. Красив, богат, не лентяй. Уж как моей доченьке повезло…» Тетушка обожала подробно рассказывать о богатствах семьи будущего тестя. Мне становилось страшно. Я хорошо помню сына Кемаля — Кадыра. Радикальный исламист, перебивший всех собак нашей деревни, потому что считал их «грязными созданиями»…
…Мать выбежала навстречу и, схватив Мариам под руки, помогла отцу донести ее до спальни. Когда они проходили мимо, я, взглянув из-под одеяла на двоюродную сестру, ужаснулся. Запрокинутая голова, разбитые губы, опухшие глаза в сине-зеленых кругах, ссадина на левой стороне лба, окровавленные руки. В лихорадке она что-то шептала. Я смог различить два слова — «дочка» и «ветер»…
Мариам пробыла у нас семь дней. Мать всячески ухаживала за изувеченной родственницей. Поила бульоном, обрабатывала раны мазью из чабреца, настойкой из фейхоа промывала глаза, в солнечную погоду выносила больную подышать на воздух. Я пытался заговорить с Мариам. Она смотрела на меня пустым взглядом и ничего не говорила, кроме тех двух слов…
Спустя месяц после того, как Мариам забрала свекровь, я узнал причину такого состояния двоюродной сестры. Все оказалось просто и уродливо. Мелек родила дочь, а не сына. «Любящий» муж, остервеневший в ожидании продолжателя рода, избил до крови еще не оправившуюся после родов жену, чуть не задушил ребенка. Хорошо свекровь вмешалась, спасла дитя, послала за моим отцом, попросила подержать у себя племянницу, пока «наш эмоциональный зять» не успокоится. Господин Кемаль угомонил сына угрозой лишить наследства. Спустя неделю Кадыр пришел за Мариам, на глазах у моих родителей попросил прощения и, не дожидаясь ответа, взял за руку жену, уехал восвояси…
А Мариам так и не заговорила. Спустя два года родила сына, которого воспитывать пришлось тетке. Сестра безмолвно отказалась выполнять материнские обязанности, вместо этого целыми днями расчесывала вьющие волосы, с отчужденным видом, да напевала одну мелодию. Знаменитой восточной песни о южном ветре…
— Он смотрит на меня, и в его глазах отражается бесконечная жалость. В правой руке сжимаю бутылку с тархуновым лимонадом, которую хочу разбить о его довольное, упитанное лицо. Чтобы уничтожить осколками этот сострадающий взгляд. Чтобы испортить красивые черты, цветущую кожу, пушистые ресницы и привлекательный вздернутый нос. Эй, как ты смеешь жалеть меня?! Я живу своей жизнью. Выбрал ее сам! Не тебе судить, правильная она или нет…
Где-то внутри, на кончике обиды, желаю, чтобы умерли его якобы любимая жена и две дочери. Пусть они уйдут навсегда, а он — останется один. И обязательно найдется тот, кто посмотрит на него таким же жалостливым взглядом, каким он унижает меня.
Когда-то я любил, ждал тебя, шел за тобой, не замечая того, что моя любовь опережает разум. Сейчас мне безразлично твое существование. Странное это безразличие, состоящее из остатков сумасшедшей любви и примеси лютой ненависти. Зачем ты рвешь на куски мое сердце? И совершаешь это с такой сладостной миной проповедника, что я не могу понять: ты мне друг или враг?…
«Перестань быть посмешищем. Неужели не понятно, что люди тебя никогда не примут? Решил обречь себя на вечные страдания? Конечно, окончательный выбор за тобой… Ты должен быть нормальным. Слышишь, нор-маль-ным! Против масс не попрешь. Лучше потрать эти силы на развитие своих преимуществ, вместо того чтобы тратить их на выпячивание недостатков». Он продолжает говорить, я уже ничего не слышу. Разбиваю бутылку с лимонадом о камень, ухожу. Зеленая шипучая жидкость растекается по сухой летней земле, несколько секунд течет вслед за мной, но на полпути впитывается в почву…
…Отчетливо помню тот день. Вплоть до самой подсознательной мысли. Поэтому и описал его в таких подробностях. Знаешь, что самое печальное во всем этом? До сих пор беспокоят слова Саида, моего троюродного брата. С возрастом они все громче отзываются в моем сознании, особенно когда вижу в парках родителей, играющих с детьми. Грусть, рожденная мыслью «в моей жизни такого не будет». Если раньше я мечтал о ребенке, то теперь отказался от этой мечты. Калечить малыша своей неполноценностью? Представляешь, родительский инстинкт проявляется во мне тоской по материнству…
Каждый месяц езжу в детский приют, куда правительство определило детей иракских беженцев, осиротевших уже на нашей земле. Заказываю в каком-нибудь ресторане сытный мясной обед, прямо в горячем виде везу воспитанникам. Устраиваем коллективную трапезу. Я смотрю на этих одиноких малышей, и меня охватывает вселенская обида на того, кто определяет наши судьбы. Обида, описать которую можно несколькими словами. «Я ведь мог бы стать хорошей матерью». Увы… Буду продолжать ездить в детский дом, общаться с тамошней ребятней, зализывать свою вечную рану…
В какой-то мере я даже восхищаюсь Саидом. Он заглушил в себе зов природы. Ведь я неспроста с детства любил его, еще одного изнеженного, умного мальчишку нашего рода. В нем было то же, родное мне, начало, но он сумел подавить его. Книжками, учебой, поступлением в американский университет, женитьбой, двумя детьми… Не знаю, какое решение правильное. Знаю только, что все подавляемое рано или поздно прорывается. А может, это говорит моя злость или зависть.
— Они научили меня относиться к грусти как к главному вдохновителю жизни, заставляющему двигаться дальше. Они запрещали плакать по утраченному: «о нем достаточно помнить в сердце». Они призывали не закрывать за собою двери жизни, оставлять включенным свет в коридорах прошлого: «чтобы тот, кто незаметно шел за тобой, смог протянуть руку с надеждой». Они не скрывали разочарования в любви, утверждая, что «у человека одна суть — одиночество, но даже в нем расцветает счастье, например, от поцелуя любимых детей»…
Я учился жизни у них — самых обычных женщин Востока. Многие из них даже не ходили в школу, не знают таблицу умножения, не разбираются в науках, а про да Винчи, например, уточнят: «Это, что ли, магазин одежды?» Но в них есть то, чего не почерпнешь из книг и не услышишь в переполненных аудиториях университетов. Жизненная мудрость. Редкий дар, ничем его не заменишь…
Вот послушаешь меня, и кажется, будто восточные женщины специально усаживали меня перед собой, давали уроки по житейской мудрости. Конечно же нет! Я усваивал то, что им казалось вполне заурядным, наблюдая, прислушиваясь, запоминая. Высказывания, взгляды на ту или иную ситуацию, движения рук, мимика, даже раскуривание сигареты тайком от мужчин. Я становился частью их, сам того не замечая.
И они считали меня частью своей «коалиции». Хотя что потерял представитель мужского пола в чисто женском обществе? Они называли меня своим, особо не противились тому, что я среди них. Лишь иногда бабушки иронично удивлялись: «Сынок, твои сверстники на охоту поехали, а ты с нами сидишь, тесто нарезаешь. Смотри, пиписька убежит…»
А мои молоденькие тети, подсушивая кизил на чугунной сковороде, становились на мою защиту, подмигивая весело, мол, принеси-ка папиросок из отцовских запасов. «Бабуль, да отстань от малыша! Если бы не он, мы бы без помощи остались. Кто воды из колодца натаскает? Кто казаны из чулана поднимет? Кто хну просеет? Наш спаситель…»
Женщины доверяли мне. В моем присутствии велись и интимные разговоры. Обсуждали методы того, как не залететь — кусочек мыла в вагину, и никакой беременности. Пытались определить признаки оргазма, о котором многих из них слышали, но никогда не ощущали. Ругали мужей, «нахватавшихся всякой пошлости». «Представляете, девочки, — краснея и понижая тон, говорила тетушка Неджла, — мой Азим всю ночь умолял ртом его поласкать… Как же это?! Совсем стыда лишился». — «А вот Абдулла уже год ко мне не притрагивается. По вечерам заявляется сытый, довольный, сразу дрыхнуть идет. Неужто к вдове с Нижней улицы бегает? Надо нам собраться, сделать этой стерве внушение». Женщины одобрительно гудят. «Ой, девочки, а меня вообще от этого тошнит. Ну не могу я, а он требует! Насильно берет… Брезгую. Потный, жирный. Как отец отдал меня за такого? Но и дороги назад нет: куда я пойду с четырьмя детьми?!»
С ними я обретал свободу. Становился тем, кем являюсь внутри. Одной из них. Восточной женщиной, правда, в мужском обличии. До сих пор больше доверяю женщинам — лучшим творениям Аллаха… Многие думают, что геи ненавидят женщин. Это заблуждение. Только самый не уверенный в себе гомосексуалист видит в женщине врага. А вот соперницу, между прочим, вполне возможно…
— Как-то все резко оборвалось между ними. Те нити взаимного уважения, которые связывали отца с матерью, неожиданно разорвались с громким треском. В один миг. Бах — и все! Этому, кажется, не предшествовали ни споры, ни скандалы. Трагедия с Назирой, конечно, отразилась на нашей семье, но, как я уже говорил, мне о ней было ничего не известно — оставалось догадываться о причинах раздора.
Отец начал побивать маму. Все чаще, больше. Безжалостно, с особой жестокостью, будто в нем давно копилась черная желчь, и вот она стала выплескиваться наружу. Чуть не каждую ночь, вернувшись домой, он заходил в спальню, запирал дверь на ключ, будил мать, бил ее. Никаких криков не было, ни стонов, ни призывов на помощь. Она терпела, не издавая ни звука. И отец не ругался, не кричал, не обзывался. Просто бил. Я слышал только треск, глухие удары. Через некоторое время звуки из спальни стихали. На цыпочках подкрадывался к двери, прислушивался. Сквозь отцовский храп различал редкие всхлипы. Женский плач…
Мне тогда было пятнадцать. Я не понимал, что происходит между родителями, кроме того, что происходит страшное, непоправимое. В одно утро я решился поговорить с отцом. Стиснув за спиной дрожащие руки, твердым как мог голосом сказал ему: «Если ты еще раз прикоснешься к маме, я убью тебя». Он рассмеялся, взял за меня за шиворот, отбросил в сторону. «Гаденыш! Ты еще смеешь рот открывать?! Убить тебя мало».
Выбора не было. Впрочем, осознавал я тогда мало, просто накрыло горячей волной ярости. Я со злыми слезами набросился на отца, как зверь, изо всех начал лупить кулаками по его мощной груди. «Ты мне никто, слышишь, никто!!! Хватит нас мучить!.. Будь ты проклят!» Он стоял без движения, широко расставив богатырские ноги, да сверля меня ледяным взглядом. Как будто он давно для себя все решил, обрубил все концы. Пиала с черными оливками опрокинулась, и они медленно, одна за одной, скатывались с темно-зеленого стола под старый диван с битыми кусками кирпича вместо ножек…
На крики прибежала мама. Заклиная всем святым, оттащила меня. «Сынок, прекрати! Это же твой отец… Успокойся!» С силой обняла меня, отлепила от отца, медленно увела на кухню. Он посмотрел на нас с разочарованием, процедив напоследок: «Лучше бы ты умер, чем…» Голос у него чуть дрогнул, и в этот же момент он судорожно сорвал куртку со спинки стула. Вышел шумно, громыхая сапогами.
Мама еще долго меня успокаивала, а я ее уговаривал сбежать вместе. «Сынок, я не могу. Ты еще многого не понимаешь. У каждого своя ноша. Знаешь, в других семьях еще больше горя. Вот только вчера на горной дороге разбились единственный сын Амины из второго дома и трое ее внуков — бедная женщина поседела вмиг… Благополучие для каждого свое, Аллах свидетель. Я ведь люблю твоего отца, несмотря ни на что. И выходила замуж за него по любви, а всех моих подруг выдали насильно. Знаешь, не быть любимым — это совсем не трагедия, а вот не уметь любить — хуже этого ничего быть не может…
Уходить поздно. Столько пережито, упущено… Теперь я живу ради тебя. Я готова платить своим горем за твое счастье. Обещай, что никогда не сдашься. Ради меня… Найди себе дело по душе и не бросай его никогда. Потом и люди оценят, будешь нужный человек. Тебе сейчас трудно, возраст такой… Только ты не ищи смысла жизни, сынок. Нет в ней смысла, пока сам ее не наполнишь».
Мама говорила, как будто боясь остановиться, крутилась на узкой кухне, подогревала для меня молоко, нарезала пирог из зеленых лимонов. А я, зареванный и разочарованный, слушал вполуха и не догадывался, что эти слова станут ее последним наставлением…
— Ты смотрел «Поговори с ней» Альмодовара? Главный герой этого фильма, медбрат Бениньо, настолько схож со мной, что каждый раз у меня дыхание замирает. Правда, не во всем похож. Бениньо не так сильно придавлен жизнью, тогда как мне с детства приходилось выживать, изворачиваться.
Но в том, что касается внутреннего, у нас с ним абсолютная идентичность. Я не говорю о гомосексуализме. Это что-то большее, словами трудно передать. Что-то на уровне ощущений. Например, когда стоишь под осенним дождем и вытираешь лицо шершавым рукавом куртки, не понимая — слезы ли текут по щекам, или капли небесной воды?…
Когда-то я тоже хотел устроиться на работу в больницу. Помогать страдающим, быть рядом с ними, чтобы их чувство одиночества, усугубляющееся в больнице, не казалось таким безысходным. Не взяли, так как нет медицинского образования. Как будто больным людям от того, кто помогает, нужен диплом! Я отлично делаю уколы, всех друзей, соседей колю.
С детства сам себя лечил. Если заболевал, то лишь в крайних случаях давал знать матери. Будто у нее хлопот было мало… Я-то мог справиться и сам. Простуда, грипп, желудочные спазмы, раны, боли в спине — все недомогания устранял. Отравился, например, — заваривал шафран с ромашкой. Если подхватывал грипп, растирался апельсиновым уксусом, в нос закапывал чесночное масло, перед сном согревался чаем из смородиновых листьев. После работы на плантации часто затекала поясница — спасали компрессы из размятого красного перца…
Я привык выкарабкиваться из мрака сам, собственными силами. Прибудет помощь — так Аллах всемогущ. Но надеяться — не в моих правилах… Для меня зависеть — страшное наказание. Поэтому всегда интересовался способами лечения болячек, чтобы спасти себя хотя бы при физических недомоганиях.
Вот говорю и думаю, сколько же во мне боли накопилось. Словно сквозь стекло воспоминаний смотрю: пыльное, тусклое такое… Со стороны это все может казаться исповедью невротика, фальшью, эффектной позой, тогда как подлинное страдание безмолвно. Как знать… Оглянешься назад: без каких-то переживаний можно было обойтись, а ведь были времена, когда от страха слова засыхали на моем языке, в голове кувалдой стучала кровь, в животе сворачивался клубок прохладных змей, а ноги в испуге врастали в землю. Но ведь каждая история имеет право быть рассказанной. И моя в том числе…
— Самое ужасное в жизни — это когда не за кого держаться. Протягиваешь руки, а там — пустота.
— На задворках юности осознал, что могу быть свободен только в большом городе, где вереница дней несется со скоростью света, а люди, жертвы почти нечеловеческого ритма, заглядывают внутрь себя лишь на минутку, затягиваясь последней сигаретой уходящего дня. Там, в окружении равнодушных высоток и сухих формальностей, я и мечтал затеряться. Обложиться круглосуточным потоком толпы, сверху прикрыться клочком неба цвета маренго и жить другой жизнью — без страха, когда не ждешь грязной насмешки и не отсиживаешься дома в выходные, опасаясь сверстников.
Мечтал тогда о маленькой квартирке где-нибудь на двадцать третьем этаже, к облакам ближе. Именно о квартире, а не доме. Квартира — твое личное закрытое пространство, куда трудно заглянуть, войти и невозможно перелезть. В квартире находишься изолированно от людей и одновременно рядом с ними. Стоит открыть дверь, и ты уже не один. Стоит ее закрыть, задвинуть шторы, выключить телевизор, как ты снова наедине с собой…
Скрываясь от жестокости в той самой пещере Исы на окраине деревни, я рисовал в мечтах свою квартирку в многоэтажном доме, одном из таких, какие видел в газетах. Представлял дни будущей жизни. Как просыпаюсь утром не в страхе перед грядущим днем, а в объятиях солнечных лучей, падающих из незашторенного окна. На двадцать третьем этаже, ночью, окно можно и не закрывать, так ведь? Или как неторопливо выхожу из дома, уверенный в себе, полный сил, с желанием не бежать от жизни, а, наоборот, идти ей навстречу.
Тогда думал, что до такого одухотворяющего бытия рукой подать. На деле все оказалось не так легко, быстро. Но я ни о чем не жалею — игра стоила свеч. Свободно дышать — важнее всего, но самое ценное мы зачастую не ценим. Я и сейчас продолжаю бороться с какими-то страхами, хотя получил желаемую свободу. Она моя самая большая подмога…
— В один день я решил уехать. Побросал в рюкзак немного вещей, запихнул в носки деньги, которые заработал за последний год, взял немного еды и сел в автобус до Большого города. Помню, как в день отъезда проснулся утром и сказал себе: «Теперь все будет иначе. Я стану счастливым». Вроде у меня получилось, точнее, получается…
— Давно я забросил эту идею с кассетами, а сегодня решил сделать еще одну запись. Это был новый день, день истинного счастья. Улыбка солнца сквозь сытый туман, сонные коты у подножий непогашенных фонарей, распахнутые двери «Старбакса», нечастые, но уже спешащие машины под навесом густых белых облаков… Я нес в кармане синего плаща с меховым воротником яблоко и улыбался никому и всем.
Утренняя давка в метро приятно напомнила праздничное столпотворение. Я пританцовываю на эскалаторе под “Big big world” Эмилии, прокашливаюсь на выходе из вестибюля, достаю первую сигарету первого утра весны. Я иду быстрым шагом к кондитерской Айлы, у которой работаю вторую неделю. Вдыхаю свежий ветерок с набережной, осматриваю место своей новой жизни и не верю, что дожил до этого дня. Я как ребенок, получивший то, о чем давно мечтал… Выкарабкался!
Оглядываюсь назад, в начало моей истории. Не верится: неужели все это было связано со мной? Человек способен к перерождению — я слышал об этом раньше, но не верил, пока не испытал на себе. «Наконец-то добрался до счастья…» — с такой мыслью я открыл стеклянную дверь кондитерской в тот день, встревожив входной колокольчик. Госпожа Айла раскладывала в витрине свежие пирожные, торты, фруктовые корзиночки…
Сейчас, прожив уже который год в Большом городе, я счастлив, прежде всего потому, что остался в живых. Подразумеваю не только физическое состояние, но и душевное здоровье. Да, я сохранил душу чувствительной. Больше всего боялся стать бесчеловечным в циничном мегаполисе…
Я все еще готов отдать все, что имею, за счастье всех бездомных собак на свете. Я по-прежнему навещаю детский дом раз в неделю, устраиваю ребятам праздничные обеды. На досуге придумываю, рассказываю вслух, сам себе, сказки, подобные тем, которыми в детстве мы с Назирой развлекали друг друга…
Кажется, стержень моей личности остался тем же, хотя с возрастом все сложнее противостоять вирусу повседневного цинизма. Поэтому, если ловлю себя на ином поведении, узнаю в себе эгоцентричную манеру жителя Большого города, я вспоминаю детство, юность, когда боролся за будущее, за простую возможность увидеть следующей день. Поверь, лучше ничто не отрезвляет.
Иногда сам собой недоволен до крайности: сколько можно изводить себя мысленными возвращениями в то время? Хочется, как в «Вечном сиянии чистого разума», взять да стереть года искалеченных надежд. Но все равно, вопреки всем внутренним конфликтам, я признаю прошлое и невозможность изменить его. Зато я могу изменить отношение к нему. Надеюсь, это вопрос времени — моего настоящего времени, моей настоящей свободы…
Вовсе не все люди в состоянии построить сами свою судьбу так, как им хочется. Это было бы слишком просто, если бы все нажимали кнопку: «Хочу интересную и приятную судьбу» и получали бы ее, сахарным сиропом политую. Не у всех одинаковые стартовые данные, ни у всех были хорошие семьи, не все верят в себя, идут напролом. Если одним победа дается, хоть и с трудом, то других она просто обходит стороной. Просто у всех разная судьба. Но в любом случае каждый должен до последнего быть на плаву. Ради себя, прежде всего! Все зависит от отношения к ситуации: кто-то скажет, что ему вообще не везет, все рушится и поставит на себе крест, а другой поймет, что, значит, не туда идет, что есть другие дороги и надо наслаждаться тем, что есть, пробовать, не бояться, да, поныть иногда, но утром проснуться и шагать дальше.