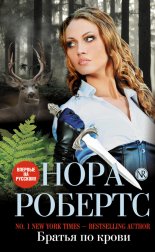Пять капель смерти Чиж Антон

– Что-что? Изъясняйтесь яснее.
Ванзаров пояснил наглядно. И получил еще одну презрительную усмешку:
– Уж не думаете ли вы, что мы раздевались друг перед другом? За кого вы меня принимаете?! Вы лезете грязными лапами в душу человека, у которого погиб близкий человек!.. Позвольте, а как вы вообще узнали, что мы с Иваном… знакомы?
– У него был найден обрывок вашей фотографии.
– Моей фотографии? – поразился профессор.
Ванзаров показал обрывок. Профессор взглянул и плотнее закутался в плед.
– Ничего не понимаю… – пробурчал он.
– Не узнаете снимок?
– Понятия не имею. Не помню… Какая разница…
– Тогда не сочтите за труд, Ирис Аристархович, очертить круг друзей господина Наливайного.
Окунёв скинул плед, бросился к стене, увешанной фотографиями, и плотно прижался к ней спиной.
– Я никого не знаю, – торопливо сказал он. – Мне нездоровится, прошу вас не злоупотреблять нашим знакомством, господин полицейский.
– Любое предположение: кто мог напоить Ивана отравой…
– У Ванечки не было врагов и не могло быть… Он… был… чудесным, искренним и отзывчивым к чужим бедам. Убить такого доброго человека – большой грех. Умоляю вас, найдите как можно скорее его убийцу.
Извинившись за беспокойство, Ванзаров встал и неожиданно нацелил палец в пол:
– Что у вас там сверкает?
Окунёв слишком быстро нагнулся, как будто ожидал найти золотой луидор:
– Где?.. Что сверкает?.. Что такое?
– Ах, извините, показалось, – сказал Ванзаров. – Наверно, свет бликует. Кстати, зачем Ивану американский паспорт?
– Не знаю ни о каком паспорте… Прошу вас, уходите.
– Иван Иванович упоминал слово «сома»?
– Неужели служба в полиции настолько отшибает мозги, что вы забыли азы древнегреческого? Даже если упоминал – что тут такого? Уходите скорей… И не ждите от меня приглашения заглянуть еще. Я не желаю больше вас видеть. Считайте, что мы больше незнакомы. Прощайте…
Ванзаров поклонился и вышел в прихожую. Окунёв закрывал собой проем кабинета и так в этом преуспел, что позволил гостю самому отпирать входную дверь.
– Господин Окунёв, официально прошу вас не покидать столицу в ближайшую неделю. Вы можете быть вызваны для дачи дополнительных показаний.
Дверь захлопнулась с такой силой, что порыв ветра шевельнул холеные усы вороненого отлива.
Ателье семейных портретов г-на Смирнова располагалось на нечетной, то есть солнечной стороне Невского проспекта. Через стеклянный потолок весь день льется свет, создавая естественное освещение, а экономия электричества увеличивает доход.
За стеклянной дверью с надписью «Cabinet portrait» находилась просторная приемная с образцами творчества фотографа Смирнова в золоченых рамочках. Обычно здесь толпились посетители, желавшие запечатлеть себя для потомства, но в предновогодний день царила тишина.
Ассистент фотографа по фамилии Ельцов, розовощекий юноша с идеальным пробором и бархатной бабочкой, с изящным достоинством осведомился, что угодно. Ванзаров спросил маэстро. Оказалось, тот отлучился по делам.
– Мне хотелось бы знать: отдаются ли негативы заказчикам?
– Довольно редко, если сами просят, – ответил Ельцов. – Чем вам помочь?
Ванзаров экспромтом соорудил историю: якобы дама, его бесценный друг, снялась на групповом снимке с подругами и мужем, а после уехала в Тамань и умерла, и у него ничего не осталось на память о любимом существе.
Молодой человек искренне проникся и согласился помочь. Надо было только указать, когда сделан портрет. Расчет определил: не позже конца ноября. Ведь фотография в кабинете не успела покрыться пылью.
– На чье имя? – уточнил чувствительный ассистент фотографа.
– На имя господина Окунёва.
Ельцов тщательно водил пальчиком по конторской книге, перелистнул страницы, для верности просмотрел весь ноябрь и даже октябрь, но ничего не нашел.
Оставалось одно. Покинутый влюбленный прилежно описал снимок.
Профессор Окунёв мирно восседает в кресле. За его спиной стоит прекрасная дама. Над головой она подняла руки острым конусом. Слева от него – молоденькая барышня с тонкими чертами лица. Одну руку она отвела в сторону, держа прямо, другую опустила под углом к полу. Позу, зеркальную этой, приняла третья девушка, что оказалась с правого бока профессора. Внизу удобно разлегся Иван Наливайный. Согнув ногу в колене, а другую привольно вытянув, он подпирал щеку левой ладонью, а правую вытянул в приветствии, вид имел веселый и чуточку шутейный. Не надо обладать богатой фантазией, чтобы увидеть в композиции фигуру пентакля.
– Ну конечно, я помню этот удивительный снимок! – торжественно заявил Ельцов.
– Так неужели могу надеяться, что…
– Такая жалость, но с ним пришлось расстаться.
Оказывается, сегодня рано утром, как только ателье открылось, зашла дама и спросила негатив. Она пояснила, что на снимке запечатлена ее сестра, трагически погибшая накануне. Приказчик растрогался, не смог отказать, при этом не взял денег с убитой горем женщины.
– Она назвала фамилию заказчика?
– Да, упоминала, кажется…
– Не сочтите за труд вспомнить.
Подняв глаза к потолку, Ельцов поморгал, но не смог вспомнить ничего. Как видно, память совсем девичья.
– А день, когда был сделан снимок?
Приказчик растерянно промолчал. Оставалось поинтересоваться, как выглядела дама. Ельцов мечтательно зажмурился:
– Прекрасное черное платье… Она такая… такая красавица… Сложно описать, на лице вуаль…
– Отчего же вы решили, что красавица?
– Я почувствовал это! – ответил юноша с неподдельным трагизмом.
Горестную атмосферу прервал дверной колокольчик и звонкий голос:
– Какое счастье! Родион Георгиевич! Наконец-то!
Сам хозяин заведения, модный фотограф Смирнов, бросился к Ванзарову. Как-то раз Ванзаров помог ему выйти из затруднительного положения и с тех пор был для фотографа желанным гостем. Переждав бурю восторгов и жалоб, что дражайший Родион Георгиевич совсем позабыл-позабросил, Ванзаров изложил свою просьбу. Возможно, найдется случайная копия снимка.
Смирнов принялся терзать конторскую книгу.
– Помню-помню дурацкое фото… – приговаривал он, листая записи. – Такие странные господа, захотели, видите ли, сделать оригинальный портрет… Да вот оно! Точно, двенадцать дней назад сделали. Прекрасно помню!
– На чье имя заказ оформлен?
– Неразборчиво написано, как курица лапой, что-то вроде Завальный, Навальный, Повальный…
– Быть может, Наливайный?
– О да, вы правы – Наливайный! Еще подумал: какая смешная фамилия… Так вы с ним знакомы?
– В некотором смысле. Не вспомните, как снимок делали?
– Обыкновенно. Я предложил выбрать пейзаж, то есть задник. Они остановились на греческом виде. Дамы сели, мужчины у них за спиной встали. Все как обычно. И тут им вдумалось затеять шутливую фотографию. Местами поменялись и вот такую живую картину устроили.
– Идея была пожилого господина?
– Откровенно говоря, меня попросили выйти, чтобы они могли обсудить. Такие странные! А когда вернулся, уже приняли задуманные позы. Кто это из них затеял, уж не знаю.
– Кому не понравилась обычная композиция? Кто предложил все поменять? Кто-то из барышень?
Смирнов задумался, напряженно стиснув губы, и сказал:
– Вот ведь не могу вспомнить… Но не барышни, точно. Те и рта не открыли.
– Могу ли надеяться на копию?
Фотограф юркнул за портьеру, скрывавшую лабораторию. Вернулся он, победно размахивая мятым клочком:
– Нашел! На ваше счастье, испортил один снимок при печати, а мусор еще не выброшен.
Бумага сильно пострадала и пошла трещинами, в верхнем углу зияла дыра, но лица участников сохранились отчетливо. Не хуже, чем на стене Окунёва.
Ванзаров предъявил фото приказчику:
– Нет ли здесь того, кто забрал негатив?
Ельцов опять затерялся в раздумьях и наконец боязливо выговорил:
– Кажется, это он… – Аккуратный ноготок указал на замерзшего, вскрытого и зашитого господина Наливайного.
– Вы же сказали, что приходила дама, – напомнил Ванзаров.
Под грозным взглядом хозяина Ельцов совсем растерялся и пробормотал:
– Я плохо запомнил…
– Честное слово: выгоню! – пообещал маэстро Смирнов. – Не позорь меня перед господином Ванзаровым! Отвечай толком!
– Темно было… Не разобрал…
– Темно?! У нас?! – поразился Смирнов. – Да ты пьяный никак! Точно пьяный! Весь день как ненормальный какой-то: то смеется, то песни поет. Думал: влюбился. А ты, брат, укушался. Ну конечно, вон морда вся пылает. Ну все… Ну я тебя…
Ванзаров спросил, чья это чашка стоит на конторке. Смущенно потупившись, Ельцов признался, что это его кофе с молоком. Прихлебывает между делом. Маэстро порывался разорвать нерадивого приказчика, но Ванзаров убедил фотографа, что полностью доволен и узнал все, что хотел. Даже выразил благодарность от имени сыскной полиции.
– Да за что же меня благодарить? – поразился Смирнов.
– Во-первых, за бесценную улику. Но самое главное, что на фотографиях ставите подпись ателье яркими золотыми буквами. Издалека видно.
Так вот, Николай, информация был столь срочная, что я решил разыскать начальника. Дежурный чиновник сказал, где Родион Георгиевич может быть сейчас. Хоть он и знаменитость, а обязан оставлять сведения о своем местонахождении. Мало ли что вдруг понадобится. Одно беспокойство, но нельзя иначе – служба. И вот как пригодилось.
Прискакал я в ателье Смирнова, вижу через дверь: Ванзаров допрос с кого-то снимает. Юнец какой-то совсем поник. А рядом господин с бантом на шее бесится. Ну, все понятно. Мешать нельзя. Я на Невском решил ожидать. Принял самый непринужденный вид. Даже насвистывал, хотел огорошить новостью. Не все ему меня в тупик ставить. Выходит он и сразу ко мне:
– Уже сведения раздобыли? Похвально.
Я ему: так точно! И уже хотел огорошить, а он говорит:
– О потере паспорта мистер Санже не заявлял и новый не представлял.
Честно скажу: растерялся. Стоило в министерство ездить да из чиновников душу вынимать, чтобы вот так взял человек и угадал. Не понимаю, как это у него выходит. Просто загадочный талант.
Тут Родион Георгиевич улыбается в усы, думает, незаметно, а я-то все вижу, вытаскивает фотографический снимок, сильно помятый, и указывает на господина, развалившегося на ковре.
– Узнаете? – говорит.
У меня глаз наметанный, такую задачку враз раскушу. Отвечаю: это же наш покойный Санже. Вернее, не Санже, а как назвать – не знаю.
– Верно заметили! – говорит. – Только этот господин сегодня утром, примерно часов в десять, заходил в ателье забрать негатив.
Думаю: опять проверяет. Ладно, не лыком шиты.
– Не может быть, – отвечаю.
– И я того же мнения, – Ванзаров мне. – Лебедев так тщательно произвел вскрытие, что прогуливаться ему крайне затруднительно. Тогда что?
– Врет свидетель.
– Возможно. А возможно, и не врет. И это самое интересное. Курочкина на поиски снарядили?
– Так точно… Все ему передал.
– Благодарю. Тогда еще одно поручение. Отправляйтесь в Бестужевские курсы и выясните, в котором часу вчера вечером к ним на бал приехал профессор Окунёв. Вот он на фотографии в самом центре восседает. Фигура колоритная, его все знают. Вроде бы пригласили почетным гостем.
– Поручение выполнено! – рапортую.
Тут уж Ванзаров попался. Смотрит удивленно:
– Каким же образом?
А я ему:
– Новогодний бал Бестужевских курсов будет… только завтра вечером. Знаю наверняка. У меня там… Меня пригласили. Они и залу только-только украшать начали.
– Интересно, – говорит Ванзаров. – Какое ценное у вас знакомство.
– Скажу больше: не мог господин Окунёв быть там почетным гостем. Она мне… У меня точные сведения: Окунёва на Бестужевских на дух не переносят. Как-то раз пригласили читать лекцию, так он такое начал проповедовать против религии, что сама начальница выставила его вон. Так ведь он в долгу не остался, закатил истерику, кричал, дескать, жалкие обыватели не могут понять великий замысел Фауста, и все в том же духе. Скандал вышел ужасный. С тех пор ни за что его не пригласят. Врет ваш профессор как сивый мерин.
– Может, и врет, – кивает Ванзаров. – Раз вы так хорошо осведомлены, не вспомните ли еще какое-нибудь происшествие, в связи с которым упоминалась бы фамилия Окунёва. В сводки ничего не попадало?
– Еще как вспомню! – докладываю, аж удовольствие испытываю. – В начале декабря было сообщение о странном происшествии в лекционном зале Соляного городка. Помните?
– Нет, не помню…
– На воскресной лекции пьяные приказчики устроили скандал, кажется, хотели побить лектора. Но тут из толпы зрителей возникла дама и хладнокровно выстрелила в хулиганов. Когда прибыл городовой, дамы и след простыл. Кто она такая, установить не удалось. Лектор заявил, что видит ее в первый раз, и устроил форменный скандал в участке. Знаете, кто был этот лектор?
– Профессор Окунёв.
– Так точно!
– Как все интересно, – говорит Ванзаров, а сам о чем-то думает. – Что ж, Мечислав Николаевич, вы превзошли себя. Блестящий результат. Вы очень помогли.
– Благодарю! – А у самого мурашки по коже от такой чести. Нет бы удержаться, так ведь дернуло меня за язык. На радости говорю: – А давайте этого профессора отвезем к нам на Офицерскую или в арестантскую 2-го Васильевского!
– Это зачем еще? – спрашивает.
Слышу, голос у него изменился, но меня уже несет:
– Солгал – значит, скрывает. Раз скрывает – значит, он и убил этого Санже. Вернее, не Санже, а как его…
– Поспешный вывод. Обман не красит Окунёва с моральной точки зрения, но преступником не делает. Теперь у него нет алиби на вечер 30-го.
– И только?
– Существует множество других причин, по которым он не может быть с нами откровенным.
– Какие же?
– Скажем, он принимал даму, замужнюю. Боится скомпрометировать.
Тут я и говорю:
– А давайте его… – и показываю, как бы вытряс из профессора душу.
Родион Григорьевич помрачнел и говорит:
– Головой надо работать, ротмистр. А вот это, – передразнивает мой жест, – оставим жандармам и охранке. Кулаки в сыске бесполезны.
Ну что тут поделать? Опять в лужу сел. И как ему это удается?!
Распекать меня, как обычно, Ванзаров поленился, а поручений насыпал целую кучу. Во-первых, аккуратно опросить соседей и дворника о привычках и манерах профессора. Затем проверить по картотеке, не числится ли за ним каких-нибудь подвигов. И самое главное – установить за домом филерское наблюдение. Ну а на сладкое выяснить, где проживает и чем занимается господин Наливайный.
Задание принял, чуть было не козырнул ему, все не могу от этой привычки отделаться, и поймал пролетку. Пролетка тронулась, я обернулся. И вот такая картина: праздник бурлит, витрины магазинов роскошью блистают, публика в приподнятом настроении фланирует. А среди радостной суеты бредет молчаливый господин, словно никого не замечая, и о чем-то размышляет. И нет ему никакого дела до праздника, а только до своей логики. Такой вот удивительный человек. Счастлив, что служил под его началом. Да вы, Николай, и сами знаете…
Только сейчас я заметил, что, вспомнив кабинет Ванзарова, ни словом не упомянул кабинет Лебедева. Место это было уникальным, если не сказать – исключительным. В давние годы, когда я был еще юным чиновником, этот кабинет производил на меня ошеломляющее впечатление. И не на одного меня.
Кабинет Аполлона Григорьевича располагался в здании Департамента полиции на Фонтанке, стенка в стенку с антропометрическим бюро. Собственно говоря, это и не кабинет был вовсе. Всякий попавший в чудовищное нагромождение вещей чувствовал себя как на складе забытых вещей. Великий криминалист имел привычку не выбрасывать ни единой вещицы.
Здесь скопился миллион предметов, проходивших по всяческим делам. В банках со спиртом плавали человеческие органы, коллекция ножей, кастетов и заточек соседствовала с отличным собранием огнестрельного оружия, на стенах висели театральные плакаты вперемешку с анатомическими таблицами. Шкафы лопались от папок с журналами и специальной литературы. Кое-где богатство вываливалось на пол.
На рабочем столе расположились лабораторные реторты, химикаты, баночки, стеклышки, а в центре беспорядка находилось главное богатство – великолепный английский микроскоп. Кабинет представлял собой нечто среднее между лавкой старьевщика и лабораторией алхимика. В святилище криминалистики витал нестерпимый запах: смесь исключительных сигарок с химреактивами.
Настенные часы пробили полдень. Открыв дверь без стука, Ванзаров протиснулся меж стеллажами и полками, стараясь не получить по голове свалившейся рухлядью. Хозяин кабинета, скинув сюртук и засучив рукава, что-то рассматривал в микроскоп и яростно пыхтел.
– Попался, зараза! – прорычал он и добавил: – Я все слышал, Ванзаров, ко мне нельзя подкрасться незаметно.
Глаза Аполлона Григорьевича покраснели, как у кролика. Его спросили о самочувствии, не заболел ли часом.
– Нет, не заболел! Болезни боятся меня как огня. По вашей милости встретил новый, тысяча девятьсот пятый год в лаборатории. Такой подарочек преподнесли.
– Вас никто не заставлял.
– Попробовали бы заставить!.. Хоть с толком провел бессонную ночь. Это значительно интересней, чем пить шампанское и волочиться за юбками, да. В мои-то годы…
Лебедев явно напрашивался на комплимент. Ванзаров протянул мятую фотокарточку:
– Проверить бы по картотеке антропометрического бюро.
Взглянув на групповой портрет, Лебедев обрадовался:
– Это же тот полугосподин, которого я имел честь препарировать. А вот эта – просто редкая красавица, руки домиком держит, надо же. Хотя я с такой роман крутить не стал бы. Что-то есть в ней опасное. Кто она?
– Вскоре узнаем.
– Интересная женщина… Да и эти, что ручки растопырили, тоже ничего. Кто они?
– Вскоре узнаем, – повторил Ванзаров.
– А владелец гарема?
– Профессор Окунёв. Читал мне лекции по древнеримской литературе.
– Собрались отомстить ему за студенческие мучения? Хитро!
– Удалось что-нибудь выяснить? – спросил Ванзаров.
Из хаоса появилась пробирка, наполненная белым порошком.
– А как же! При помощи новейшего метода хроматографии. Заметьте, разработан нашим отечественным ученым Михаилом Цветом, добрейшим человеком и уникальным ботаником. Господин Цвет придумал использовать трубочку с мелом для разделения пигментов зеленого листа. А я приспособил хроматографию для криминалистики. Про это изобретение у нас мало кто знает, но я предрекаю ему грандиозное будущее.
– Так что же нашли? – напомнил Ванзаров.
Лебедев выудил мятую бумажку и сказал:
– Это надо слушать стоя. Ну, вы и так стоите… Извините, сесть некуда… Итак, жидкость из желудка господина Наливайного – смесь молока, меда и мочи животного, возможно, коровы. Есть подозрение, что бедняга употреблял коктейль регулярно.
– Как лекарство?
– Скорее как стимулирующее или возбуждающее средство. В его положении это резонно. С душевными муками надо как-то бороться.
– Замена морфия?
– Вполне возможно. Используя оптическую методику Александра Пеля по определению растительных ядов…
– Нашли какой-нибудь яд? – перебил Ванзаров.
– Яда не нашел, – Аполлон Григорьевич нагло ухмыльнулся. – Зато обнаружил кое-что другое. В состав жидкости входит вытяжка из Amanita muscaria.
– Я в ботанике не силен.
– Всеми любимый мухомор. Присутствие этого грибочка многое объясняет. Знаете, в сибирских деревнях мухоморы едят сырыми.
– От голода?
– Для поднятия настроения. Мухомор богат микотропиновыми кислотами, вызывающими галлюцинации. Это грибок быстрее китайского опия приведет в мир грез и фантазий. Но чтобы им отравиться, надо очень постараться. Но это еще не все!
– Ну, порадуйте, – согласился Ванзаров.
– Я обнаружил следы Cannabis.
– Поганка, что ли?
– Конопля.
– При чем здесь конопля? Из нее веревки делают.
Лебедев победоносно улыбнулся:
– В Англии с середины прошлого века конопля вошла в лечебные справочники фармакологии. Южноамериканские индейцы еще в доколумбовы времена сушили ее, набивали в трубки и курили с большим эффектом для фантазии. Но убить коноплей невозможно. Вывод: отсутствие отравления доказано научно.
Помолчав, Ванзаров сказал:
– Получается, дело можно закрыть.
– Как показало вскрытие, насильственной смерти нет. А раз так, то нет и дела. Несчастный случай, не более. Двунастие не является преступлением. С точки зрения законодательства господин Наливайный будет признан обычным мужчиной.
Действительно, по закону Российской империи с точки зрения наследственного права Ивана неизбежно надо было признать или мужчиной, или женщиной. Если бы ему было что наследовать.
Ванзаров попал пальцами во что-то липкое и брезгливо отдернул руку.
– Аполлон Григорьевич, скажите честно: считаете, что он тихо скончался?
– Нет, его убили. Причем изощренно, – ответил Лебедев. – Но мое мнение к делу не пришьешь. Ну, закрываем дельце?
– Совсем наоборот.
– Чудесно! Очень меня занимает одна деталька. В состав смеси входит некое вещество, которое я выделил в чистом виде, но не смог определить. Думаю, очень редкое органическое соединение. Скорее всего, очень ядовитое. Скажите спасибо хроматографии гениального Цвета.
Характер великого криминалиста иногда любил преподнести сюрприз. Побороть это было невозможно. Только смириться и терпеть. Все равно пользы от него намного больше.
– А что ваша хренотография говорит насчет подштанников жертвы? – спросил Ванзаров с невинной физиономией. – Есть ли какие-нибудь зацепки?
Лебедев легкомысленно отмахнулся:
– Обычное нательное белье, не совсем свежее, правда.
– А что… – начал было Ванзаров, но тут его перебили:
– Хватит науки. Поехали, познакомлю с забавным стариканом. Только, чтобы его разговорить, надо применить вот это… – Лебедев протянул портсигар: – Вспоминайте уроки курения.
Вспоминать Ванзарову не хотелось. Пагубная страсть могла и вернуться.
– Это необходимо?
– Как ловить сома на воробья: чудак обожает карты и сигарный дым. Не бойтесь, я вам своих не положил. Здесь гаванские легкие. Буду поблизости, в курительной. Если не справитесь, примчусь на выручку.
От портсигара пахло ароматно сладким. Совсем не так, как от беспощадных никарагуанских сигарок.
Барона фон Шуттенбаха в Английском клубе предпочитали не замечать. Каждый любитель колоды находил партнера. Но только не барон. Все знали: играть с ним – дурная примета. Если выигрывал, что случалось крайне редко, то у всех партнеров начинались денежные проблемы. Если проигрывал фон Шуттенбах, на игроков обрушивались домашние беды: домочадцы ломали ноги, искра из печи поджигала дом или теща давилась косточкой.
Жуткую репутацию безобидный картежник заработал неумеренным увлечением спиритизмом и болтовней о своих успехах в магии и колдовстве. Поползли слухи, что в полнолуние в окнах его дома видели языки зеленого пламени, а самые отчаянные клялись, что наблюдали, как в ночь на Ивана Купалу барон в голом виде вылетал на метле из печной трубы и носился по Невскому проспекту.
Фон Шуттенбах так долго поддерживал вокруг своей персоны таинственность, что однажды обнаружил: никто не хочет с ним играть. Члены клуба избегали его как прокаженного. С бароном не хотели не то что банчок расписать, но и влегкую поставить на карточку. В последнее время жажду игры он утолял с новичками, впервые переступавшими порог Английского клуба. Дурная слава имела один положительный результат: уберегла от полного разорения. Фон Шуттенбах практически был нищ и анонимно распродавал фамильные драгоценности. Но игра требовала новых жертв.
Ленивой походкой подошел приятный моложавый господин, шлепнулся на кожаную подушку и вынул сигару.
– Позволите? – спросил он, чиркая спичкой.
Барон пожирал глазами табачный кокон:
– Извольте, извольте…
– Люблю, знаете, после приличного обеда насладиться сигаркой.