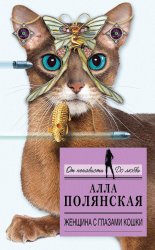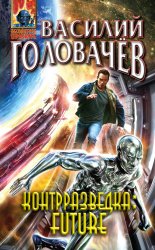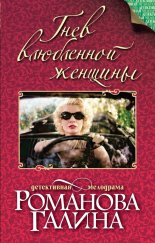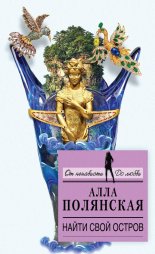Искушение чародея (сборник) Гелприн Майкл
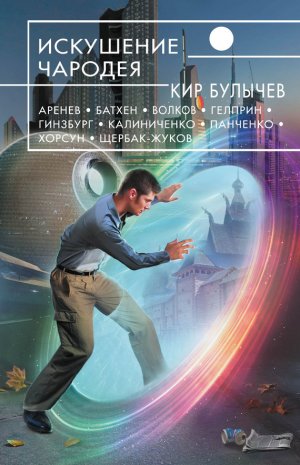
Читать бесплатно другие книги:
Виктории Величко пришлось многое пережить, но к такому она оказалась не готова – их маленький самоле...
Удивительное перевоплощение Элизабет Фитч началось с черной краски для волос, пары ножниц и поддельн...
Запуск гигантского Суперструнника, который должен был помочь земным ученым раскрыть тайну рождения В...
Ольга, как в старом анекдоте, не вовремя вернулась с работы и застала в своей спальне картину маслом...
Это не традиционный роман, предполагающий эпичность действия и обычную хронологию развития сюжета. М...
С самого детства все считали Нику немного не от мира сего, но открытая душа и доброе сердце с лихвой...