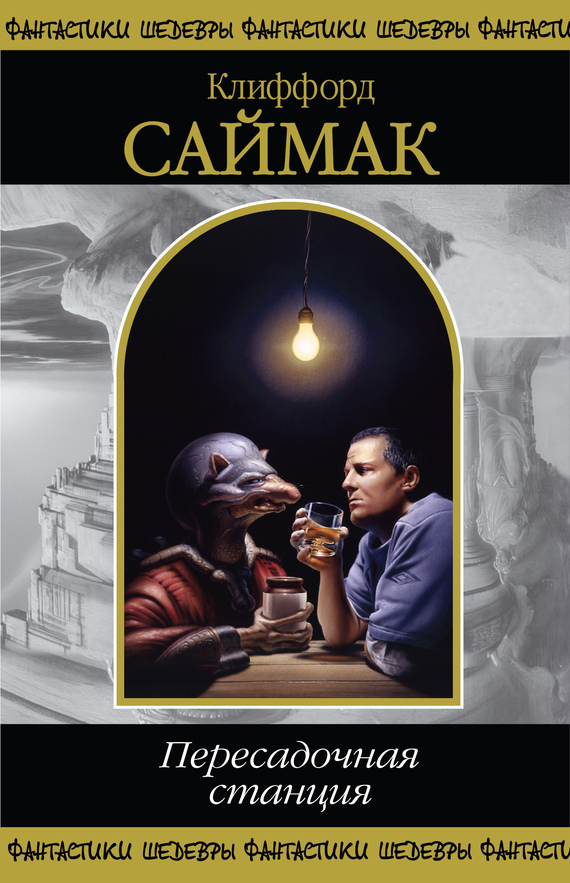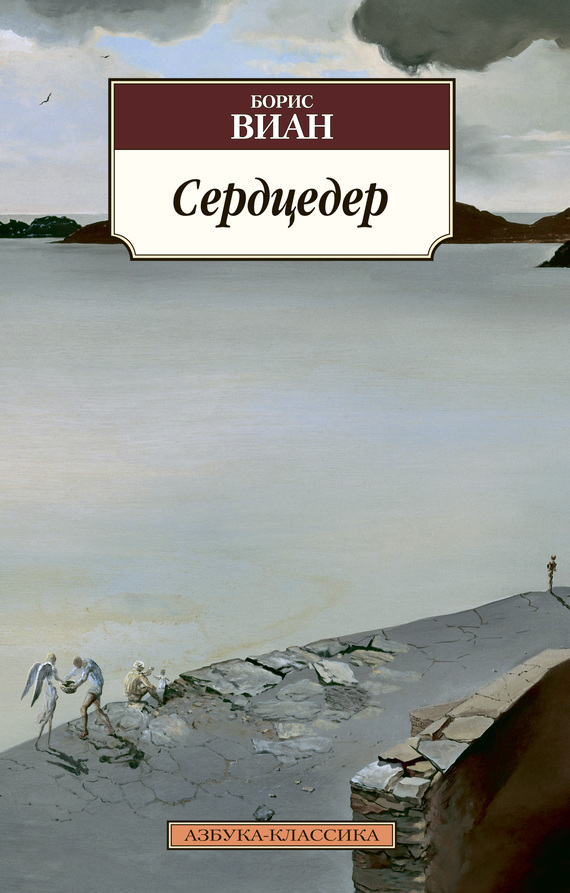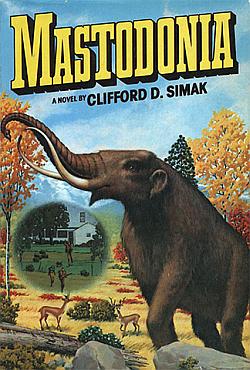Самодержец пустыни Юзефович Леонид

По праву, переданному мне как военачальнику, не покладавшему оружия в борьбе с красными и ведущему её на широком фронте, ПРИКАЗЫВАЮ начальникам отрядов, сформированных в Сибири для борьбы с Советом Народных Комиссаров:
1. Начальникам малых отрядов, существующих отдельно и готовящихся к борьбе, подчиняться одному командующему сектором, который и объединяет действия отдельных отрядов. Неподчинение повлечёт за собой суровую кару.
Примечание. Отряды численностью до 150 человек, не считая нестроевых и семьи, при приближении на 40 вёрст к другим отрядам должны объединиться в своих действиях под общей командой единоличного начальника; отряды численностью 150 – 300 чел[143] – в 100-вёрстном радиусе; отряды численностью в 300 – чел.[144] – в 200-вёрстном радиусе. Отрядам, не оставлявшим борьбы с красными и имеющим старую организацию, руководствоваться своими распорядителями.
2. Установить связь между боевыми единицами и действовать по общему плану, сообразуясь с временем и направлением начавшегося наступления (см. п. 4 прик.[145]).
3. При встрече действующих отрядов численностью более 1000 чел.[146] с отрядами одинаковой или большей численности, действующими против общего врага, подчинение переходит к начальнику, который вёл непрерывную борьбу с советскими комиссарами на территории России, причём не считаться с чином, возрастом и образованием.
Примечание. Пункту 3-му настоящего приказа подчиняются и командующие секторами.
4. Выступление против красных в Сибири начать по следующим направлениям: а) Западное – ст. Маньчжурия; б) на Монденском направлении вдоль Яблонового хребта; в) вдоль реки Селенги; г) на Иркутск; д) вниз по р. Енисею из Урянхайского края; е) вниз по р. Иртышу. Конечными пунктами операции являются большие города, расположенные на магистрали Сибирской ж. д. Командующим отдельными секторами соображаться с этими направлениями и руководствоваться: в Иркутском направлении директивами полк.[148] Казагранди, в Урянхайском – атамана Енис.[149] Каз.[150] войска Казанцева, в Иртышском – есаула Кайгородова[147].
5. Командующие секторами назначают срок для общего выступления всех отрядов под своим руководством. Пока, за дальностью расстояния, я лишён возможности карать, а потому на ответственность командующих секторами и командиров отрядов возлагается прекращение всяких трений и разногласий в отрядах (рыба с головы тухнет). Помнить, что поколения будут благословлять или проклинать их имена.
6. Заявить бойцам, что позорно и безумно воевать лишь за освобождение своих собственных станиц, сёл и деревень, не заботясь об освобождении больших районов и областей. Считать такое поведение сохранением преступного нейтралитета перед Родиной, что является государственной изменой. Такое преступление карать по всей строгости законов военного времени.
7. Подчиняться беспрекословно дисциплине, без которой всё, как и раньше, развалится.
8. При мобилизации бойцов пользоватьсяих боевой работой, по возможности, не далее 300 вёрст от места их постоянного жительства. После пополнения отрядов нужным по количеству имеющегося вооружения кадром новых бойцов, прежних, происходящих из освобождённых от красных местностей, отпускать по домам.
9. Комиссаров, коммунистов и евреев уничтожать вместе с семьями. Всё имущество их конфисковывать.
10. Суд над виновными м.[152] б.[153] или дисциплинарный, или в виде применения разнородных степеней смертной казни. В борьбе с преступными разрушителями и осквернителями России помнить, что по мере совершенного упадка нравов в России и полного душевного и телесного разврата нельзя руководствоваться старой оценкой. Мера наказания может быть лишь одна – смертная казнь разных степеней. Старые основы правосудия изменились. Нет «правды и милости». Теперь должны существовать «правда и безжалостная суровость». Зло, пришедшее на землю, чтобы уничтожить Божественное начало в душе человеческой, должно быть вырвано с корнем. Ярости народной против руководителей, преданных слуг красных учений, не ставить преград. Помнить, что перед народом стал вопрос «быть или не быть». Единоличным начальникам, карающим преступников, помнить об искоренении зла до конца и навсегда и о том, что справедливость в неуклонности суда[151].
11. На должности гражданского управления в освобождённых от красных местностях назначать лиц лишь по их значению и влиянию в данной местности и по их действительной пригодности для несения службы этого рода, не давая преимущества военным, не считаясь при назначении с бедственным состоянием и прежним служебным положением просителя.
12. За назначение несоответствующих и неспособных лиц ответственным является начальник, сделавший назначение.
13. Привлекать на свою сторону красные отряды, особенно из разряда мобилизованных, и рабочие батальоны.
14. Не рассчитывать на наших союзников-иностранцев, переносящих подобную же революционную борьбу, ни на кого бы то ни было. Помнить, что война питается войной и что плох военачальник, пытающийся купить оружие и снаряжение тогда, когда перед ним находится вооружённый противник, могущий снабдить боевыми средствами[154].
15. Продовольствие и др.[155] снабжение конфисковывать у тех жителей, у которых оно не было взято красными. У бежавших жителей брать продовольствие по мере надобности. Если посёлок, занятый белыми, даёт добровольцев и мобилизованных бойцов, он обязан дать своим людям продовольствие и другое (кроме боевого) снаряжение на 3 месяца, что и поступает в интендантскую часть отряда безвозвратно.
16. В случае переполнения отряда людьми, не имеющими вооружения, отправлятьих на полевые работы непременно домой, в освобождённые области.
17. За отрядом не возить ни жён, ни семей, распределяя их на полное прокормление освобождённых от красных селений, не делая различий по чинам и сословиям и не оставляя при семьях денщиков.
18. Мне известно позорное стремление многих офицеров и солдат устраиваться при штабах на нестроевые должности, а также в тыловые войсковые части. Против этого необходимы самые неуклонные меры пресечения. В штабы и на нестроевые должности назначать, по возможности, лиц, действительно не способных к бою, каковым носить, в отличие от строевых офицеров и солдат, поперечные погоны. Организуемые по мере надобности тыловые войсковые части, необходимые для военных операций, должны существовать, но не следует переполнять их излишними чинами. Желательнее всего замещать должности в тыловых частях бежавшими от большевиков и пострадавшими от них поляками, иностранцами и инородцами, с их согласия. Местные жители отнюдь не должны назначаться на указанные должности.
Примечание. Строевыми считать только тех, кто непосредственно участвует в боях. Чины тыловых войсковых частей (интендантство, комендантская ч[156], сапёрная, служба связи, штабы и т. п.), хотя и имеющие вооружение, не считаются строевыми. В интендантство избегать назначать военных; по возможности назначать имеющих многолетний опыт доверенных фирм, а также бежавших купцов, лично ведших свои дела и показавших на опыте свой талант.
19. В случае необходимости отступления стягиваться в указанных выше направлениях военных операций (п. 4 прик[157]), в сторону ближайшего сектора, прикрывая собою его фланг.
Народами завладел социализм, лживо проповедывающий мир, злейший и вечный враг мира на земле, т. к. смысл социализма – борьба.
Нужен мир – высший дар Неба[158]. Ждёт от нас подвига в борьбе за мир и Тот, о Ком говорит Св. Пророк Даниил (гл. XI)[159], предсказавший жестокое время гибели носителей разврата и нечестия и пришествие дней мира: «И восстанет в то время Михаил, Князь Великий, стоящий за сынов народа Твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся в это время из народа Твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Многие очистятся, убедятся и переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдёт 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1330 дней»[160].
Твёрдо уповая на помощь Божию, отдаю настоящий приказ и призываю вас, офицеры и солдаты, к стойкости и подвигу.
Подлинный подписал: Начальник Азиатской Конной Дивизии.Генерал-Лейтенант Унгерн.С незначительными разночтениями «Приказ № 15» в отрывках и полностью неоднократно воспроизводился в советской и эмигрантской печати 20-х гг. Публикуется по: ГА РФ, ф. Varia, д. 392, л. 1 – .
III
Допрос военнопленного начальника Азиатской конной дивизии генерала барона Унгерна
Опрос производил 27 августа 1921 года в Штакоре Экспедиционного комкор т. Гайлит[161] в присутствии бывшего комкора т. Неймана, начпоарма т. Бермана, наштакора т. Черемисинова и представителя Коминтерна при Монголправительстве т. Борисова.
1) Генерал-лейтенант барон Унгерн – х лет[162], сын помещика Эстляндской губернии, участвовал добровольцем в русско-японской войне, образование получил в Морском кадетском корпусе и в Павловском военном училище, которое окончил в 1908 году. Вышел в казачьи войска, до войны служил в полку, которым командовал барон Врангель, за пьянство был предан последним суду. В русско-германскую войну служил во 2-й (армии. – Л. Ю.), за участие в походе в Восточную Пруссию получил орден Св. Георгия 4-й степени, который в настоящее время носит на груди.
2) На вопрос, может ли он отвечать откровенно, сказал: «Раз войско мне изменило, могу теперь отвечать вполне откровенно».
3) В плен попал совершенно неожиданно, подозревает заговор на себя одного из командиров полков, полковника Хоботова, вследствие какового заговора на него было произведено покушение. Вечером 21 августа лежал в своей палатке, услыхал стрельбу, подумал, что какой-нибудь разъезд красных. Выйдя из палатки, отдал распоряжение выслать разъезд, затем поехал вдоль расположения своих войск. Проезжая мимо пулемётной команды, вновь услышал выстрелы и по ним узнал, что это стреляют по нём, после чего поехал к своему монголдивизиону. Проехав с последним версты 3 – 4, был внезапно схвачен монголами и связан. Монголы повезли его, связанного, назад к отряду, по старым видным следам. Дорогой Унгерн заметил, что они взяли неверное направление, и сказал монголам, что они могут наткнуться на красных. Монголы не верили, и встретившийся затем разъезд в 20 всадников красноармейцев бросился на них лавой, с криками «ура» и требованием бросить оружие. Оружие было брошено, и весь отряд монгол со связанным Унгерном попал в плен. Узнав красных, монголы растерялись. Разъезд повёл пленных с каким-то обозом. Один из красноармейцев спросил Унгерна, кто он такой, и, услыхав ответ, растерялся от неожиданности. Придя в себя, бросился к остальным конвоирам, и все они сосредоточили своё внимание на пленном Унгерне.
4) Живым в плен попал вследствие того, что не успел лишить себя жизни. Пытался повеситься на поводе, но последний оказался слишком широким. Бывший с ним всегда яд за несколько дней перед тем был вытряхнут денщиком, пришивавшим к халату пуговицы. В минуту пленения сунул руку за пазуху халата, где был яд, но такового не оказалось.
5) Разложения своих войск и заговора против себя и Резухина совершенно не ожидал.
6) Численность своей дивизии определить точно не может, штаба у него не было, всю работу управления исполнял сам и знал свои войска только по числу сотен. Пулемётов действующих имел более 20, орудий горных 8, считая захваченные им в бою у дацана Гусиноозерского. Весь его отряд состоял из 4-х полков Азиатской конной дивизии и монгольского дивизиона.
7) Разделение на 2 бригады в районе р. Эгин-Гол произошло само собой, для удобства управления в походе.
8) Последним намерением Унгерна было уйти на запад, но большинство его отряда, состоявшее из жителей востока, выражало недовольство предстоящим им походом, их влекло на восток. В этом, собственно, Унгерн и видит главную причину разложения своего войска..
9) На вопрос, действовал ли он в Монголии самостоятельно или в контакте с кем-нибудь и с кем именно, Унгерн ответил, что действовал вполне самостоятельно и связи в полном смысле слова ни с Семёновым, ни с японцами не имел. Хотя у него и была возможность установить связь с Семёновым, но он этого сам не хотел, т. к. Семёнов никакой активной материальной помощи ему не давал, ограничиваясь одними советами.
10) Себя подчинённым Семёнову не считал, признавал же Семёнова официально лишь для того, чтобы оказать этим благоприятное воздействие на свои войска.
11) Имея в Урге радиостанцию, Унгерн получал информацию, перехватывая телеграммы и агитсообщения из Читы и Харбина.
12) По взятии Урги писал Семёнову, но ответа от последнего не получил.
13) На вопрос, что побуждало его вести борьбу с Советской Россией и какие цели он преследовал в этой борьбе, Унгерн отвечал, что боролся за восстановление монархии. Идея монархизма – главное, что толкало его на путь борьбы. Он верит, что приходит время возвращения монархии. До сих пор шло на убыль, а теперь должно идти на прибыль, и повсюду будет монархия, монархия, монархия. Источник этой веры – Священное Писание, в котором, по его мнению, есть указания на то, что это время наступает именно теперь. Восток непременно должен столкнуться с Западом. Белая культура, приведшая европейские народы к революции, сопровождавшаяся веками всеобщей нивелировки, упадком аристократии и прочая, подлежит распаду и замене жёлтой, восточной культурой, образовавшейся 3000 лет назад и до сих пор сохранившейся в неприкосновенности. Основы аристократизма, вообще весь уклад восточного быта, чрезвычайно ему во всех подробностях симпатичны, от (религии? – Л. Ю.) до еды. Пресловутая «жёлтая опасность» не существует для Унгерна. Он говорит, наоборот, о «белой опасности» европейской культуры с её спутниками – революциями. Изложить свои идеи в виде сочинения Унгерн никогда не пытался, но считает себя на это способным.
14) Унгерн заявляет себя человеком, верующим в Бога и Евангелие и практикующим молитву. Предсказания Священного Писания, приведённые Унгерном в приказе его № 15, захваченном под Троицкосавском, он считает своими убеждениями. Приказ составлен Ивановским и Оссендовским.
15) Цель издания приказа № 15 – объединение отдельных мелких партий, оперирующих в пограничных районах Монголии. Кроме того, целью издания этого приказа было укрепление дисциплины в его войсках и внушение представления об организованности и объединенности его действий с другими противниками Советской власти. Особых надежд на этот приказ не возлагал.
16) Начав свои действия под Даурией, Унгерн отошёл от неё под давлением партизанских частей Лебедева[163].
17) После отхода от Даурии имел намерение через Акшу пройти в район Хингана, где и вести борьбу против партизан. Узнав, что Семёнов из Читы вылетел, решил по этому плану не действовать[164], тем более, что имевшиеся в его строе пушки вследствие гористой местности в этом районе пройти не могли.
18) К этому времени в его отряде было до 800 русских казаков из 4-го отдела Забайкальского казачьего войска[165].
19) Поход на Ургу был предпринят с целью восстановления в Монголии власти маньчжурского хана.
20) По занятии Урги Унгерн писал Кайгородову, Бакичу, Анненкову, имел намерение связаться с Семёновым, но из всего этого ничего не вышло. Кайгородов приказ Унгерна № 15 опротестовал.
21) Во время пребывания в Урге Унгерн был три раза у хутухты: первый раз по случаю взятия Урги, второй раз по случаю предстоящего похода на Чойры и последний раз без определённой цели. Хутухта любит выпить, у него ещё имеется старое шампанское[166].
22) Политического влияния в Монголии Унгерн, по его словам, не имел. Таковое сосредоточивается в руках хутухты. Однако, обладая войском, Унгерн, очевидно, имел в глазах хутухты известное значение[167].
23) После совещания с хутухтой Унгерн лично руководил операцией на Чойры и Калган и разбил китайцев, дойдя вплоть до монгольской границы. Унгерн на автомобиле возвратился в Ургу из этой операции. Побеждённые китайцы отдали Унгерну много добычи – до 8000 винтовок, снаряды, патроны и прочая.
24) Деятельность в Урге полковника Сипайло, выражавшаяся в расстрелах, убийствах, конфискациях, была Унгерну известна, так же, как и его пьянство. О насилиях его над женщинами Унгерн не знает и считает эти слухи вздорными.
25) Отрицательное отношение Унгерна к ургинскому купечествуиз русских основано на мысли, что это люди нехорошие, ибо хорошим людям и в России можно хорошо прожить.
26) Костюм монгольского князя – шёлковый халат – носил, чтобы быть на далёком расстоянии видным войску. Привлечь этим костюмом симпатии монгольского населения цели не имел. Хутухтой был пожалован Унгерну титул монгольского князя. Унгерн был женат на китаянке, с которой в последнее время развёлся.
27) На вопросы о побуждениях его к жестокости со своими подчинёнными Унгерн отвечал, что он бывал жесток только с плохими офицерами и солдатами и что такое обращение вызывается требованиями дисциплины, как он её понимает. «Я – сторонник палочной дисциплины, как Фридрих Великий, Николай I». Дисциплиной и держалось его войско. Теперь он не сомневается, что без него остатки его войск все разбегутся.
28) Переход к активным действиям против Советской России и ДВР Унгерн предпринял ввиду того, что в последнее время он со своим войском стал в тягость населению Монголии. Все интендантства и запасы перед началом операции отправил в Ван-Хурэ, имея в виду в случае неудачи двигаться на запад.
29) Резухин действовал на территории России по заранее выработанному плану. Общей задачей обоих отрядов являлось занятие плацдарма в виде треугольника, образуемого рекой Чикой, Селенгой и смежной с Совроссией территорией. Частной задачей Резухина были действия на территории Совроссии – приковать к ней войска 35-й дивизии и разбить их. Задачей же отряда Унгерна было уничтожение переправ на реке Чикой и Селенге, на вышеуказанном плацдарме. Выполнение этой операции приняло, однако, неожиданный оборот. Уничтожив переправы на р. Чикой, Унгерн с отрядом имел намерение продолжать выполнение задуманного плана и от посёлка Усть-Киран и Кирана прошёл было на Усть-Кяхту, но о месторасположении последней имел неверные сведения. По ним значилось, что Усть-Кяхта находится в 8-ми верстах от Усть-Кирана. Шедший впереди отряда 1-й полк наткнулся на части ДВР и вступил с ними в бой. Остальные части отряда участия в этом бою не принимали, т. к. не могли своевременно подойти из-за усталости лошадей. Когда остальные силы отряда были двинуты Унгерном в нужном направлении, то наткнулись здесь на части 103-й бригады, с которыми завязали бой, имея в виду выполнение первоначальной задачи. Унгерн мог бы не принять этого боя, но не сделал этого принципиально. В боях Унгерн принимал непосредственное участие, зачастую находясь в передовых цепях, и после Троицкосавска был ранен. После поражения под Троицкосавском части Унгерна отступили весьма поспешно и беспорядочно и были сильно расстроены. Резухин, действуя на Советской территории, на Селенгинск не пошёл, т. к. части 35-й дивизии, расположенные по реке Джиде, угрожали его тылу. Отступление в пределы Монголии Резухин произвёл в полном порядке и в бодром настроении.
30) Отойдя в район Ахай-гун, Резухин прислал Унгерну донесение и просил указаний о дальнейших действиях. Унгерн приказал ему оставаться на месте. Отойдя на линию реки Иро, Унгерн решил идти на соединение с Резухиным. К этому его побуждало, во-первых, то, что он предполагал, что красные будут наступать на Ургу, и в этом случае он займёт фланговое положение; во-вторых, в прилегающей к Ургинскому тракту местности были плохие корма, и, в-третьих, соображение о необходимости единого непосредственного руководства всем отрядом.
31) Не видя в хутухте средства для упорядочения своего влияния на монгол, Унгерн, уходя из Ургинского района, не взял его с собой; и вообще он не нуждался в политической прочности своего положения в Монголии, надеясь исключительно на военное счастье, всегда ему сопутствовавшее и только теперь изменившее[168]. Оставшиеся на Иро части в случае наступления красных на Ургу должны были идти также на соединение с Резухиным.
32) О нашем наступлении в ургинском направлении Унгерн узнал, когда был сосредоточен на правом берегу реки Селенги и когда наши части достигли уже линии Ур. (урочища? – Л. Ю.) Мукутуй. О намерении красных войск, наступавших на Ургу, Унгерн не знал и предполагал целью наступления захват муки, имеющейся в большом количестве на Хара-Голе.
33) Дальнейшие действия Унгерна заключались в активности на русской территории. О политическом положении и настроении жителей он знал от беженцев, которые уверяли его, что стоит ему только появиться на русской территории, как немедленно же начнутся восстания против Советской власти. Унгерн надеялся, что при его появлении даже части Красной Армии будут переходить к нему.
34) Перебежчики, пленные и местные жители говорили также о движении японцев, о занятии ими Читы и походе на Верхнеудинск. Находясь на реке Селенге в районе Ахай-гуна, Унгерн выжидал подтверждения усиленных слухов о наступлении японцев.
35) Когда части 105-й бригады повели наступление на расположение войск Унгерна с фронта[169], а полученные от пленных сведения о движении 104-й бригады во фланг давали ему основание ожидать выхода отряда Щетинкина в тыл, Унгерн отошёл на 20 вёрст к устью пади Шабаргол. На вопрос, почему он не желал обороняться, Унгерн ответил: «Я не могу обороняться, у меня нервы не выдерживают». Атаковать же 105-ю бригаду ему не было возможности по условиям местности: с одной стороны река Селенга, с другой – скалы, занятые красными войсками.
36) Унгерн всегда был уверен, что мы с пехотой никогда не сумеем его изловить, и пехотных частей не боялся. Тыла или базы, к которой он был бы прикован, у него не было, ненужные обозы заранее были отправлены им на запад. «Я, – говорит Унгерн, – ни к чему не был привязан и всей своей кавалерийской массой мог воевать в любом направлении и в любое время». Ему странно было наше намерение окружить его пехотными частями.
37) Исходя из соображения перехода части экспедиционного корпуса к активным действиям в Монголии и продолжающегося якобы наступления японцев, Унгерн решил перейти на нашу территорию, имея целью соединение с японцами в районе Верхнеудинска. При этом он рассчитывал на поддержку населения Джидинской и Селенгинской долины. Во время пребывания Унгерна в улусах Боргойских прилетевший аэроплан был им определённо сочтён за японский. Жители Селенгинска утверждали, что на происходившем недавно митинге красные говорили, что Унгерн идёт заодно с японцами и что его войска являются их боковым отрядом. Всё это вместе взятое давало пищу уверенности Унгерна в наступлении японцев[170]. Убедившись по выходе в район Загустай – Нижний Убукун, что японцев нет и что в районе Верхнеудинска ждёт отпор, Унгерн повернул обратно в Монголию, намереваясь пройти туда примерно через Желтуринскую. Встретившиеся Унгерну по пути части 105-й бригады не помешали бы ему уйти в Монголию, если бы не автобронеотряд, который в момент атаки и начавшегося перевеса на сторону Унгерна неожиданно спустился с горы и, подойдя вплотную, обстрелял конницу Унгерна пулемётным огнём[171]. Монголы в панике бросились бежать в направлении реки Иро, задержать бегущих не представлялось никакой возможности. Пришлось невольно отступить по Иройской пади.
38) Повернув обратно в Монголию, Унгерн возымел намерение уйти через всю Монголию на юг, объясняя это решение тем, что убедился в необходимости дать здесь «пережить красное» и предупредить «красноту» на юге, где она только начинается[172]. Зарождающуюся на юге «красноту» он видит в революции, совершившейся в Южном Китае, и борьбе его с Северным Китаем.
39) Присутствие в своём отряде японцев Унгерн объясняет добровольным их вступлением. Всего насчитывалось у него до 70 человек, из них большинство бежало. Оставшиеся, до 30 человек, до последнего времени находились в отряде.
40) На вопрос об организации своего питания объяснил, что пользовался «своим скотом», каковым он считает скот, взятый у Центросоюза. Скота у местных жителей не отбирал; кроме того, у него было 150 000 (рублей. – Л. Ю.) золотом.
41) На вопрос о причинах его ненависти к евреям отвечал, что считает их главными виновниками свершившейся русской революции.
42) Агентуры в нашем расположении Унгерн не имел.
43) Управлял своим войском единолично и непосредственно, путём отдачи приказаний лично им через ординарцев.
44) Расстрел в Ново-Дмитриевке двух семей, 9 человек с детьми, был совершён с его ведома и по его личному приказанию. Также по его личному приказанию была уничтожена семья в Капчеранской, о чём в штакоре сведений не было. О побуждениях к расстрелу детей Унгерн ответил буквально:
«Чтобы не оставлять хвостов».
45) Захваченные в дацане Гусиноозерском комсостав 232-го полка и политработники были расстреляны также по его личному приказанию. По его же приказанию был расстрелян попавший к нему в плен у Шабартуя помначштабрига 104 т. Каннабих.
46) В дацане Гусиноозерском за грабёж обоза Унгерн выпорол всех лам.
47) Полковник Архипов был повешен в районе Карнаковки за присвоение денег. Полковника Казагранди отдал приказ Сухареву расстрелять за то, что тот якобы служит и ему, и красным. О приведении этого распоряжения в исполнение не знал.
48) Унгерн считает неизбежным рано или поздно наш поход на Северный Китай в союзе с революционным Южным и, говоря, что ему теперь уже всё равно, что дело его кончено, советует идти через Гоби не летом, а зимой при соблюдении следующих условий: лошади должны быть кованы, продвижение должно совершаться мелкими частями с большими дистанциями – для того, чтобы лошади могли добывать себе достаточно корму; что корма зимой там имеются, что воду вполне заменяет снег, летом же Гоби непроходима ввиду полного отсутствия воды[173].
49) На все вопросы без исключения отвечает спокойно.
На опросе присутствовали и показания опрошенного Унгерна записывали: Начальник разведотделения штакора Экспедиционного Зайцев. Адъютант комкора Герасимович.
Документ представляет собой отредактированный и обобщённый текст протокольной записи первого официального допроса Унгерна в Троицкосавске. Печатается по копии: ГА РФ, ф. Varia, д. 392, л. 7 – . Некоторые уточнения внесены по исправленной копии: РГВА, ф. 16, д. 222, л. 20 – об.
IV
Н. М. Рибо (Рябухин)
История барона Унгерн-Штернберга, рассказанная его штатным врачом
(Перевод с английского Н. М. Виноградовой.)
Размеры этой статьи не позволяют мне дать полное и исчерпывающее описание моего 9-месячного пребывания в войсках барона Унгерна со дня взятия им Урги и до той ночи, когда он бежал от своего отряда. Я вынужден ограничиться весьма кратким отчётом, практически простым перечислением событий, которые подготовили и предопределили неизбежный конец как самого барона, так и всего его дела.
Я был откомандирован из моего полка для работы в госпитале в Урге и вернулся в город 6 апреля 1921 г. Это произошло спустя несколько дней после того, как была ликвидирована угроза китайского наступления на Ургу. Потерпев перед этим неудачу при попытке через советские кордоны проникнуть в Забайкалье и далее в Маньчжурию, китайцы в приступе отчаяния бросились назад к столице Монголии. Примерно через неделю после моего возвращения в Ургу, когда я был занят в перевязочной госпиталя, туда неожиданно вошёл барон Унгерн, только что вернувшийся из своего победоносного похода на Чойры. Его сопровождал главный врач Ф. Клингенберг[174]. Приветствовав меня весёлым кивком, барон подошёл ко мне и, не сводя с меня своего воспалённого взгляда, спросил:
– Это правда, что вы убеждённый социалист?
– Нет, ваше превосходительство, это неправда, – ответил я, выдерживая его взгляд.
– Чем вы можете это подтвердить?
– В вашей дивизии служат несколько моих земляков, оренбургских казаков, которые давно знают меня. Им известно, что я делал на Урале после возвращения с фронта и каково моё отношение к крайним партиям и к большевизму. Тот факт, что я был личным врачом атамана Дутова и главным врачом штаба генерала Бакича после того, как он был интернирован в Китайском Туркестане, также достаточно характеризует мои политические взгляды. Я прибыл в Ургу согласно официальному разрешению генерала Бакича; я сопровождал в пути от Шара-Сумэ больного и престарелого генерала Комаровского, который вам хорошо известен и может проинформировать вас о характере моих политических пристрастий.
– В таком случае почему вы пытались облегчить участь бывшего комиссара Цветкова и доктора Цыганжапова, известных социалистов, которых я приказал прикончить?
Казалось, барон хотел заглянуть мне прямо в душу, сверля меня тяжёлым взглядом и нервно постукивая по полу своим ташуром (длинной тростью). Я почувcтвовал, что моя жизнь висит на волоске, и решил на этом волоске удержаться.
– Живя в Урге перед тем, как вы заняли её, – твёрдо отвечал я, – я неоднократно встречался и беседовал с Цветковым и Цыганжаповым. Из разговоров с ними я вынес уверенность, что оба они были врагами большевиков и искренне любили Россию. Естественно, когда я услышал об их аресте и о приговоре, который угрожал им как большевикам, я счёл своим долгом сообщить полковнику Архипову и коменданту Безродному всё, что я думаю об этих людях, и просить их доложить вам мои показания.
Барон на минуту задумался, наконец-то отведя глаза от моего лица.
– Ладно, – выдавил он в конце концов. – Я не очень-то доверяю Дутову и прочим из этой шайки. Все они кадеты и шли в одной упряжке с большевиками… Во всяком случае, – он внезапно сорвался на фальцет, – я не потерплю никакой преступной критики или пропаганды в моих войсках! Запомните это и знайте, что у меня повсюду глаза и уши! Через два дня вы отправитесь в Ван-Хурэ для организации санитарной службы и госпиталя в отряде полковника Казагранди!
Стукнув своим ташуром по полу, барон вышел так же стремительно, как и вошёл.
В тот же день начальник штаба Унгерна и мой друг, бывший юрист К. И. Ивановский, сказал мне, что как он понял из нескольких касающихся меня замечаний барона, своими прямыми и точными ответами я на время спас себе жизнь.
После одиннадцатидневного, скучного и утомительного путешествия, затруднённого весенней распутицей, я наконец добрался до Ван-Хурэ с караваном из шести верблюдов, группой казаков и монголами-проводниками. Место представляло собой буддийский монастырь с окружавшим его довольно большим посёлком русских колонистов и китайских купцов, которые торговали с монголами из близлежащих хошунов; одновременно это была резиденция хошунного князя. Здесь и находился полковник Казагранди со своим отрядом из 200 беженцев. Отряд существовал с весны 1920 г., когда Казагранди с горсточкой бежавших из Иркутска офицеров и кадетов организовал его и в течение нескольких месяцев не давал покоя советским властям, скрываясь в тайге к юго-востоку от Иркутска. Когда оставаться в тайге стало слишком тяжело и опасно, отряд, постоянно пополняемый всё новыми беглецами из Восточной Сибири, перебазировался в окрестности озера Косогол. Позже, вынужденный уйти и оттуда, Казагранди двинулся дальше на юг, в глубь монгольской территории. Осень и зиму он в тяжелейших условиях провёл в верховьях Эгин-Гола и Селенги. Лишь благодаря поддержке и помощи нескольких живших в этом районе русских колонистов отряд сумел выстоять и не погиб от голода и страшных зимних холодов. Наконец, в середине февраля 1921 г. Казагранди, продвигаясь со своим отрядом всё дальше на юг, обосновался в Ван-Хурэ. Когда он услышал о взятии Урги бароном Унгерном, Казагранди решил установить с ним связь и позднее перешёл под его начало в качестве командира отдельной части.
При первой встрече Казагранди произвёл на меня впечатление интеллигентного, порядочного и образованного офицера. Он никогда раньше не встречался с Унгерном и горячо расспрашивал меня о том, что представляет собой барон как личность; его чрезвычайно беспокоило, насколько справедливы слухи о диком темпераменте барона и его невероятной жестокости. Зная, что угрожает мне за искренность, критику или неодобрение, я отвечал на вопросы весьма уклончиво и осторожно. Через несколько дней барон сам должен был прибыть в Ван-Хурэ, и я посоветовал Казагранди проявить терпение и дождаться личной встречи с ним, чтобы получить представление о его характере. Казагранди не скрыл от меня, что правая рука Унгерна, старый друг и помощник барона генерал Резухин, вызывает у него сильнейшую антипатию. Резухин командовал одной из бригад (2-й и 3-й полки) дивизии, как раз той бригадой, которая только что отбила атаку китайцев на Ургу и подавила восстание чахаров в своих собственных рядах, а теперь через Ван-Хурэ выдвигалась в низовья Селенги, в район, расположенный примерно в восьмидесяти верстах от русской границы. Во время своего пребывания в Ван-Хурэ Резухин вёл себя грубо и высокомерно, как всегда, и по отношению к Казагранди принял крайне пренебрежительный и начальственный тон. Выслушивая жалобы последнего, я мог лишь усмехнуться в душе, зная, что Резухин был только бледной тенью барона, хотя старательно подражал ему поступками и характером. Казагранди был очень удивлён, получив приказ, в котором ему предписывалось отправить из Ван-Хурэ в бригаду Резухина ветеринара Гея, известного старого члена сибирской кооперативной организации «Центросоюз». В тот момент я не посмел открыть Казагранди истинный смысл этого. Оренбуржцы, мои земляки, входившие в группу казаков, специально посланных Резухиным в Ван-Хурэ, чтобы сопровождать в бригаду Гея с семьёй, не утаили от меня полученный ими секретный приказ: Гей и его семья должны быть уничтожены на первом же привале после того, как они покинут Ван-Хурэ. Казаки были рады, что Казагранди временно задержал отъезд Гея, дожидаясь, когда барон и Резухин сами прибудут в Ван-Хурэ, а также учитывая болезнь одного из детей Гея. Казагранди и Гей были связаны длительными и тесными дружескими отношениями. Гей, человек добросердечный и враг большевиков, раньше снабжал мясом армию адмирала Колчака; когда отряд Казагранди из селенгинской тайги ушёл в Монголию, Гей был в числе первых, кто доставлял им пищу, одежду и всё необходимое. Его жена обшивала офицеров и ухаживала за больными. Гей больше чем кто бы то ни было помог отряду поселиться и обустроиться в Ван-Хурэ, поскольку пользовался уважением монгольских князей и имел на них большое влияние, в особенности на князя Ван-Хурэ. Позже я слышал от самого Резухина, что хотя и утверждалось, будто Гей понёс наказание за «спекуляцию», на самом деле его смерть и смерть его семьи была нужна барону, чтобы завладеть скотом и деньгами «Центросоюза», которые будто бы находились у Гея и которые, как позднее было доказано, оказались несуществующими.
Вечером того же дня Казагранди попросил меня осмотреть заболевшую маленькую дочь Гея и дать заключение, сможет ли она вынести путешествие в тряской телеге за несколько сот вёрст. Мой визит не оставил у меня сомнений, что малышка страдает острым воспалением кишечника и нуждается в абсолютном покое на протяжении, по меньшей мере, двух или трёх недель. Результаты осмотра я немедленно доложил Казагранди. При этом я уже не мог больше сдерживать чувства, испытываемые мною при мысли о той судьбе, которая ожидает эту чудесную семью, состоявшую из двух женщин – жены Гея и её матери – и троих малолетних детей, и я забыл обо всех предосторожностях. Я не только сообщил Казагранди о том, с какой целью Гей и его семья вызваны в бригаду Резухина, но и рассказал обо всех ужасах, свидетелем которых я был со времени взятия Урги бароном Унгерном. Я рассказал Казагранди, что творилось в Урге в первые три или четыре дня после вступления в неё войск барона: десятки изнасилованных и замученных женщин, убитые дети, разрубленные на куски тела стариков; дымящиеся руины посёлка Мандал, чьи жители были истреблены только за то, что не пожелали выставить добровольцев в войска барона при осаде им Урги. Я не скрыл от Казагранди, что помимо своей беспощадности и нечеловеческой жестокости барон ещё и необыкновенно мстителен и никогда не забывает обиды; что причиной убийства полковника Хитрово, который до революции был пограничным правительственным комиссаром в Кяхте, человека старого и немощного, было исключительно то, что он осуждал зверства, учинённые Унгерном во время его пребывания в Даурии. Я объяснил, что отношение барона ко всем, кто не был с атаманом Семёновым во время Гражданской войны и не связан с забайкальскими застенками, отличается подозрительностью и оскорбительным недоверием. Для шайки преступников, дегенератов и мерзавцев, которых он взял из Даурии для участия в своей монгольской авантюре, слово «колчаковец» было уничижительным прозвищем, ругательством. Его помощники и прихвостни, начиная с Резухина, садиста Сипайло, прирождённого уголовника Безродного, и кончая главными палачами и мучителями Бурдуковским и Пермяковым, – все старались превзойти своего хозяина в жестокости и зверствах. Когда наш разговор подошёл к концу, Казагранди выглядел очень расстроенным и взволнованным. Он признался, что испытывает теперь сильные сомнения относительно того, правильным ли было его решение связать свою судьбу и судьбу своего отряда с бароном; пока что он не видел никакого выхода из создавшейся ситуации. Всё же он собирался принять все меры к тому, чтобы в дальнейшем свести к минимуму свою зависимость от Унгерна.
Для госпиталя мне отвели большой пустой дом, прежде занимаемый китайской лавкой, и я разместил там пятьдесят коек, половина которых сразу же была занята ранеными и больными из отрядов Резухина и Казагранди. Лично для меня поставили посреди двора большую юрту. В ней была железная печка, так как ночи стояли ещё холодные, временами даже морозные.
Точно не помню, в первую ночь, проведённую мною в юрте, или на следующую Казагранди прислал мне записку с просьбой разрешить некоему лицу, которого я ещё не видел в Ван-Хурэ, переночевать у меня. Незнакомец оказался немолодым человеком с глуховатым голосом, мягкими манерами и маленькой седой бородкой. Он представился как профессор Ф. Оссендовский. В то время я не мог предполагать, что даю пристанище будущему автору книги «Звери, люди и боги», которая вызвала такой большой интерес в Америке. Господин Оссендовский оказался весьма приятным и увлекательным собеседником, и за традиционным стаканом чая мы проговорили с ним большую часть ночи. Он рассказывал о трудностях и лишениях, перенесённых им со времени бегства от большевиков из Сибири и на пути через Урянхай к Улясутаю. Он упомянул о пережитых им в Улясутае ужасах и о своём намерении ехать в Ургу, чтобы затем выбраться на Дальний Восток, в Китай, и в конце концов в Польшу. Он сказал, что из всех попутчиков, вместе с ним выехавших из Улясутая, в Ван-Хурэ прибыл только капитан Филиппов, остальные по дороге были задержаны карательной экспедицией под командой Безродного, которого барон с чрезвычайными полномочиями отправил из Урги в Улясутай, чтобы чинить там суд и расправу. Если г. Оссендовский простит меня, я признаюсь, что не могу припомнить ни единого слова, касающегося его отряда, равно как и его попыток проникнуть в Тибет, о чём он столь красочно и подробно рассказал в своей книге. Что же касается его страха перед бароном и их последующей встречи, это я помню очень хорошо.
Г. Оссендовский намерен был остаться в моей юрте ещё на одну ночь, но вместо него со мной поселился генерал Резухин, который поздно ночью совершенно неожиданно прискакал с Селенги. Я узнал от него, что он приехал повидаться с бароном, чьё прибытие ожидалось в ближайшие два-три дня. Он также сказал мне, что решил ходатайствовать перед Унгерном о моём переводе в его собственную бригаду, поскольку Казагранди с его маленьким отрядом не так сильно нуждается во враче, как он сам. В приступе внезапной откровенности после нескольких глотков, сделанных им из фляжки, Резухин рассказал мне, что по прибытии барон проведёт совещание с ним самим и Казагранди относительно предстоящего «похода на Россию» и начала широкомасштабной войны против советской власти. Немедленно после этого, услышав от меня, что Казагранди из-за болезни ребёнка отсрочил отправку Гея с семьёй в его части, Резухин впал в бешенство, осыпая проклятьями Казагранди и даже меня упрекая за согласие осмотреть больную малышку и дать заключение о её состоянии. Он приказал вызвать начальника конвоя, прапорщика Гордеева, бывшего университетского студента, и когда тот вошёл, набросился на него. Он кричал, что он, Резухин, его непосредственный начальник; что он, Резухин, является заместителем барона, и Гордеев не должен был слушать «какого-то» Казагранди, который ведёт себя, как «сентиментальная девица из колчаковского пансиона»; что Гордеев будет сурово наказан за неисполнение приказа; что он повторяет свой приказ: немедленно увести Гея с семьёй в сопки и поступить с ними, как было велено. Имущество доктора Резухин распорядился пока не трогать.
Когда наступил вечер следующего дня, вечер Пасхи, в одном из пустовавших сараев по соседству с моим госпиталем адъютанты Резухина уже заняты были тем, что рылись в вещах убитого Гея, тщетно стараясь найти несуществующие деньги и драгоценности. К счастью, ограниченные размеры моих записок избавляют меня от изложения отвратительных подробностей этого ужасного убийства невинных детей и женщин, как они были переданы мне участниками дела.
Мне не известно содержание разговора, который утром того же дня состоялся между Резухиным и Казагранди, но во время Пасхальной Всенощной последний был очень бледен и казался взволнованным. Когда служба закончилась, Резухин, не обменявшись пасхальными поздравлениями с Казагранди, отклонил его приглашение прийти к нему домой на пасхальный ужин и подчёркнуто заявил, что собирается лечь спать.
На следующий день барон наконец прибыл в Ван-Хурэ. Я переселился в госпиталь, в то время как барон с Резухиным заняли мою юрту. Казагранди был первым, кого принял барон, и они оставались наедине в течение довольно долгого времени. Когда Казагранди в конце концов вышел, было уже сумеречно, и перед входом в юрту собралась небольшая кучка людей, дожидавшихся приёма у барона. Среди них я заметил Оссендовского и Филиппова. Оссендовский был первым, кого позвали в юрту. Перед тем, как откинуть служивший дверью войлочный полог, он несколько раз торопливо осенил себя крёстным знамением. Минут через пятнадцать Оссендовский появился снова, повеселевший и бодрый, и в юрту пригласили капитана Филиппова. Все мы в госпитале, всего четырьмя шагами отделённом от войлочной стенки юрты, отчётливо слышали хриплый от ярости голос барона, переходящий в визг и обвинявший Филиппова во лжи; барон не верил ни слову из сказанного Филипповым; тот, конечно же, был большевистский агент и шпион, прибывший в Монголию с единственной целью разложить войска барона революционной пропагандой. Не прошло и пяти минут, как адъютант Резухина, капитан Веселовский с несколькими ординарцами связали Филиппову руки, отвели его в соседний огород и шашками изрубили в куски.
В ту же ночь в моей юрте между бароном, Резухиным и Казагранди состоялось совещание по выработке плана наступательной кампании против советских войск. Как впоследствии говорил мне сам Резухин, предложенный им план был отвергнут бароном. Резухин предложил, чтобы его бригада была увеличена за счёт присоединения к ней отрядов Кайгородова из Кобдо, атамана Казанцева из Улясутая и Казагранди и доведена до численности дивизии, образовав тем самым ударную группу, которая будет выдвигаться по левому, западному берегу Селенги через Селенгинск на Мысовую. Сам барон со всеми силами, оставшимися под его командой в Урге, должен двигаться по западному берегу реки Орхон на Кяхту, Троицкосавск, Верхнеудинск и далее в Забайкалье. План Казагранди, в конце концов принятый бароном, состоял в том, что каждый из этих отрядов должен действовать самостоятельно: Кайгородов должен вести кампанию в районе Кобдо – Бийск и вдоль реки Катунь; Казанцеву предстояло через Урянхай выйти к верховьям Енисея и к Минусинску; Казагранди – занять посёлок Модонкуль в верховьях Джиды и оттуда постепенно выходить к озеру Косогол и на дороги, ведущие к Иркутску. Резухин по рекам Желтура и Джида и по западному берегу Селенги должен двигаться к Байкалу. Барону в плане Казагранди отводилось то же направление, что и в резухинском. Естественно, надежда на успех покоилась исключительно на уверенности вождей в том, что начнётся повсеместное восстание населения против советской власти и будет огромный приток добровольцев. Как показало будущее, такая уверенность имела под собой все основания.
8 мая барон снова отбыл в Ургу, предварительно распорядившись выслать «карательную экспедицию»во главе с младшими казачьими офицерами М. и Т. в район озера Косогол. Там проживало несколько семей богатых русских поселенцев. «Карательная экспедиция» имела приказ перебить их и конфисковать их имущество, запасы продовольствия и ценности. Как позже я имел возможность убедиться, М. и Т. блестяще справились с этим поручением. Они уничтожили всё богатое и зажиточное население в Дархате и Хотхыле. Они убили Шпигеля, пионера школьного дела в Монголии, хорошо известного во всём Хотхыльском хошуне, и всю его семью. Они не щадили ни женщин, ни детей. Правда, они не привезли с собой много добычи, потому что большую часть утаили и зарыли по дороге, надеясь через какое-то время вернуться туда и на этом разбогатеть.
Утром 9 мая Резухин тоже ускакал на Селенгу со своим отрядом, а спустя несколько часов я последовал за ним, передав госпиталь доктору Дезорцеву. 15 мая мы прибыли в лагерь резухинской бригады на Селенге, примерно в пятнадцати верстах вверх по течению от того места, где в неё впадает речка Баин-гол. Люди уже строили постоянный мост через Селенгу, который был закончен в течение нескольких ближайших дней. Так как мне предстояло быстро завершить формирование госпиталя и санитарных отрядов, я поинтересовался временем начала кампании. В ответ Резухин признался мне, что сам не знает. Это зависит, сказал он, от нескольких лам-прорицателей, без предварительного совета с которыми барон никогда не предпринимает никаких важных шагов и которые с ним неразлучны. Позже, когда барон присоединился к нам после своего поражения под Кяхтой, эти наглые, грязные, невежественные и кривоногие пифии служили мишенью насмешек, всяческих шуточек и доставляли много веселья всему отряду. Сам Резухин не слишком доверял их пророческим способностям и в интимном кругу не раз выражал сомнения в целесообразности их постоянного пребывания при бароне.
Наконец, 30 мая[175] от Унгерна пришла депеша с приказом немедленно выступать и действовать согласно намеченному для бригады плану. Мы получили также копии знаменитого «Приказа № 15», в котором указывались цели и задачи нашей борьбы с большевиками. Приказ был слишком длинен. Его основным лозунгом был старый: «За Веру, Царя и Отечество!» В параграфе 9 прямо говорилось: «Комиссаров, коммунистов и евреев уничтожать вместе с семьями; всё их имущество конфисковывать». Нормальному человеку весь этот документ должен был казаться продуктом помрачённого сознания извращенца, страдающего манией величия и возбуждённого жаждой человеческой крови. Большинство из нас, «колчаковцев», восприняли приказ именно так. Даже Резухин был слегка смущён его содержанием.
На следующий день мы выступили по направлению к реке Желтуре и станице Желтуринской. 26 мая в Худаке мы неожиданно атаковали и разгромили отряд красных под командой бывшего есаула Щетинкина, который был выслан туда на разведку. Мы захватили десятки пленных – большинство их тут же изрубили шашками, штаб отряда и одно орудие. Самому Щетинкину с несколькими всадниками удалось проскользнуть у нас между пальцами и скрыться в тайге. Наши потери составили двое убитых и около десятка раненых. В двуколке, следовавшей за отрядом красных, мы обнаружили несколько галлонов самогона. Есаул Хоботов, который был произведён в полковники и назначен командиром 2-го полка за храбрость, проявленную им при взятии Худака, но который оставался абсолютно неграмотным, простым и грубым забайкальским казаком, решил отпраздновать нашу победу за счёт запасов этой трофейной жидкости. Резухин, чью палатку отделял от моего госпиталя только узенький ручеёк и несколько кустов дикой вишни, вызвал Хоботова к себе для доклада. Интуиция старого пьяницы с первого взгляда подсказала ему, что Хоботов не в состоянии докладывать о чём бы то ни было. Мы услышали дикую нецензурную брань, затем несколько ударов ташура по крепкой скуле командира 2-го полка и пятью минутами позже увидели смущённое, опухшее и окровавленное лицо Хоботова. Резухин подверг его обычному наказанию: виновный должен был забраться на стоявшую над ручьём высокую сосну и целую ночь провести на одной из ветвей, постоянно рискуя свалиться с высоты тридцати пяти или сорока футов и покалечиться. Но то, что произошло позже в эту ночь, было уже не акробатическим фарсом, а настоящей драмой. Кто-то донёс, что староста соседней бурятской деревушки является тайным большевистским агентом и шпионом. Староста был схвачен и доставлен в штаб для допроса. Попытки сослаться на то, что его зять и два племянника служат добровольцами в одном из наших полков, не спасли его от неминуемой кары. По приказу Резухина он был подвергнут обычной пытке. Его били палками до тех пор, пока он не лишился сознания, и мы, находясь неподалёку, в течение нескольких часов слышали душераздирающие крики и стоны. В долине, наполненной благоуханием цветущей дикой вишни, степных лилий, диких гиацинтов и шиповника, под тёплым звёздным небом майской ночи эти стоны и крики казались особенно ужасными и кощунственными. Никто в госпитале, включая раненых, не мог уснуть, и на лицах вокруг меня я видел и растерянность, и ужас, и бессильное негодование. Не сумев добиться от этого человека никакого признания, Резухин приказал положить его голым на тлеющие угли лагерного костра. Мы услышали нечеловеческий вопль и затем всё стихло. Полубезумный замученный человек потерял сознание. Когда попытки снова привести его в чувство, обливая холодной водой, ни к чему не привели, Резухин велел своему адъютанту и палачу Веселовскому оттащить безжизненное тело подальше в кусты и там покончить с ним. Веселовский, уже устав, перепоручил это другому ординарцу и пошёл в свою палатку спать. Рано утром часовые обнаружили, что обгоревшее, лишённое кожи тело ползёт по дороге, и доложили об этом Резухину. Тот приказал прикончить и закопать старика, а Веселовский за неисполнение приказа три ночи до нашего выступления провёл на той же самой сосне, где перед этим сидел Хоботов.
30 и 31 мая мы предприняли несколько безуспешных попыток захватить станицу Желтуринскую. Находившийся там красный гарнизон защищался очень храбро и умело, тем временем красная кавалерия внезапно бросилась в атаку и едва не взяла в плен самого Резухина со всем штабом, когда он управлял боем с вершины холма[176]. Мы понесли довольно серьёзные потери убитыми и ранеными. В ночь на 1 июня мы отступили от Желтуринской и разбили лагерь примерно в тридцати верстах от неё. Затем ночью, под проливным дождём, мы прошли около сорока вёрст и наконец вышли к селу Боцинскому на реке Джиде. Горсточка красных в окопах отчаянно обороняла подступы к селу, но наши части, имея огромный численный перевес, окружили их и уничтожили до последнего человека. Оборванные и полуголодные жители села на коленях встретили Резухина на площади перед осквернённой и закрытой церковью. На их приветствия Резухин ответил требованием немедленно выдать всех коммунистов и членов сельсовета. Услышав робкие объяснения, что все те, кто был связан с сельсоветом, скрылись при первых звуках боя, Резухин впал в бешенство. В ярости он начал с того, что велел повесить управляющего местной кооперативной лавкой, очень старого и больного на вид человека. Не раньше, чем вмешался полковник Костерин, объяснивший генералу, что тот ошибается, принимая лавку потребительской кооперации за советское учреждение, и после того, как люди в толпе торжественно поклялись, что старик никогда не был коммунистом, была снята петля, которую наши буряты уже накинули ему на шею. Село не могло выставить никаких добровольцев, поскольку все способные носить оружие либо были мобилизованы большевиками, либо до лучших времён отосланы в Мысовую и Читу. В тот же вечер после короткого боя мы заняли село Новые Энхоры, а спустя час красные бежали и из Старых Энхор. Здесь была схвачена учительница местной школы, коммунистка, по данным контрразведки. Резухин приказал зарубить её, но перед смертью она была изнасилована почти всеми нашими контрразведчиками.
Перейдя вброд Джиду, мы провели ночь на её западном берегу, в сопках, а утром были атакованы отрядом красных, которые ещё не знали о взятии Энхор и направлялись туда. После недолгого боя красные были рассеяны нашей конницей, многие убиты, остальные бежали в сторону Желтуры. Когда стемнело, мы снялись с лагеря и, двигаясь вниз по течению Джиды, рано утром неожиданно появились перед спящими аванпостами противника. После жаркого боя мы захватили Дарастуйский дацан и высоты к западу и северу от него. Красные в беспорядке отступили к Сосновке, оставив в наших руках свыше сотни пленных, около десятка пулемётов и много винтовок и подвод.
Прежде чем преследовать врага и продолжать наступление, Резухин устроил что-то вроде военного совета, на котором я тоже должен был присутствовать. В нём приняли участие командиры обоих полков, а также командир Монгольского дивизиона, командир Бурятской сотни и такие заместители полковых командиров, как полковники К. и О.[177] Оба они были старыми боевыми офицерами. Один на Великой войне командовал полком, имел Георгиевский крест и несколько ранений и был образованным и опытным офицером. Он был приставлен заместителем к Хоботову, но по сути дела командовал полком. Такое положение вполне устраивало и Резухина, и самого Хоботова. Полковник О., тоже кадровый офицер, окончивший Академию Генерального Штаба, вернулся с войны в чине подполковника, занимал ответственный пост в армии Колчака; его назначили заместителем к командиру 3-го полка, бывшему сельскому приставу, теперь казачьему полковнику буряту Очирову. Оба эти офицера были мобилизованы Унгерном в Урге, куда они прибыли вместе со мной из армии генерала Бакича. С обоими меня связывала тесная дружба, продолжающаяся по сей день.
Резухин сообщил всем нам, собравшимся у него, что по его данным красные сконцентрировали крупные силы с мощной артиллерией в районе Сосновки; что вслед за нами движутся красные гарнизонные отряды, пришедшие с Желтуры и с верховьев Джиды; что он не имеет известий от барона, но, по словам бурят, присоединившихся к нам после переправы через Селенгу, тот встретился с трудностями. Согласно тем же слухам, Казагранди после успешного занятия Модонкуля был вскоре выбит оттуда красными и отступил далеко на юг, в глубь монгольской территории. Я доложил, что у нас ранено около 120 человек, многие из них – тяжело. Запряжённые полудикими монгольскими лошадьми двуколки без рессор были единственным транспортным средством госпиталя, а так как мы двигались по горным дорогам, вообще не пригодным для каких бы то ни было повозок, воздух оглашался стонами и воплями раненых, чьи страдания от тряски по камням и рытвинам были слишком велики, чтобы заглушить их инъекциями наркотиков. Если раненые будут оставлены в таких условиях, большинство их неизбежно умрёт. Поэтому я настаивал на эвакуации всех тяжелораненых в Ургу, где им будет обеспечен нормальный госпитальный уход. Резухин также спросил мнение собравшихся о том, что делать с захваченными в плен красными бойцами. Среди них, разумеется, не было командиров, потому что все командиры, начиная с взводных и выше, расстреливались, как правило, на месте. Мнение полковников К. и О. заключалось в том, что из этих пленных, которых было около двухсот, нужно сформировать пехотную команду и во время переходов перевозить её на подводах. Резухин, хотя и не без труда, позволил убедить себя, что план достаточно разумен, чтобы ему последовать; он боялся, однако, вызвать гнев барона. Последний обычно предпочитал допускать пленных красных лишь к нестроевой службе: они служили санитарами, денщиками, обозными и т. д. Ближе к вечеру наш отряд выступил назад по той же дороге, по которой мы пришли. Однако Резухин, опасаясь, что нас могут атаковать сразу с фронта и с тыла, решил опять перейти вброд Джиду и продвигаться по её правому берегу к Селенге и станице Цаган-Усуевской. Успешно переправившись через реку, которая была неглубокой в этом месте, мы прошли около четырех вёрст к востоку и из-за тёмной ночи и внезапно застигшей нас бури остановились на ночь у подножия сопок, отделявших нас от Селенги.
Рано утром на другой день, 8 июня, большой отряд красной пехоты, двигавшийся с Желтуры, появился на левом берегу Джиды и, заметив нас, обстрелял наш лагерь из артиллерии. Благодаря значительному расстоянию наши потери были невелики. Поспешно отступив к расположенным поблизости песчаным холмам, под вечер мы подошли к Цаган-Усуевской, где планировали заночевать. Вскоре, однако, нас атаковал крупный отряд советских войск, и мы вынуждены были ночью продолжать отходить дальше на юго-запад, стараясь держаться параллельно течению Селенги, хотя большую часть времени были отрезаны от неё горами и непроходимыми таёжными лесами. Красные преследовали нас неотступно. Тяготы отступления усугублялись отсутствием воды и невыносимой жарой, так как ближайшего леса мы достигли только спустя двадцать восемь часов после того, как покинули Цаган-Усуевскую. Не менее двадцати раненых умерло от истощения и от мучений, причиняемых им жаждой. Сотни лошадей, обессилевших настолько, что не могли двигаться, были оставлены красным. Но и последние, тоже, должно быть, до крайности изнурённые условиями, в которых им приходилось вести преследование, наконец прекратили давление на наши тылы и дали нам возможность спокойно отдыхать всю ночь и целый день 9 июня.
Вечером того же дня мы остановились в лесистых холмах примерно в пятнадцати верстах от Селенги, и я получил приказ подготовить тех раненых, которых я отберу, к переправе через реку и к дальнейшей эвакуации в Ургу, находившуюся на расстоянии около 400 вёрст. После обеда на следующий день, когда я докладывал Резухину, что раненые готовы к эвакуации, неподалёку послышалась ружейная и пулемётная стрельба, и пули запели вокруг нас свою безошибочно узнаваемую песню. Это был авангард красных, которые, подойдя к краю лесного оврага, вдоль которого мы разбили лагерь, окружили сотни 2-го полка и неожиданно атаковали их. Завязалась кровавая рукопашная схватка, в результате чего мы понесли довольно большие потери убитыми и ранеными, хотя красные были отброшены обратно в сопки. В числе раненых был полковник Костерин, который лично управлял пулемётом и огнём в упор опустошал ряды красных. Когда настала ночь, под прикрытием темноты и грозы, необычайно сильной даже для тех мест, мы двинулись по оврагу и вышли по нему в прибрежную долину Селенги. Здесь раненые, предназначенные к эвакуации, были, наконец, переправлены через реку. Во время переправы, проходившей на двух случайно найденных лодках, Резухин, придравшись к какому-то пустяку, набросился на одного из санитаров, которые сопровождали раненых, и жестоко его избил, серьёзно повредив ему один глаз и выбив несколько зубов. В ответ на мою попытку вступиться за избиваемого Резухин закричал, что в следующий раз, если я вмешаюсь в его действия, он меня пристрелит. В том состоянии физического и морального истощения, в котором тогда находилось большинство из нас, я, помню, пожалел, что угроза генерала не была приведена в исполнение незамедлительно.
Однако угроза Резухина произвела несколько иное впечатление на тех, кто был свидетелем этой сцены. В тот же день после обеда, когда наш отряд, прикрывшись неглубокими окопами со стороны сопок, откуда могли появиться красные, и с тыла окружённый Селенгой, спокойно стоял лагерем в долине, многие из офицеров и казаков, моих земляков по Оренбургскому казачьему округу, заходили в мою палатку, чтобы выразить мне своё сочувствие по поводу недавнего инцидента. Все они выражали искреннее возмущение и отвращение к той системе террора по отношению к противнику и грубого произвола и побоев по отношению к подчинённым, которую Резухин усвоил в подражание своему кумиру Унгерну. Оренбургские казаки заявили, что когда во время осады Урги они дезертировали из рядов Красной армии под Кяхтой (две сотни полностью) и пришли к Унгерну, они понятия не имели, что меняют одну тиранию на другую; что даже командиры Красной армии не позволяли себе бить казаков по лицу и унижать их человеческое достоинство, тогда как теперь они видят всё это на протяжении месяцев.
Вечером 11 июня Резухин, действуя согласно своей теории о том, что красные не посмеют спуститься в долину и вступить в открытый бой, повёл нас в глубь лесов, тянувшихся вдоль Селенги, и за соседние сопки, оставив небольшой отряд для наблюдения и прикрытия. 12 июня красные силами 310-го и 311-го пехотных полков спустились в долину и повели широкое наступление на те наши части, которые остались в окопах. Услышав сигналы тревоги, наши главные силы подошли к сопкам, в то время как те, кто находились в окопах, покинули их и отошли к реке, думая соединиться там с главными силами. Одним из первых был ранен в плечо Резухин, вследствие чего передал командование полковнику Островскому. Выдерживая сильный артиллерийский, пулемётный и ружейный огонь, который мы вели с вершин сопок, красные продолжали упорно и методично продвигаться по долине, отражая фланговые атаки нашей конницы. Их передняя цепь залегла уже у самого подножья первой сопки, дожидаясь, когда соберётся побольше людей, чтобы нанести нам решительный удар, и тогда полковник Островский решил использовать нашу пехоту, созданную из пленных красных. По команде «В атаку!» они с оглушительными криками «Ура!» и «За Россию!» сверху обрушились на красных, карабкавшихся по склону, сметая их в штыковом бою, и через десять минут цепи красных, смешавшись, побежали, преследуемые нашей конницей и уничтожаемые нашей шрапнелью. Но их правый фланг под прикрытием эскадрона красной кавалерии отступал медленно. Тотчас этот эскадрон был атакован 5-й сотней оренбургских казаков. Опрокинутый после яростной кавалерийской схватки, он расстроил ряды собственной пехоты и привёл её в замешательство. Разгром красных был полным и сокрушительным. Нам досталось около 200 пленных, два орудия, примерно десять пулемётов и целый бригадный госпиталь, правда без врачей и санитаров, которые благоразумно исчезли, бросив всё на произвол судьбы.
Отступив около пятнадцати вёрст от места сражения, мы провели чуть ли не два дня, приводя в порядок и подсчитывая наши живые и вещественные трофеи. Резухин, казалось, был недоволен нашим успехом и, по словам полковника Островского, упрекал его за недостаточно умелое руководство боем, выражая сожаление, что рана помешала ему лично возглавить войска. Естественно, я лучше чем кто-либо знал, что его ранение – навылет сквозь мякоть плеча – было лёгким и не могло при необходимости помешать ему остаться в строю и командовать войсками. Было совершенно ясно, что причина его недовольства заключалась в том выдающемся успехе, которого мы добились не только без помощи его стратегических талантов, но, напротив, скорее даже благодаря тому, что он не сумел их проявить. Его приказ произвести чистку среди пленных, результатом чего стал расстрел более чем сорока из них, вновь вызвал сильное, хотя и скрытое, недовольство лучших элементов нашего отряда. Затем в течение трёх дней мы большими переходами двигались к нашему лагерю в Монголии возле моста через Селенгу. Красные нас не преследовали, если не считать двух или трёх попыток их авиаторов сбросить бомбы на наши движущиеся колонны.
Я не могу обойти молчанием один эпизод тех дней, не существенный сам по себе, но имевший важные последствия. По дороге мы встретили курьера из Урги, который доставил Резухину пакет от ургинского коменданта Сипайло. Как мы узнали впоследствии, пакет содержал в себе приказ «ликвидировать» кавалериста 2-го полка Спицына, широко известного старожила Монголии, купца из Урги; он был призван на службу Унгерном после взятия города. Основанием для приказа послужило то, что, по данным Сипайло, брат Спицына в 1918 г. был большевистским комиссаром в Хайларе. Спицына, интеллигентного и приятного человека, очень любили в сотне и в полку. Он показал себя храбрым солдатом и был легко ранен в бою под Энхорами, где управлял пулемётом. Резухин отдал приказ немедленно, прямо на марше, вызвать его из рядов, отвести в сопки и там пристрелить. Никто так и не понял действительную причину того, что к Спицыну подъехали двое всадников из комендантской команды, а затем они все вместе поскакали к опушке ближайшего леса. Однако один из командиров не сумел, очевидно, сдержаться и шепнул словечко находившимся возле казакам. Когда это известие распространилось, вызвав всеобщее возмущение, поднялся ропот, достигший самого командира полка Хоботова. Делегация офицеров во главе с Хоботовым и раненым полковником Костериным подскакала к Резухину, который ехал впереди отряда. Костерин от имени всей делегации обратился к генералу с просьбой отсрочить приговор. Резухин, хотя и был встревожен всеобщим недовольством до такой степени, что даже утратил свой обычный грубый и высокомерный тон, тем не менее не посмел противиться приказу Сипайло. Да было уже и слишком поздно, так как прежде чем делегаты успели закончить переговоры с Резухиным, двое экзекуторов уже вернулись и доложили ему, что приказ исполнен.
15 июня, когда до нашей базы на Селенге оставался один дневной переход, мы наконец получили долгожданные известия от барона. Он кратко сообщал Резухину о своём поражении под Кяхтой 9 июня[178]. Была потеряна вся артиллерия и большая часть пулемётов. Правда, красные захватили всего несколько пленных, так как унгерновцы рассеялись по окрестным лесам и теперь только ещё возвращались в свои части. Барон отступил на монгольскую территорию; противник его не преследовал, и немедленно после приведения бригады в надлежащий вид он намеревался идти к Селенге на соединение с Резухиным. Кажется, главной причиной поражения были те самые ламы-предсказатели. По их мнению, барону не следовало до определённого дня пускать в ход свою артиллерию и пулемёты. Он решил последовать их совету, но красные атаковали его раньше, чем настал этот день. В итоге пушки были взяты вместе с пристяжными лошадьми и верблюжьими упряжками, а пулемёты захвачены с двуколками, на которых они стояли.
29 июня во главе двух своих полков, 1-го и 4-го, Монгольского дивизиона, двух сотен китайцев и полуротой японских добровольцев барон подошёл к мосту через Селенгу и принял командование над всеми силами. Прибывшие с ним части, так же, как его штаб, расположились лагерем на правом, восточном, берегу реки, среди холмов и болот, кишащих змеями. Почти ежедневно были случаи змеиных укусов, и хотя никто не умер, жертвы в течение довольно долгого времени страдали от воспаления и лихорадки, после чего развивался паралич повреждённой конечности. Любопытно было наблюдать, что этот яд оказывал гораздо более сильное действие на лошадей, многие из них умирали от змеиных укусов. Следуя советам своих лам-прорицателей, Унгерн строжайше запретил убивать змей. Но солдаты, несмотря на запрет, безжалостно уничтожали этих рептилий. Барон решительно отказывался переправить свои части на нашу сторону, на левый берег реки, где был лагерь бригады Резухина и где змей было совсем мало. Каждую ночь играли тревогу, и даже медицинский персонал принимал участие в учениях. По сигналу трубы все мы должны были поспешно седлать лошадей, бросаться в реку и плыть через неё. Во время этих ночных переправ многие монголы погибали, так как, пугаясь глубины, хватались за головы лошадей, топили их и тонули сами. Это продолжалось до тех пор, пока разлившаяся от летнего паводка Селенга не положила конец этим диким развлечениям сумасшедшего маньяка. Наконец налёты вражеских аэропланов, которые становились всё более частыми и от которых мы несли большие потери, особенно лошадьми, вынудили барона сконцентрировать наши части в лесах на левом берегу. Сам он со своим штабом оставался, однако, на правом берегу; связь с ними поддерживалась на лодках после того, как однажды ночью вода поднялась на десять футов и разрушила мост, построенный с такими мучениями. В те дни барон свирепствовал без снисхождения. Он приказал сжечь заживо студента-медика Езерского[179], присланного Сипайло из Урги, потому что Сипайло доложил, что по сведениям контрразведки прежде чем прибыть в Ургу Езерский занимал какую-то должность в советском Комиссариате здравоохранения в Иркутске. Дёмин, старый русский поселенец в Монголии, был затребован из Ван-Хурэ, чтобы наладить снабжение дивизии мясом. Убеждённый, что его везут к Унгерну на расстрел, Дёмин по дороге сам бросился с коня в Селенгу и утонул прямо на глазах у своего конвоя. После того, как конвойные доложили о случившемся барону, они были безжалостно биты палками и провели несколько дней без еды.
Для ежедневного доклада я должен был в ветхой дырявой лодчонке переправляться через реку, которая была теперь в несколько вёрст шириной, и после маневрирования между бесчисленными островками высаживаться на возвышенности, где располагался барон со своей комендантской командой. Докладывая, я часто слышал вопли тех, кого по его приказу били палками; сосны вокруг были усеяны людьми, которые просиживали там иногда по двадцать четыре часа, а то и дольше. Это были офицеры и казаки, зачастую перед тем избитые. Многие из них не имели ни малейшего понятия о том, за что они наказаны. Резухин на другом берегу старался не отстать от своего хозяина в суровости применяемых наказаний. Настроение в полках было подавленным и озлобленным. Всюду слышался ропот, раздавались угрозы покончить с этим «каторжным режимом». Все те, в ком ещё уцелело чувство собственного достоинства и способность к протесту, сходились возле палаток моего госпиталя для доверительных бесед.
15 июля пришли новости о взятии красными Урги. Многие наши офицеры и солдаты имели там дома, у многих остались там семьи, жёны. На вопрос одного из офицеров о судьбе их близких Унгерн цинично ответил, что «настоящий воин не должен иметь никаких близких», потому что от тревоги за них убывает храбрость. Атаман Сухарев, забайкальский казак, с небольшим отрядом его земляков-забайкальцев был в это время послан в Монголию якобы с целью найти Казагранди и вручить ему приказ о передаче командования самому Сухареву. Вслед за тем последний должен был немедленно идти на соединение с главными силами барона. После отъезда Сухарева стало известно, что он получил приказ убить Казагранди и верных ему офицеров. Сухарев, однако, повёл отряд Казагранди не к барону, а через Внутреннюю Монголию в Китай. На границе Мукденской провинции китайские власти приняли их за банду хунхузов, сам Сухарев был убит в бою с китайцами, и вместе с ним погибла большая часть отряда.
Конец Унгерна и всей его авантюры мог бы наступить гораздо раньше, если бы он не втянул дивизию в новые походы и сражения. В ночь на 17 июля он начал наступление по тому же маршруту, по которому месяцем ранее мы двигались под командой Резухина. Мы пересекли границу и после ряда успешных для нас боёв вышли к восточному берегу Гусиного озера. 30 июля мы атаковали Гусиноозерский дацан. Его защищали два пехотных батальона и батарея из четырех орудий. Чтобы отвлечь артиллерийский огонь от тех наших сотен, которые уже начали окружать противника, Унгерн приказал обозу и госпиталю двигаться по открытой дороге, прямо на виду у врага. В результате сотни незамеченными подошли к дацану из-за холмов, в то время как в госпитале несколько человек было убито и ранено шрапнельным огнём. После часового рукопашного боя среди монгольских юрт и храмов дацан был нами взят. Нам досталось около 400 пленных и все орудия. Офицеры Красной армии самоубийство предпочли плену с неизбежными пытками и застрелились на глазах у победителей. Командир одного из батальонов застрелился, стоя уже по шею в воде. Немедленно после боя Унгерн распорядился построить пленных и, пройдя вдоль рядов, «по глазам и лицам» определил, кто из них является красными добровольцами и коммунистами, а кто достаточно «надёжен» для того, чтобы вступить в наши ряды. Свыше сотни человек были отнесены им к первой категории; комендантской команде Бурдуковского было приказано тут же их уничтожить. Но, как позднее свидетельствовали их оставшиеся в живых товарищи, большинство убитых пленных были крестьяне, насильно мобилизованные красными в Томской и Иркутской губерниях.
Достигнув северной оконечности Гусиного озера, дивизия на день разбила лагерь. Унгерн ещё не решил, что делать дальше. Его ламы советовали ему продолжать идти на север и атаковать Мысовую на Байкале, но со слов пленных и бурят стало известно, что красные вполне подготовились к тому, чтобы не только отразить такое наступление, но и захватить в плен всю дивизию, не оставив нам ни малейшего шанса вырваться. Высоты по обеим сторонам ведущей к Мысовой широкой долины были укреплены и заняты красной конницей. Следом за нами, как мы вскоре это обнаружили, шли два советских полка с бронемашинами[181][180]. Красные беспрестанно атаковали нас, пытаясь нам помешать, но всякий раз мы отбрасывали их в сопки, расчищая себе путь.
Когда мы подошли к Эгин-Голу, то разделились: после переправы через реку Резухин с 1-м и 2-м полками остался прикрывать наш тыл. Остальные части дивизии, включая артиллерию, под командой барона двигались впереди на расстоянии двух переходов, держа направление на юго-запад параллельно Селенге. Во время этого отступления Унгерн лютовал, как никогда прежде. Бешеным галопом проносясь вдоль рядов отступающей дивизии, которая длинной вереницей тянулась сквозь леса, он беспощадно избивал каждого, кто попадался ему на глаза, не делая исключения для тех легкораненных, кто ехал верхом. Хоботов и Марков, командиры полков, ходили с перевязанными головами после того, как Унгерн избил их своим ташуром; то же самое произошло с начальником артиллерии полковником Дмитриевым. На одном из привалов был жестоко избит полковник Тарновский, бывший командир стрелкового полка в Южной армии адмирала Колчака. Резухин старался не отставать в этом от своего хозяина, особенно после того, как сам был избит Унгерном, заставшим его спящим возле лагерного костра. Как правило, Унгерн избивал лишь тех, кто пришёл с ним из Даурии и кто, как он однажды заметил в разговоре со мной, были полулюдьми, способными жить и воевать только до тех пор, пока их бьют. Упомянутый выше полковник Тарновский, если память мне не изменяет, был единственным исключением. Как правило, если Унгерн находил виновным «колчаковца», то приказывал ему спешиться и в полной экипировке идти десятки вёрст, а по прибытии в лагерь залезть на дерево и оставаться там без сна и пищи; или же он мог быть разжалован в пастухи, покидал строй и должен был перегонять лошадей и скот. В дивизии нарастало глухое недовольство, ропот и ненависть к барону и его приближённым. Усилилось дезертирство, были даже случаи неповиновения. Однако преобладали внешний порядок и дисциплина, поддерживаемые всеобщей надеждой на то, что после полного провала своего наступления барону не остаётся ничего иного, кроме как повернуть на восток и попытаться пройти в Маньчжурию и далее в Приморье. Это было желание подавляющего большинства отряда, не исключая и пленных красноармейцев, среди которых практически не было случаев дезертирства. Напротив, те, кто бежали в Ургу или перебегали к противнику, практически все были старыми боевыми товарищами Унгерна по Даурии и Забайкалью.
За день до того, как Унгерн со 2-й бригадой отделился от Резухина, уже за полночь я у себя в палатке был разбужен кем-то, кого в темноте долго не мог узнать. Затем я понял, что это Иван Маштаков, оренбургский казачий офицер, которого незадолго перед тем Унгерн взял к себе в штаб. Взволнованным шёпотом Маштаков рассказал мне, что он только что подслушал разговор между бароном и Резухиным, из которого понял, что барон намерен вести дивизию через пустыню Гоби в Тибет с тем, чтобы поступить на службу к Далай-ламе в Лхассе. На робкие возражения Резухина, что дивизия едва ли будет в состоянии пересечь пустыню и обречена погибнуть от недостатка продовольствия и воды, барон цинично заметил, что людские потери его не пугают, что это его решение окончательное; ни ему, ни Резухину нельзя появляться в Маньчжурии и Приморье из-за их прежней деятельности в тех местах. Маштаков добавил, что он уже виделся и переговорил с надёжными офицерами, и они решили убить Унгерна и вручить командование Резухину при условии, что он поведёт дивизию на восток. Если же Резухин будет вести себя, как Унгерн, то убить также и его, а командование доверить одному из старых полковников. Ввиду намерения Унгерна выступить утром и уйти вперёд с большей частью дивизии, Маштаков с офицерами бросили жребий, и Маштакову выпало убить Унгерна сегодня же ночью, когда тот уснёт у себя в палатке после совещания с ламами, которые на лагерных стоянках занимали почти всё его время. Причиной, почему Маштаков пришёл ко мне, было желание предупредить меня и через меня большое число раненых в госпитале, чтобы среди них не началась паника при схватке с Бурдуковским и его комендантской командой, большая часть которой, если она окажет сопротивление, должна быть уничтожена. Там же и тогда же, в моей палатке, при свете умирающего лагерного костра Маштаков тщательно проверил свой «маузер», пожал мне руку и скользнул во тьму так же бесшумно, как вошёл. Разумеется, спать я больше не мог и начал ходить вдоль палаток и подвод, на которых раненые проводили ночь, напряжённо прислушиваясь и стараясь различить звук выстрелов сквозь шум и плеск быстрого Эгин-Гола, бегущего по своему каменистому ложу. Примерно треть мили отделяла меня от палатки барона.
Внезапно я заметил нескольких всадников с двумя или тремя навьюченными лошадьми, которые появились из-за одной из палаток, двигаясь по направлению к ивовым зарослям, покрывавшим песчаный берег реки. Я заинтересовался и, сделав несколько шагов, окликнул переднего всадника. Это был мой помощник Чугунов, за несколько дней перед тем жестоко избитый бароном, и с ним пятеро пожилых людей, мобилизованных в Урге в качестве санитаров. Они собирались дезертировать. О намерениях Чугунова я догадывался и раньше и находил их весьма логичными; его попытка меня не особенно удивила, я лишь предложил ему отложить бегство, так как в отряде скоро произойдут события, после которых легче будет покинуть его всем, кто этого желает. Хорошо было бы отложить побег ещё и потому, что было несколько случаев, когда красные монголы, схватив наших дезертиров, убивали и обирали их без какой-либо попытки передать пленников русским советским властям. Чугунов посовещался со своими спутниками и сказал, что они считают мой совет разумным и готовы остаться в дивизии ещё на несколько дней (однако спустя всего лишь два дня эти люди дезертировали, ускользнув из лагеря в лес прямо среди бела дня; позднее я слыхал, что они благополучно добрались до Урги).
Ни убийство барона, ни задуманный переворот в эту ночь не состоялись. Вернувшись к палатке Унгерна, Маштаков обнаружил, что тот всё ещё проводит совет со своими ламами и несколькими бурятскими старейшинами, и охрана получила строгий приказ никого к нему не допускать. Маштакову пришлось уйти, не исполнив своего плана, потому что уже рассвело, и лагерь начал просыпаться. На другое утро он получил приказ вернуться в свой полк.
Когда части, бывшие с Унгерном, и мой госпиталь тянулись по узкой дороге среди лесов, меня нагнал полковник Эвфаритский, начальник пулемётной команды, а с ним артиллерийский офицер, поручик Виноградов. Оба были моими близкими друзьями, но с Эвфаритским, помимо того, мы были ещё и земляки и знали друг друга со школьных времён. Они подтвердили всё рассказанное мне Маштаковым минувшей ночью, считая это результатом того, что в большинстве своём дивизия не желает ни оставаться долее в Монголии, ни, ещё того меньше, идти на верную гибель в Гоби и в Тибет. Они сказали мне, что всеобщая ненависть к барону с его дисциплинарными методами и всеобщее стремление через зону Китайско-Восточной железной дороги идти в Приморье привели к заговору среди офицеров, в котором участвуют несколько подразделений. Они сказали, что наиболее боеспособные части оренбургских казаков, татар и бурят в любой момент готовы поддержать заговорщиков с оружием в руках; что пулемётчики и артиллеристы тоже участвуют в заговоре; что усталые измученные люди озлоблены и настроены крайне решительно. После того, как Унгерн со своими частями уйдёт вперёд, те офицеры, что оставались с Резухиным, решили потребовать, чтобы он вёл бригаду через Селенгу, и если он откажется, применить к нему насилие, а при необходимости и убийство. После этого Хоботов, который всей душой с заговорщиками, должен был повести их под контролем других офицеров и попытаться достигнуть Селенги. Части авангарда, ушедшие с Унгерном, будут извещены немедленно, как только совершится переворот, после чего в ближайшую ночь они должны будут покинуть Унгерна с его монгольским отрядом и комендантской командой, в расположении которых он в последнее время всегда ставил на ночь свою палатку, стараясь соединиться с 1-й бригадой и вместе двигаться к переправе через Селенгу. Если же барон попытается этому помешать или начнёт нас преследовать, убить его самого и его ближайших подручных из комендантской команды.
В течение двух дней мы спокойно двигались вперёд, не имея никаких известий о том, что произошло позади нас в бригаде Резухина. 16 августа мы остановились; мы прошли Джаргалантуйский дацан и находились теперь в широкой долине, с двух сторон прикрытой грядой лесистых холмов. Это было место примерно в двух сотнях вёрст к северо-западу от Ван-Хурэ и примерно в четырех сотнях – к северо-востоку от Улясутая, в верховьях Селенги и примерно в двенадцати или пятнадцати верстах от неё. Вечером я пошёл навестить полковника Островского, которого незадолго перед тем барон взял в свой штаб. Его палатка стояла в нескольких шагах от палатки барона, входом обращённой в сторону разбитого неподалёку лагеря монгольского отряда под командой князя Биширли-тушегуна. Я нашёл Островского измученным и подавленным. Оказывается, барон, взбешённый тем, что в предыдущую ночь из штаба исчезли его почётные гости, бурятские старейшины и монгольские ламы, которых он собирался держать у себя как заложников, приказал Островскому пешком проделать тридцативерстный переход, выругал его и по прибытии в лагерь заставил залезть на сосну, откуда Островский спустился лишь незадолго до моего прихода. Он сказал мне, что от Резухина нет никаких вестей, и барон этим сильно встревожен; он подозревал, что красные разведчики могли перехватить гонцов от Резухина, и пребывал в нерешительности, не зная, что предпринять. Весь день 17 августа Унгерн провёл, советуясь со своими ламами-прорицателями. Он выслал группу разведчиков приблизительно в том направлении, где мог находиться Резухин, но те, натолкнувшись на красные разъезды верстах в восьми от нас, за дацаном, вернулись ни с чем и привезли одного раненого.
Этой ночью сначала по соседству с госпиталем, а затем в сопках, состоялась встреча заговорщиков, офицеров и присоединившихся к ним старых солдат-фронтовиков. Было решено на следующую ночь по сигналу тревоги седлать коней и двигаться обратно к Селенге. Специально сформированный отряд должен был прикрывать это отступление, и если Унгерн попытается преследовать нас, встретить его ружейным и пулемётным огнём. Участники совещания гарантировали надёжность своих частей при столкновении с Унгерном или красными. Будущим командиром был избран полковник Эвфаритский, которому поручили проработать дальнейшие детали переворота. Я должен был поставить в известность начальника дивизионного обоза В. К. Рериха, старшего брата хорошо известного художника Н. К. Рериха и моего товарища по оружию с тех времён, когда мы оба служили в армии атамана Дутова. Я рассказал обо всём Рериху, повергнув его тем самым в состояние благоговейного ужаса.
Вечером 18 августа[182] прибывший из бригады Резухина татарин-казак был задержан бурятскими часовыми и доставлен к Унгерну. Как я узнал несколько позже, полковник Костерин послал его к Эвфаритскому и ко мне с запиской, в которой сообщал, что Резухин убит этой ночью, что бригада выступила из лагеря и поспешно движется к броду на Селенге, где будет поджидать нас три дня. На тот случай, если первый гонец встретится с какими-либо трудностями, немного позднее по тому же пути был послан второй – оренбургский казачий офицер Калинин. Он должен был передать нам всё на словах и более подробно. Когда татарин повстречался с нашими бурятами, он сумел уничтожить записку; но так как он плохо говорил по-русски, то не смог изложить бурятам, говорившим по-русски ещё хуже, ту версию, которую ему придумали на случай, если его схватят: что он заболел и был послан ко мне в госпиталь. Поставленный перед Унгерном, он потерял всякую сообразительность и хотя никого не выдал, сказал тем не менее, что у них ночью был бой, что сам он бежал сквозь горы и тайгу и был задержан нашими часовыми.
Очевидно, барон что-то заподозрил. Он велел арестовать татарина и наутро подвергнуть его пыткам, что было поручено Бурдуковскому. Командир 4-го полка Марков, принадлежавший к числу заговорщиков, присутствовал при этой сцене и немедленно известил обо всём Эвфаритского. Спустя пятнадцать минут все заговорщики вновь собрались у меня в госпитале. Но прежде чем началось обсуждение, что теперь делать, второй гонец, Калинин, вместе с его раненым братом, лечившимся в госпитале, вошли в палатку и коротко рассказали нам о том, что произошло в бригаде Резухина.
На следующий день после того, как мы с Унгерном ушли, Костерин, Хоботов и командир 1-го полка Парыгин явились к Резухину и, указывая на преобладающее в частях настроение, прямо посоветовали ему принять командование и вести бригаду на восток. Резухин отвечал безумными проклятьями и выгнал делегатов, угрожая им страшной расправой после соединения с бароном. Той же ночью, когда бригада, готовая выступить, уже сидела в сёдлах, Резухин со своей комендантской командой Безродного попытался остановить людей, отдав приказ арестовать и расстрелять командиров. В ответ из рядов загремели выстрелы, и Резухин, раненый в ногу, упал, затем вскочил и побежал в лагерь китайцев, которые ещё не успели сесть на коней, требуя медицинской помощи и перевязки. Безродный и большинство его контрразведчиков разбежались и спрятались в лесу; позднее они попали в руки красных и были расстреляны. Раненого Резухина, лежавшего на земле, и служителя госпиталя, который его перевязывал, окружила толпа. Внезапно какой-то казак вышел вперёд, склонился над Резухиным и со словами «хватит пить нашу кровь, пей теперь свою» в упор выстрелил из «маузера» и разнёс ему голову. Толпа тотчас рассеялась и вскочила в сёдла, но прежде чем выступить, Костерин приказал вырыть могилу и закопать тело Резухина. Гонец посоветовал нам покончить с бароном немедленно или бросить его и идти к бродам на Селенге.
После того, как мы выслушали рассказ Калинина и быстро обменялись мнениями, был принят план Эвфаритского: попытаться застрелить барона, убив также Бурдуковского, ординарцев-экзекуторов и тех из комендантской команды, кто был наиболее предан Унгерну. Предполагалось обстрелять лагерь комендантской команды из пушек, что сделают наши артиллерийские офицеры. Если же полковник Дмитриев воспротивится заговорщикам, он будет подвергнут временному аресту. Приказав всем командирам частей быть готовыми к выступлению при первых выстрелах, направленных против барона, Эвфаритской с четырьмя офицерами и полудесятком людей из пулемётной команды отправился приводить свой план в исполнение. Было около полуночи. В чернильной темноте холодной ночи мы начали быстро седлать и запрягать лошадей. Люди работали без огней, насторожённо прислушиваясь, чтобы не пропустить звука судьбоносных винтовочных выстрелов. Не менее часа прошло в ожидании. Я и лечившиеся у меня в госпитале раненые офицеры обсуждали, что мы будем делать, если наши планы провалятся, когда, наконец, до нас долетели приглушённые звуки револьверной стрельбы, а затем раздались четыре орудийных выстрела, чей огонь прерывистым светом озарил тёмную лесную долину. Это подпоручик Виноградов практически в упор, с расстояния в полверсты обстрелял лагерь комендантской команды Бурдуковского. Его люди в панике разбежались. Теперь поднялся весь лагерь, и в следующие пять минут части потянулись к дороге, направляясь назад, к дацану. Впереди шёл 3-й Бурятский полк под командой войскового старшины Очирова, затем забайкальские и татарские сотни 4-го полка полковника Маркова, а за ними примерно шестьдесят подвод, составлявших мой госпиталь. Обоз, артиллерия, пулемётчики и пехота из бывших красноармейцев находились в тылу. Большинство пребывало в полном неведении относительно того, что происходит. Никто из нас не знал, чем закончилась попытка застрелить Унгерна, и трудно было отыскать кого-либо из стрелявших в темноте и суматохе.
Наконец, из темноты появился один из офицеров пулемётной команды, ушедших вместе с Эвфаритским, и, взволнованный, подскакал ко мне. Он рассказал, что когда они подошли к палатке Унгерна и позвали барона, вместо него выглянули Островский и Львов. Оказалось, что ещё накануне вечером барон поменялся палатками со своим штабом и теперь находился в соседней. Один из заговорщиков, в темноте приняв Островского за барона, выстрелил в него, но промахнулся и был остановлен другими, прежде чем успел выстрелить ещё раз. На звук выстрела из соседней палатки выскочил Унгерн с двумя ламами и был встречен градом пуль. Барон упал на четвереньки и быстро пополз в кусты, окружавшие лагерь монгольского дивизиона. Заговорщики ещё несколько раз выстрелили наугад по кустам, затем приказали штабу садиться в сёдла и немедленно следовать за бригадой. Вслед за этим они поскакали обратно, каждый в свою часть. Теперь к нам присоединились полковники Эвфаритский, Островский и Львов из штаба и ещё кое-кто из заговорщиков. Ни один из них не мог с уверенностью сказать, что случилось с бароном и что он может предпринять, если остался жив. Части были приведены в порядок и поспешно продолжали путь. Меня нагнал есаул М[183]. с группой всадников, кольцом окруживших Бурдуковского, унтер-офицера его команды Мельского и нескольких ординарцев барона. Арестованные, как я заметил, были разоружены и, казалось, пребывали в совершенном недоумении относительно того, что им предстоит. Я понял, что их уводят на смерть, но не сумел найти в себе ни малейшего сочувствия к этим насильникам женщин и душителям детей, которые своей жизнью должны были заплатить за то, что были палачами при главном садисте и маньяке, оставшемся позади. Бурдуковский узнал меня.
– Доктор, куда нас ведут? – крикнул он.
– Туда, куда ты отправил столь многих, – не удержался я от ответа.
Когда мы приблизились к дацану, части остановились на привал, построившись в форме каре в небольшой ложбине. Мы решили дождаться рассвета, так как немыслимо было дальше двигаться в темноте, которая становилась всё гуще. Сотня людей и большое число пулемётов были выставлены в оцепление перед нашими тылами, чтобы предупредить возможное появление барона. Прошло не более получаса; я стоял возле госпитальных подвод, беседуя с группой офицеров, когда послышался стук копыт и сдавленный шёпот: «Барон! Барон!», повторяемый всюду вокруг нас.
Это был Унгерн. Объехав с одного края заградительную цепь перед нашими тылами, он вновь неожиданно появился среди своих войск. Офицеры, окружавшие меня, поспешно бросились в сторону, на бегу выхватывая револьверы и щёлкая затворами карабинов. Полковник Островский и раненый полковник Костромин (позднее он командовал русской бригадой у Чжан Цзолина и был убит в сражении под Шанхаем) тоже достали свои маузеры. Я вытащил мой старый кольт, решив скорее выпустить себе мозги, нежели подвергнуться пыткам, которые ожидали всех нас, если мы попадём в руки барону. Унгерн, плохо видя в темноте и не получая ответов на свои вопросы: «Кто это? Какая часть?», – подъехал, наконец, к колонне 3-го полка и, натолкнувшись на его командира Очирова, пронзительно взвизгнул:
– Очиров, куда ты идёшь? Что ты задумал? Не дождавшись ответа, он закричал опять:
– Я приказываю тебе вернуть полк обратно в лагерь!
– Я и мои люди не пойдём назад. Мы хотим идти на восток и защищать наши собственные кочевья. Нам нечего делать в Тибете, – твёрдо и спокойно отвечал Очиров.
Затем Унгерн поскакал к 4-му полку и начал убеждать людей, стоявших молчаливой массой, остаться и продолжать войну. Перемежая угрозы страшными ругательствами, он говорил им, что от голода они будут глодать кости друг друга, что красные завтра же истребят их всех до одного. Ответом было всё то же упрямое грозное молчание. От 4-го полка Унгерн поскакал к артиллеристам, грубо приказывая им возвращаться в оставленный лагерь, но ни один из них не двинулся с места. Издали барон крикнул мне:
– Доктор, поворачивайте госпиталь и раненых! И затем:
– Рерих, я приказываю вам повернуть обоз!
Было по-прежнему тихо. Наконец, он развернулся лицом к пулемётной команде, расположившейся у подножья холма. Его лошадь толкнула есаула М., который в тот же самый момент в упор выстрелил в барона. Белая кобыла Унгерна, подарок его старого друга атамана Семёнова, одним прыжком взлетела на вершину холма и унесла Унгерна от огня пулемётов, который теперь преследовал его, обратно в долину, откуда он так неожиданно появился.
Нам не суждено было больше встретиться с генералом бароном фон Унгерн-Штернбергом. Сразу после его исчезновения наши части выступили на северо-восток, к переправе через Селенгу. Мы не сумели соединиться с 1-й бригадой; её полки переправились вброд много выше по течению. По дороге в Маньчжурию они были жестоко потрёпаны в боях с монголами, и только небольшой их части с трудом удалось достичь зоны Китайско-Восточной железной дороги, где они и рассеялись. К вечеру 19 августа[184] выйдя на западный берег Селенги, мы тотчас начали переправляться на большой остров посреди реки. Несколько нагнавших нас эскадронов красной конницы попытались атаковать наши тылы и помешать переправе, но попались в западню в ведущем к реке узком ущелье и понесли тяжёлые потери от огня нашей артиллерии и пулемётов, установленных на вершинах окружающих скал. Они поспешно отступили и больше не пытались нас атаковать. Здесь бригаду нагнали двое русских офицеров из Забайкалья, Ш. и С. Они были из монгольской части князя Биширли-тушегуна и рассказали нам о бароне. После тщетной попытки заставить нас вернуться он поскакал обратно и, измученный, с лёгкой раной в боку, лёг отдохнуть в княжеской палатке. На другое утро монголы подкрались к нему, спящему, связали его и, оставив там же, ускакали на юг. Спустя несколько часов его нашли и захватили красные разведчики. Как известно, в ноябре того же года он был судим и расстрелян по приговору Военно-Революционного трибунала в Новониколаевске в Сибири. Офицеры, убежавшие от монголов при появлении Унгерна, целый день провели в сопках, наблюдая за тем, что происходит внизу, а ночью по горам вышли к Селенге и присоединились к нам.
В первую же ночь после этого на острове посреди реки прошёл суд над особо ненавистными палачами из числа контрразведчиков и ординарцев барона. Одиннадцать человек были приговорены к смерти и расстреляны тотчас же.
Интересна судьба наших главных заговорщиков: напуганные ночным появлением барона среди дезертирующей бригады, полковник Эвфаритский, полковники Львов, Марков, подпоручик Сементковский[185] и некоторые другие бежали, страшась гнева барона и думая, что наш замысел не удался. Из всех из них только Марков с одним из своих офицеров позже присоединился к нам; остальные пропали, будучи или убиты монголами, или казнены по приговору красных трибуналов.
После переправы через Селенгу наш отряд под командованием полковников Островского и Костромина выступил в многодневный поход на юг, намереваясь обойти Ван-Хурэ с запада и в этом районе переправиться через Орхон. Мы обошли Ургу с юго-запада и спустились до границ Гоби, обманув бдительность красных, которые стерегли нас к северу и к востоку от Урги.
В Шаин-Шаби, в верховьях Онона, Очиров со своими бурятами покинул нас и двинулся на северо-запад[186]. Мы также позволили всем, кто хотел, уйти в Ургу, которая находилась в руках у красных. Пройдя Ургу с юга, отряд повернул к северу, на Керулене был атакован красными, разгромил их и продолжал двигаться на северо-восток, к озеру Буир-Нор. Здесь мы опять встретили большой отряд красных монголов с русскими инструкторами. Враг вновь был разбит и рассеян. На озере Долон-Нор мы встретились с представителем китайского губернатора Хайлара, высланным к нам для переговоров о разоружении. 6 октября наш отряд, состоявший из восьмисот человек при пяти орудиях и шестнадцати пулемётах, наконец вступил в Хайлар и сдал оружие китайцам при условии, что все желающие будут по Китайско-Восточной железной дороге отправлены в Приморье, где у власти тогда находилось правительство братьев Меркуловых. Таких оказалось около шестисот человек, и через несколько дней они специальным эшелоном были доставлены во Владивосток, чтобы до конца сражаться на этом последнем клочке русской земли, который ещё оставался свободным от власти красных.
Судя по всему, воспоминания предназначались автором к печати, но, видимо, опубликованы не были. Написаны предположительно в конце 20-х – начале 30-х гг. и тогда же переведены на английский яэык для архива Гуверовского института. Местонахождение русского оригинала неизвестно. Публикуются в обратном переводе с английского (N. M. Ribo (Riabukhin). The Story of Baron Ungern-Sternberg Told by his Staff Physician. – Hoover Institution on War, Revolution and Peace, CSUZXX697-A).
V
Д. Алёшин. Из книги «Азиатская одиссея»
(Перевод с английского Г. Л. Юзефович.)
Незадолго до мятежа «рыцарей огня, грабежа и убийства»[187] стало известно, что наиболее доверенный личный советник барона Джамбалон бежал в Маньчжурию, прихватив огромные богатства, доверенные ему бароном.
Также разнеслись слухи, что полковник Казагранди покинул поле битвы и бросился в погоню за другой частью сокровищ барона, которую тот отправил в Улясутай под охраной наиболее верных своих казаков.
Если Джамбалона, воспользовавшегося для бегства автомобилями, поймать не представлялось возможным, то с полковником Казагранди дело обстояло иначе, ибо последний для задуманного ограбления большого и хорошо охраняемого каравана был вынужден взять с собой пятьсот человек войска. Барон отправил Сухарева арестовать Казагранди и доставить его в штаб-квартиру армии. Он поклялся порадовать своих людей такой казнью предателя, что сам дьявол в своей мрачной преисподней содрогнулся бы от ужаса[188]. Я отправился со своим командиром Сухаревым. Мне было приятно оказаться подальше от барона, так как жизнь в его армии была невыносима, и, кроме того, эта экспедиция давала мне возможность присоединиться к друзьям, Виктору и Марьяне, под руководством нашего любимого циника Михаила[189].
Тем временем маленькими группками и большими отрядами в страну стали проникать красные, и путешествовать открытыми долинами стало необычайно опасно. Как следствие, нам пришлось карабкаться по крутым уступам Саян. Форсированным маршем мы быстро приблизились к Улясутаю и рассчитывали настигнуть Казагранди уже к концу четвёртого дня пути. И действительно, около полудня мы увидели его отряд, расположившийся лагерем в укромной долине. Их лошади паслись в стороне, а сами солдаты беспечно валялись на траве. Многие спали. Рядом с большой белой палаткой командира я заметил штандарт с образом Св. Николая, неподвижно висящий в тихом тёплом воздухе. Над кухнями в небо поднимался голубоватый дымок. Дальше, у небольшого ручейка, солдаты стирали бельё и одежду. Земля вокруг них была усеяна яркими жёлтыми, красными, синими и зелёными пятнами, которые, несомненно, являлись постиранным бельём, разложенным на траве для просушки. Повсюду были навалены горы сёдел и амуниции. Также виднелись длинные ряды винтовок, в безупречном порядке составленных в пирамиды по пять штук. Солнце позднего лета мягким покровом окутывало все вокруг; в целом картина производила впечатление полного мира и покоя.
– Теперь-то мы их и возьмём, – резко произнёс Сухарев. Грубый голос командира безжалостно разрушил очарование чудесного полдня, и я почувствовал ужас при мысли, что сейчас мы ринемся вниз по склону, убивая наших же товарищей. Это казалось невероятным.
Мы осторожно спустились в лес. Неожиданно, как это иногда случается летом, пошёл дождь. Казалось, что тёплые капли воды падают на людей в долине предупреждением о грозящей опасности. Весь лагерь очнулся в мгновение ока, и прежде чем мы были готовы атаковать, по пологому западному склону уже взбирались всадники. К нашему неописуемому удивлению, не успели они достигнуть вершины, как раздалась пулемётная очередь, и несколько людей Казагранди упало на землю. С минуту поколебавшись, вся группа быстро повернула назад в долину. Там они перестроились для отражения нападения со стороны неизвестного врага. Мы видели, как вражеская кавалерия преодолевает гребень горы и быстро начинает окружать отряд Казагранди. Наши полевые бинокли объяснили нам смысл происходящего: это была атака коммунистов. Начавшийся бой был жестоким, так как обе стороны слишком хорошо знали, что между белыми и красными милосердие невозможно. Было гораздо лучше погибнуть в сражении, чем живым попасть в руки противника.
Сухарев стоял неподвижно, спокойно наблюдая за развитием событий внизу. Не обращая внимания на ропот своих солдат, он молча вынул шашку из ножен и знаком приказал следовать за ним. Нам показалось, что Сухарев решил предоставить Казагранди его судьбе. В глубоком молчании мы следовали за командиром.
Выйдя в долину, мы сменили рысь на галоп и двинулись в направлении западных холмов. Солдаты, хотя и сохраняя молчание, стали проявлять признаки беспокойства и негодования. Мы поднялись на холм прямо впереди, и вдруг перед нашими глазами открылась панорама боя. Отряд Казагранди быстро отступал. Они безуспешно пытались обороняться, в то время как красные полукругом наступали на них. Казалось, отряду Казагранди грозит неминуемая гибель. Невыразимая ненависть ослепила нас, и без приказа все мы выхватили шашки из ножен. В следующий миг нас оглушил возглас командира:
– Вперёд! В атаку!
Мы ответили громовым «Ура!» и вихрем понеслись вниз по склону в направлении красных. Мы ударили по ним сзади и смяли их тыл внезапной атакой. Началась рукопашная, но красные были слишком потрясены тем, что верная победа была так неожиданно вырвана у них из рук, чтобы оказать нам достойное сопротивление. Тем временем Казагранди воспользовался замешательством противника для решительной атаки с фронта. Красные бросились врассыпную, и мы преследовали их, продолжая рубить на скаку, покуда они не скрылись в лесу. Трубач созвал нас обратно в долину, где командиры перестроили нас в боевом порядке. С заряженными винтовками в руках мы медленно двинулись из долины на запад. Авангард и арьергард защитили бы нас от внезапной атаки. Мы ехали в молчании, внимательно следя за нашими дозорными, двигавшимися в холмах выше нас.
Мы позволили людям Казагранди, среди которых было много раненых, следовать впереди, сами защищая их с тыла. Невдалеке я увидел моего друга Виктора. Очевидно, он был ранен – его правая рука была замотана в окровавленные бинты. Марьяна вела лошадь мужа в поводу, и его винтовка лежала у неё поперёк седла. Позднее я узнал, что когда Виктор получил свою рану, Марьяна доблестно его защищала.
Мы ехали медленно, поминутно ожидая нового нападения, так как наши патрули доносили, что красные следуют за нами. Несколько раз, будучи в удобной позиции, мы останавливались, скрывались за скалами, кустами и деревьями, подпускали противника на расстояние выстрела, а затем неожиданно открывали стрельбу. Они несли тяжёлые потери и каждый раз быстро отступали, будучи не в состоянии до нас добраться.
Так мы двигались весь день и к вечеру въехали в длинную узкую долину, ведущую к Дархат-Хурэ. Вскоре мы приблизились к скальной гряде, пересекавшей ущелье и почти полностью загораживавшей выход из него. На этом месте мы решили разбить лагерь на ночь. За нашей спиной долина тянулась ещё на четыре мили к северу, а затем резко сворачивала к югу – туда, где находился знаменитый монастырь.
Не успели мы наполнить наши котелки свежей говядиной, как караульные на высотах подняли тревогу; враги быстро приближались для новой атаки. Половина наших быстро побежала вверх по склону, залегла там цепью и открыла огонь. Другая часть заняла плацдарм в лесу для защиты отряда с тыла, остальные же вскочили на лошадей для контратаки. Огонь наших стрелков принудил противника остановиться и спешиться. Теперь они продолжали наступать пешком. Тем временем наши конные атаковали и смяли их левый фланг. Красные стали отступать в направлении леса, где их встретили выстрелы засевших там наших. В то же время мы бросились вниз по склону холма и атаковали их с фронта. Враг побежал, оставляя своих убитых и раненых на поле боя.
Наконец, мы получили возможность спокойно съесть свой ужин и немного поспать, правда, не расставаясь с винтовками.
В числе многих других я был назначен в ночной дозор. Мне и пяти моим людям было дано задание наблюдать за значительным участком болотистой низины. Стрелять было запрещено – из оружия нам были оставлены только ножи. При встрече с неприятелем его следовало уничтожить молниеносно и тихо – так, чтобы вокруг никто ничего не услышал.
Мы спустились и без каких бы то ни было происшествий достигли болота. Примерно через четверть часа я приказал своим остановиться – мне послышался звук ног, шлёпающих по воде. Человек, производивший этот шум, должен был быть невероятным невеждой, так как в подобной ситуации никогда не следует отрывать ног от земли, а нужно медленно и по возможности не поднимая продвигать их вперёд. Я знаком скомандовал моим ребятам лечь на болотистую землю. Мы напряжённо прислушивались и вскоре услышали звук следующего шага. Затем мы увидели двух красных дозорных. Мы кинулись на них, сбили с ног, засунули их головы под воду и держали так, пока конвульсии не прекратились и они не затихли. Теперь мы двигались вперёд на четвереньках. Я велел своим людям идти к показавшемуся впереди камню. Там мы могли немного обсохнуть и отдохнуть. Когда мы почти достигли цели, камень вдруг пошевелился. Это оказался ещё один красноармеец, сидевший там неподвижно.
Один из нас вынул нож и всадил ему в спину. Прежде, чем тот успел закричать, мы навалились на него и засунули под воду. Так мы двигались дальше, по дороге прикончив ещё несколько невезучих красных, пока полностью не очистили наш сектор от врага.
Болото, наконец, кончилось, и мы смогли идти быстрее. Вскоре вдали показались огни неприятельского лагеря. Снова ползком мы двинулись в его направлении и внезапно обнаружили, что лагерь пуст, а огонь поддерживается всего несколькими солдатами с целью отвлечь наше внимание. Мы немедленно повернули назад и через час уже докладывали обо всём командованию. Люди были разбужены, лошади осёдланы, и полк бесшумно оставил лагерь, двигаясь на юг. Если бы неприятель окружил и атаковал наш лагерь, то тоже нашёл бы его опустевшим.
Так началась великая игра в прятки. Так как мы потеряли почти половину людей, нам приходилось проявлять необыкновенную осторожность и двигаться по местности зигзагами, всё дальше и дальше уходя к юго-западу, к Улясутаю, который, как мы полагали, был ещё свободен от красных. Противник тоже понёс тяжёлые потери, и мы были уверены, что без новых подкреплений в открытую атаковать он не осмелится. Более того, они всё больше удалялись от своих опорных пунктов.
Тех же, кто всё ещё следовал за нами, мы надеялись измотать непрерывными маршами, а затем тёмной ночью атаковать и полностью уничтожить.
У обоих противников были одинаковые шансы перехитрить друг друга, и обе стороны ждали подкреплений. Мы рассчитывали на две казачьи сотни, отправленные бароном для охраны каравана, шедшего в Улясутай. Красные же в свою очередь надеялись на знаменитый стрелковый полк Щетинкина, прорывавшийся к месту событий. Однако через несколько дней мы обнаружили, что сильно ошиблись в своих расчётах.
Люди барона, оказавшись отрезанными частями Красной Армии от Хотхыла и Мурен-Хурэ, спрятали сокровища в какой-то потаённой пещере в горах и бежали на юг. После невероятных тягот пути они достигли Маньчжурии, откуда китайцы позволили им беспрепятственно проследовать на русский Дальний Восток. Щетинкин же со своими скалолазами вскоре присоединился к силам противника.
Внезапно мы обнаружили, что враг перехитрил нас и превосходит численно. С этого момента жизнь наша превратилась в бесконечный кошмар. Бойцы из отряда Щетинкина расстреливали нас из-за скал, так что в долине мы постоянно находились в полной их власти. Наше число стремительно сокращалось. Однажды я потерял трёх друзей за один день.
Первый был смертельно ранен в грудь при безнадёжной попытке подготовить для остальных плацдарм, дающий возможность скрыться среди скал.
У второго, подполковника Дмитриева, череп был прострелен так, что были повреждены оба зрительных нерва, и он потерял зрение. Он сидел на земле, прижимая руки к лицу, и кровь струилась у него между пальцев,
– Темнота… темнота… – в агонии повторял он. Я бросился ему на помощь. Заслышав мои шаги, он с неимоверным трудом поднялся на ноги и резко сказал:
– Вернуться в строй, кто бы вы ни были!
Поняв, что это я, он попросил меня дать ему ручную гранату. Я выполнил его просьбу, и он пополз в сторону, откуда раздавались пулемётные очереди. Прежде, чем его убили, он успел бросить свою гранату и уничтожить вражеский пулемёт вместе с обслугой.
Третий, бывший купец из Дархат-Хурэ, был убит выстрелом в лоб. Он умер мгновенно. Я перевернул его лицом вверх и увидел, что на губах его застыла счастливая улыбка, словно он попал туда, куда всегда мечтал попасть.
Семь дней и семь ночей красные вели по нам прицельный огонь с гор. У нас не было времени ни на сон, ни на еду. Под конец мы дошли до того жалкого состояния, когда и люди, и кони спят на ходу. Были учреждены специальные патрули, которые должны были следить, чтобы никто не спал на ходу. Меня самого Марьяна однажды поймала спящим в седле и двигающимся в миле с лишком от основного отряда. Но постепенно наши потери начали сокращаться, из чего мы справедливо заключили, что противник находится в сходном с нашим состоянии. Мы нетерпеливо поджидали возможности для мести.
Лишь Богу известно, у какого монастыря мы разбили лагерь на седьмую ночь. Настоятель с несколькими монахами посетил наш лагерь и попросил нас покинуть это место, дабы древние храмы не пострадали от возможного обстрела. В свою очередь они пообещали всю ночь творить мистические обряды с целью помочь нам разгромить врагов в другой битве в ближайшем будущем. Так как первоначально мы рассчитывали использовать высокие стены монастыря как укрытие, за которым мы могли по крайней мере поесть и передохнуть, то сейчас были разочарованы. Но время для ссор было неподходящее.
Мы начали торговаться и вскоре пришли к соглашению. Мы оставляли монастырь, но монахи в ту же ночь должны были провести нас тайными тропами в холмы позади вражеского отряда. Мы оставили палатки в долине и немедленно отправились вслед за нашими проводниками. К рассвету мы занимали замечательную позицию в тылу у большевиков. Теперь мы видели, как они едут по горам, и вплотную следовали за ними.
Как только они заметили наш лагерь в долине, то сразу кинулись в атаку, ожидая захватить нас врасплох. Мы дождались, пока последний человек не спустился в долину, а затем внезапно открыли огонь. Теперь они были беззащитны, и мы просто прицельно расстреливали их. В конце концов они побросали седельные сумки и тяжёлую амуницию и в панике побежали. Но путь к отступлению им был отрезан, и мы уничтожали их, как скот в загоне. Однако каким-то непостижимым образом они сумели найти путь к спасению и вскоре скрылись. Больше мы никогда не видели ни их самих, ни кого-нибудь из их отряда. Победа принесла нам множество винтовок и патронов, одежды и еды.
Мы разбили лагерь на самом гребне гор. На возвышениях были расставлены часовые, остальные же наслаждались обильной трапезой, после которой последовал многочасовой сон. Там-то нас, укрывшихся от мира, и нашли монголы. Они принесли подарки и благословение настоятеля, который просил передать, что с настоящего момента мы находимся под защитой могущественных духов здешних гор и долин и что нам больше нет нужды бояться наших врагов. Они сказали также, что мы можем смело спуститься с опасных высот и спокойно путешествовать низом – окрестности были свободны. Мы сердечно поблагодарили монахов и послали настоятелю хорошую русскую трубку, кожаный бумажник, дешёвые часы и некоторые другие пустячки, которые точно должны были порадовать сердце номада.
Насколько я знаю, это было последнее сражение между красными и белыми. Оно поставило точку в Гражданской войне как для нас, так и для русской революции[190]. Правда, была ещё одна попытка атаковать красных из русского Заполярья, произведённая под руководством генерала Пепеляева, но все её участники погибли среди снега и льда прежде, чем смогли встретиться с красными в бою[191].
На второй наш мирный день мы разбили лагерь на берегу маленькой горной речушки, и солдаты отправились купаться. Я был на дежурстве. С целью размещения часовых я въехал на возвышенность, откуда хорошо просматривались наши позиции. Стоя между дубов на вершине, я неожиданно заметил что-то золотое, поблёскивавшее подле моей ноги. Присмотревшись, я понял, что это погон полковника кавалерии. Рядом лежал другой погон, лейтенантский[192]. Я подобрал оба и отправился показывать свои находки Сухареву.
Сухарев встревожился, мы вернулись на место и тщательно обследовали окрестности. Под кустом мы нашли два скелета, одетых в форму. Во внутреннем кармане у одного из них оказался старый бумажник, содержащий портрет красивой женщины и письмо, отосланное два года назад любящей женой дорогому мужу, полковнику Филиппову.
Они были братьями, кавалерийскими офицерами, и оба служили в нашем полку – один в чине полковника, другой – лейтенанта. Несколько месяцев назад они были посланы Казагранди к Кайгородову с особым поручением. Из этой поездки они так и не вернулись. Мы тогда думали, что, наверное, они предпочли остаться у Кайгородова, который был неизменно добр и справедлив к своим людям. Теперь мы открыли подлинную причину исчезновения братьев – они были убиты Казагранди[193]. Сухарев хотел немедленно повесить Казагранди, но боялся, что это вызовет смуту. Вместо этого он решил арестовать полковника и доставить его к барону Унгерну, который сдержал бы своё обещание и наказал бы полковника за все прошлые злодеяния. Новости о казни братьев Филипповых со скоростью молнии распространились среди солдат, и Казагранди почёл за лучшее собрать своих людей и покинуть лагерь под тем предлогом, что его не удовлетворяла занимаемая позиция. Мы же остались на месте под другим предлогом – якобы мы должны были защищать тыл основного отряда. Однако как только Казагранди скрылся из глаз, мы двинулись вслед за ним.